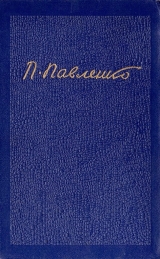
Текст книги "Собрание сочинений. Том 5"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 36 страниц)
Республику Туркмении каменщиками и плотниками строят ученые исследователи. Ее молодое хозяйство сразу поступает под опеку людей с микроскопом, картами, химическими приборами.
Здесь нет ни одной области, которая бы не изучалась, потому что вне этого есть одни области неизученного. Население так редко, а человеческие поселения так мелки, что не мешают науке. Коренная Туркмения не замечает внимания к себе последней. Об экспедициях вскользь говорится только по-русски, результаты же экспедиций вообще, по-моему, никогда никому не известны, если не считать информационных недоговорок хроникальной страницы журнала «Туркменоведение». Если бы каждая из экспедиций включила в свой состав по одному грамотному туркмену и занималась бы со своим выдвиженцем по получасу в день, осталось бы тридцать человек, могущих связно рассказать о полезных целях науки, осталось бы тридцать человек практикантов, тридцать человек, которые бы точно знали науки и то, как помогать осуществлению их в практической жизни.
Но этого нет, и наука сама по себе путешествует по Туркмении, как будто то, что она исследует, ни в какой мере не коснется интересов живущего здесь народа.
«Туркменская искра», вы посылаете ваших рабкоров во все продовольственные очереди, на все прорывы, на все критические участки. Вы – богатая газета. Пошлите ваших лучших рабкоров, в виде премии за работу, путешествовать геоботанически или геометеорологически. Даже без ставки на деловую резонность это будет просто хорошим заслуженным отдыхом для вашего рабочего корреспондента. Эта мера не помешает также и науке.
В 1793 году конвент предложил ученым описать и упростить методы их работы, для того чтобы ими воспользовались студенты или любители из простых граждан. В результате этого упрощения французы нашли способ приготовления стали, ранее ввозимой из-за границы, и разыскали вещество для производства селитры, импортируемой до того из Индии. Селитру искали даже в развалинах Лиона, а натрий нашли в золе лесов, сожженных в Вандее.
Революционеру тех лет принадлежат такие слова: «Пусть сегодня нам покажут селитру, а через пять дней мы уже будем заряжать ею (то есть порохом из нее) орудия».
Аму-дарьинские берегаПятый день на рыжей, громоздко бегущей, растерявшей свои безлюдные берега Аму-Дарье. Но кажется, что уже с того часа, как наш каик отошел от высоких холмов Керкинского берега, прошли недели, и никак не вспоминается бедный распорядок времени, беспокойно проведенного на каике.
Триста пятьдесят или четыреста километров, которые пробегает Аму от границы до Чарджуя, – это один и тот же километр, одурело вращающийся перед глазами, как электрическая мельница городской рекламы. Все те же зелено-рыжие камышовые берега с выглядывающими макушками песчаных барханов слева, с контурами далеких кишлаков справа. Только однажды на крутом обрыве открылась старая крепость – развалины крепости Кушки, как значилось на карте. За крепостью метался крохотный пастуший костер без людей, и даже эта убогая разнообразность нам показалась целым событием. И все-таки в сонном однообразии этой неповторимой реки, почти не знающей пароходов, меняющей русла на десятки метров в сторону за неделю, вырывающейся в пустыню, когда ей заблагорассудится, впечатления нас одолевали, как комары и, отмахиваясь от них, мы напрасно старались раздвинуть время – мы плыли всего-навсего пятый день.
«Тот, кто не думает в Туркмении о воде, не думает о социализме», – говорят здесь. И вот вся неделя до посадки на каик была головокружительной тренировкой по всяческим проблемам, которые здесь выдвигает организованная вода.
Городок Керки для экспедиций за новой водой – то же, что норвежский Тромсэ на берегу Баренцева моря для арктических экспедиций. Он самый известный в научной литературе туркменский город. Все существующие проекты ирригационных путей именно отсюда предполагают начать транскаспийский канал, искусственную реку через Кара-Кумы к Каспийскому морю. Такому каналу должно быть больше тысячи километров, и он должен будет водами Аму-Дарьи оросить юго-восточный кусок пустыни, пополнить недостаток воды в оазисе Мургаба, Теджена и Ашхабада, оросить кусок прикаспийских песков, дать потребительскую воду не могущему развиваться из-за безводья красноводскому порту и водную энергию в своем устье для гигантской электростанции. Едва ли такой канал нам удастся построить в ближайшее время, – техника Запада и Америки не знает примеров подобного масштаба, наука не уверена относительно выполнимости такого гигантского плана, похожего скорее на геологическую фантазию, чем на деловую проблему. Но, так или иначе, вопрос о канале всегда занимал и занимает исследователей, потому что поиски воды – задача здесь боевая и, конечно, сложнейшая. Уже сами дехкане говорят: «Вода у нас разная – есть кулацкая, есть советская, пора заводить воду социалистическую». Социалистическая вода мыслится местными мечтателями как большая, неисчерпаемая, вся рассчитанная на секунды и литры, максимально орабоченная, защищенная от соблазна прогулов и от хищных рук. Все старые водные системы здесь понемногу становятся примитивными, в них многое рассчитано на единоличника, на независимца. То же, что будет построено, окажется не просто большим послушным каналом, а фабрикою воды, удобрением, энергией, водным путем, где бы вода не только орошала, но и работала как сила, поила людей, пожирала солончаки, мыла шерсть и двигала парусники.
Старая система каналов и, главное, методы водопользования претерпевают кризисы. Кто бы мог знать, что появление колхозов скажется на необходимости пересмотреть ирригационные распорядки!
Городок Керки, как бы ни были отвлечены проекты великого канала от Аму-Дарьи к Каспию, остается все же самым важным и ответственным пунктом водных реформ Туркмении. Он лежит вблизи единственного места на левом аму-дарьинском берегу у кишлака Кзыл-Аяг, где возможно благодаря строению почв отворить Аму, пробив в ее боку ворота в пустыню, и где в этом году вместо стройки великого, но еще фантастического канала пробуют в скважину левого берега сбросить паводковые воды Аму-Дарьи прямо в пустыню – течь дорогою древних русел куда им вздумается на сотни километров. Вода свернет пески и вызовет к жизни травы, обогатит иссякающие колодцы – и этим создаст благоприятные условия для развития пастбищ. Эта периодическая искусственная река носит имя – Келифский Узбой, одно из легендарнейших имен в истории туркменской ирригации. Одни называют Келифский Узбой старым руслом Аму, другие видят в нем следы исчезнувшей реки Балх, третьи находят особые объяснения. Следы водного русла, пересекающего пустыню, должны быть объяснены как явления важнейшего исторического порядка, так же как городища первобытных народов, развалины безыменных городов или присутствие в земле неизвестных, но кажущихся важными, ископаемых. По древнему пути безвестных рек инженеры бросают теперь лишние воды Аму, поя пустыню. На пятидесятом километре этой заново пробежавшей реки советского выпуска создан опытный колхоз. Еще в прошлом году там засеяли хлопок на землях пустыни. Хлопок взошел и вырос отлично.
Ниже Чарджуя есть второй сухой след реки, шедшей на чистый запад от Аму до серных берегов Чеммерли, Унгуз. Еще ниже, в дельте, легенды и исследования склоняют на все лады следы бывшей реки Кунья-Дарьи и остатки великого озера Сары-Камыш. Аму идет сквозь пески четырех народов бушующей золоносной жилой. Аму страшна, как ползучий вулкан, ее разливы подобны катастрофам, ее благодеяния чередуются с бедами, и всегдашней заботой здешнего человека было крепко стеречь аму-дарьинские берега.
В Керках, как и всюду, говорят о посевной. Общее мнение, что план будет перевыполнен. В Водхозе – толчея, матерщина, истерика телефонов, на которую никто не отзывается. Земотдел проводил освоение новых, недавно приготовленных под орошение площадей, и колхозы записали за собой десятки километров земли, обязавшись засеять ее хлопком. Водхоз учел водопотребность этих земель при первом весеннем распределении, но вот оказалось, что новые площади засеяны нынче не будут, колхозы не управятся с ними, вода была истрачена, таким образом, зря, без нее оставлены многие старые районы, которые, боясь остаться без полива, прорывают по ночам берега канала и орошают свои поля хищнически, воровски, вредительски.
В Водхозе перебирают виновных – водных надзирателей, земотдельских агентов, уполномоченных по посевной председателей колхозов. Один за другим сбегаются с участков техники. Телефоны орут: «Прорыв! Вода заливает бахчи… Прорыв! Размыта дорога!»
Высокий худой инженер, туркестанец по выдержке, сжав зубы, тихо и спокойно восстанавливает спокойствие. Ему приносят сложнейшие карты и схемы, он погружается в расчеты и нежно размечает карандашом покойную синюю карту. Десятник стоит за его спиной у телефона.
– Что?.. Размыло? – кричит он в трубку.
Он наклоняется к инженеру, будто вернувшись из другого мира, и шепчет:
– Размыло.
– Ага, так, так, так, так, – отвечает худой инженер, не прекращая цифровых выкладок.
Факты и цифры постепенно уточняют ему положение на местах. Он отдает сразу десяток распоряжений, почти бессловных. Так дирижер взмахивает рукой, и толпа музыкантов начинает по этому единому для всех знаку исполнение своих разных – у каждого на особый лад – партий.
Инженер отдает десяток приказаний. Замешкавшийся техник получает одиннадцатое: добежать до исполкома и обязательно поставить доклад Водхоза на вечернее заседание.
Три часа дня. Инженер говорит: «Ну, мне пора. Поздно», – и поднимается из-за стола. Он идет спать. В шесть часов вечера он снова будет в своем кабинете, вечером в исполкоме, ночью объедет работы по заделке прорывов и поприсутствует на первом ночном поливе, а на рассвете будет говорить по прямому проводу с Ашхабадом.
– Зайдите завтра ко мне в два, – говорит он мне.
Два часа дня – его время перед сном. Он уделяет мне двадцать минут, которые у всякого замотанного человека забронированы за газетой и книгой.
Он уступает мне время газеты, других минут у него нет. Мне получить его двадцать минут невыгодно: это минуты его интереса к жизни поверх своего дела. Он расспрашивает меня о новостях Москвы, вместо того чтобы рассказать о воде. Я замыкаюсь в молчании, и он, распространяясь жестами и чмоканьем губ, глядя холодными глазами фокусника, лениво оглушает меня потоком технических откровений.
– Когда вы по-настоящему отдыхаете? – спрашиваю я.
Он говорит расстроенно.
– Вода когда-нибудь отдыхает? Вода всегда течет, будь она проклята.
В его словах зависть к земле, хлопку, железу, всему тому, что может находиться в периодах покоя, пока рука человека не вызовет первого движения материала.
Вода всегда течет, будь она проклята.
В Керках я начинаю чувствовать, что вода в этих краях важнее воздуха и что о ней можно говорить всюду. Судьба ее касается всех, как климат.
Побывав в голове реки Келифа и проехав вдоль недавно открытого Боссага-Керкинского оросительного канала, проведя несколько дней в райисполкомской и водхозной суматохе, беготне и одури заседаний, которыми начиналась здесь посевная, мы сели в каик с чувством страшной усталости и пресыщения виденным. Несколько пустых дней на каике среди безлюдной и однообразной реки были нам необходимы в качестве сна, правда с открытыми, но ничем не смущаемыми глазами.
Из Керков, в полдень, нас провожали ветер на реке и полные дождем, распадающиеся от собственной грузности черно-синие тучи над правым, высоким, берегом. Солнце из-за туч светило прищуренно и вразброд, отдельными лучами. Река бежала со скоростью десяти километров в час, всхлипывая от ветра на гребешках волн и шумя своим подвижным песчаным дном на перекатах.
Еще город не скрылся с глаз, а наши гребцы, задрав халаты, уже много раз вылезали в воду и на плечах снимали каик с шипящих, как растревоженные змеи, отмелей.
Низкий левый берег был в камышах и болотцах, правый – высокий – нес на себе хилые сады, черные бугорки кочевок и дым на горизонте, пока барханы не перебегали этой живой полосы и не спускались к самой воде, мертвя вокруг себя все живое.
Трава становилась седой, берег превращался в песчаный водопад, жизнь исчезала и потом возникала в прежних картинах, будто заранее переставленная вперед.
Ночи были разнообразнее дней, В одну из пяти дул «афган» – ветер, ни на что не похожий. Воздух выл и весь целиком метался из стороны в сторону, без перерывов, без отдыха, и ни за что нельзя было скрыться от него. Воздух в ту ночь куда-то прорвался и шел стремительным валом, играя горящими головешками нашего костра. Берег дрожал и прыгал в воду. Река, напыжась, стремилась перегнать воздух и рокотала неприятной, трудно сдерживаемой силой. Мы были в вихре этой дикой ночи, как мореходы погибшего в океане корабля. Молния низких стелющихся разрывов часто освещала оба берега. Пустота, безлюдье забитость берегов возникали в ее огнях.
Какой страшной должна казаться жизнь в этих местах, еще не посещенных человечеством, а только слегка разведанных отдельными людьми! Молнии валились готовыми пожарами на берег Аму, но огонь не прививался на голом песке и не загоралась мокрая от дождя трава. Молнии тут даже нечего было сжечь, только Аму могла залить эти становища бездельных ландшафтов, эти дюны грациозно-музейной стройности, эти километры камышей и болот, в которые прятались звери странных и невыясненных назначений.
Но это было однажды, другие же наши ночи изнемогали от тишины и покоя.
Воздух переносил с места на место легчайшие колебания. Крик сонной птицы, бормотание барса, храп раздраженного кабана были слышны издалека, но так, будто изданы рядом. Воздух собирал звуки порознь и соединял их вместе. Река, ворочая свое дно, шаталась от берега к берегу, то втискивая каик в камыши, то бросая его на крутые отвесы.
Я лежал в одну из таких неправдоподобно долгих и тихих ночей на дне каика и следил за тем, как сияла вода впереди нашей лодки. Воздух светился голубым и зеленым пламенем. Тишина подымалась от реки дурманящим испарением, и голова кружилась от ее обморочной одури.
Встречаясь с природой, человек начинает вести себя, как на давно им покинутой и полузабытой родине. Его слух вспоминает тысячи раздражений, уже отложенных в инстинкте, и открывает в себе способности быть мерой самых незакономернейших движений.
Тишина и та разделяется им на типы. Удивленно и радостно человек начинает чувствовать свое органическое сродство с землею. Он вслушивается в тишину, как в свое собственное дыхание, и – сам не веря себе – открывает умение различать тишину покоя от тишины, которая является сумасшедшим бегом воздуха. Он проникает обонянием во все запахи. Он вспоминает, как можно видеть воздух.
Да, это родина его костей, мяса, крови.
Да, это все его собственные запахи. Это все его движения. Где-то внутри себя человек ощущает существование законов, управляющих реками, облаками, ветром, цветами. Как кусок рафинада на дне стакана с водой, тают рефлексы этих законов отдельными капельками, и тем быстрее, чем горячее вода. Любовь к природе – это тяготение к древней родине своего тела, проще всего – любовь к своему телу. И оно это знает. Оно тянется к земле, руки перебирают траву, голова ловит ветер, как флюгер, и глаза отдаются одним лишь явлениям, забыв, что еще вчера, в городе, за рабочим столом, они умели ловить только события.
Я лежал и думал – и вдруг увидел, что высокий, вверх задранный нос нашей лодки неестественно высоко приподнялся. Так могло быть, если б корма низко осела в воду. Я оглянулся, но все было в полном порядке.
Всмотревшись в положение носа, я увидел, что на него тихо сел для сна громадный степной орел и замер неживым телом.
Один среди природы, человек всегда придумывает способы населить землю, чтобы не быть в одиночестве и сиротстве. Пять дней на пустынных водах Аму, пять ночей у костров на пустынных берегах ее – и вот мы уже населяем эту землю людьми и находим для них в кажущейся пустоте и нищенстве веселые и нужные дела.
От Керков до Чарджуя триста или триста пятьдесят километров. Во всю длину их идут по левому берегу камыши. Камышами же оброс и правый. В камышах и островки на реке. Ими занята во всю свою ширину и аму-дарьинская пойма, а в дельте камыш перерастает и глушит растение, даже дерево.
Так возникает в мозгу неизвестно откуда пришедшее слово – камышит.
Да, о камышите, кажется, что-то писала «Туркменская искра». О камышите что-то дикое в Мерве говорил агроном, – вроде того, что площадь камышовых зарослей в два раза превосходит в Туркмении площадь под хлопком и готова раздвинуться еще более.
Что же о камышите?
Было предложение построить фабрики камышита в городках вдоль Аму, чтобы со временем заменить этим легким, прочным и дешевым материалом шерстяные кибитки кочевников. Изучая пустыню, люди приходили к выводу, что настоящих, чистой воды кочевников в Туркмении нет. Стада не могут ходить сколько заблагорассудится. Летом, когда овцу надо поить три раза в день, чабан не делает за день более семи-восьми километров, все время держась близ известных ему колодцев. Осенью, когда овцу поят раз в день, чабан делает пятнадцать – двадцать километров, а зимою, когда водопой отменяется, так как трава мокра и есть снег, стадо может сделать тридцать или сорок километров за день, но редко уходит от своей базы дальше. Стада кочуют вокруг своих колодцев, не перенося кибиток с места на место, а держа их у сборного колодца. Введение камышитовых домов усилило бы рост и значение базисных колодцев, позволило бы наметить эти постоянные оседлые пункты точками советской работы, бросить на них заготовительную и потребительскую кооперацию, но главное – главное в следующем: камышитовый домик извлек бы из кочевок до семи тысяч тонн шерсти ежегодно.
Камыш заменяет шерсть как строительный материал. Но есть другая шерсть – предмет обихода: шерстяная веревка, переметная сума, сбруя осла и верблюда, чувалы. Есть шерсть – мебель: курджумы для мелочей (шерстяные висячие секретеры и шкафчики), ковры, половики. Надо дать туркменскому комсомольцу пеньковую веревку, рогожу, обычный чувал и сказать: «Введи их в быт, товарищ, вместо шерсти! Давай шерсть промышленности! Перемени моду, заменяй папаху-тельпек тюбетейкой или картузом».
Исчезновение моды на тельпек даст восемьсот пятьдесят тонн шерсти!
Или еще думается о камышите, но по-другому.
Опять – камыш и скот. Туркменское скотоводство, как бы стремительно ни развивалось оно, дойдя до какого-то определенного предела, обязательно, в связи с очередной бескормицей, катастрофически падает и возвращается к исходному положению. В отдельные годы поголовье сокращается на тридцать и сорок процентов. В подъеме и падании установлена даже некоторая периодичность, она кажется скотоводу фатумом, судьбой, ее же не прейдеши, и накануне опасных лет черводар сам разбазаривает свои стада, чтобы не быть разоренным падежом. Помимо больших критических кругов у скотоводства есть критические дни внутри каждого года – скажем, четырнадцать – пятнадцать дней. Их разгром берет от семи до восьми процентов скота. Можно подумать, что пастбища Туркмении перегружены скотом до того, что идет борьба за лишний кустик травы, но нет – пастбища могли бы кормить пятнадцать миллионов голов, а кормят всего лишь четыре. Бездорожье, невозможность подвезти корм оттуда, где он имеется, туда, где в нем нужда, случайности погоды, эпизоотии, отсутствие фуражных баз и незнакомство с другими видами кормов, кроме подножного, вместе с неумением заготовлять даже легкие травяные корма (сено) – не позволяют существовать одиннадцати миллионам голов скота.
В 1929/30 году в Туркмении пало шестьсот семьдесят пять тысяч овец и коз, из них каракулевых сто сорок тысяч. Если считать стоимость головы только в двадцать пять рублей, то убыток превзошел шестнадцать миллионов рублей. Подумайте, что такое для Туркмении шестнадцать миллионов рублей, если в 1927/28 году ее местный бюджет составлял двенадцать миллионов двести восемьдесят восемь тысяч рублей?
И – отсюда значение партийного призыва организовать силосование кормов. Для Туркмении – это одиннадцать миллионов шерстных овец.
Берега Аму – естественная фуражная база. Пейзажи ее берегов питательны. Даже камыш, будучи силосован, дает приличную пищу, а листья его и подавно. Один товарищ подсчитал, что пойма Аму-Дарьи, вот та, сейчас занесенная голубым угаром луны, бассейны двух рек Мургаба и Теджена и предгорья Копет-Дага могут дать около миллиона тонн кормовой массы, то есть в два раза по весу больше, чем требуется на год.
На аму-дарьинских берегах тридцать тысяч га занимает солодка (корень ее здесь, кстати, почти не добывается), сорок тысяч га – тамарикс и верблюжья колючка, тридцать тысяч га – рогоза на островках, а еще камыш, калам, хыша, чаир, кочующие по береговым полосам между барханами и в складках холмов.
А в Германии листья рогозы утилизируются на волокно, пригодное для производства тканей и бумаги, для плетения цыновок и сумок. Из пуха, на который распадаются султаны рогозы, еще в XVIII столетии делали мягкий войлок, пригодный для шляп. Для этого пух смешивали с пухом коз или кроликов. Во время империалистической войны в Германии и во Франции этим пухом пользовались для набивки подушек, для приготовления повязок и других лазаретных принадлежностей. В годы военной блокады в Германии рогоза шла и для целей питания – для киселей. Желтую цветочную пыль из султанов рогозы примешивали к муке, как хорошее питательное вещество. Корневища рогозы идут на корм скоту.
А тростник? Тростник, занимающий в низовьях всех наших рек и по береговым низинам Каспия и Арала неправдоподобно значительные пространства? Во Франции его специально разводят для производства бумаги. Французы утверждают, что трехсот га тростника достаточно для снабжения бумажного завода сырым материалом в течение года, других трехсот га – для обеспечения его топливом. В стеблях тростника до восемнадцати процентов сахара – можно гнать спирт или силосовать стебли на корм.
Но это для наших хозяйственников – фантастика и бред.
Солодкой здесь топят печи, и о том, что солодковый корень можно продать, знают лишь редкие люди.
К весне берега Аму поджигаются, чтобы вызвать рост молодой травы, – и четыреста тысяч тонн кормовых запасов превращаются в пепел.
Специалисты, бесконечно изучающие это простое и не терпящее раздумий дело, утверждают, что за ними нет никакой задержки – надо ставить силосные башни и «косить» берега Аму. Но до сих пор никто их не косит.
Я смотрю на берега, вспоминаю пройденные, раскладываю карту и при луне разглядываю ее и отмечаю пункты возможных силосных установок. И я думаю: если бы между Керками и Чарджуем, создали двадцать силосных баз – падежа здесь в этом году могли бы не допустить.
На берегах Аму растет еще кендырь. В низовьях рек каракалпаки собирают его на волокно. Сто стеблей дают триста граммов волокна. Сто стеблей собирает за день взрослый работник.
И еще проходит время. Оно расчленено на многие меры часов, но не сосчитать, сколько их всех прошло следом за нашим каиком.
Вспоминая, ночи принимаешь за дни, дни – за сумерки. Часы не уложишь в формулу суток, они рассыплются и, рассыпавшись, ничего не показывают.
Но времени много за плечами нашей речной поездки.
Пятый день начинается новой работой скучающей и утомленной мысли.
Теперь возникает тема – туризм. Мозг начинает глодать эту тему, как кость.
В самом деле, нельзя ли вдохнуть производственное начало в туризм?
Ведь собираются же туристы партиями – пройти по крымским берегам, обойти неизвестные ледники, погулять в тайге. Ведь существуют желания размяться, отвлечься от городского труда, увидеть новых людей, новую природу, войти в интересы иных, чем свои, категорий. Почему бы не пробить первые тропы на этих глухих, оторванных от нашей жизни берегах? Туризм – это не всегда безделье, а наш туризм – в особенности. По условиям нашей страны мы – путешественники и кочевники. Нам еще бродить по глухим местам, нам толкаться в природу, нам еще долго тащить ее за собой!
А и до чего же стара, глуха природа здешняя! На нее люди нужны необыкновенной твердости и прочности, а они тут часто случайны и, как природа, неожиданны.
Мне рассказывал местный товарищ, что в одном из приамударьинских аулов два лучших активиста – бывшие соловчане. Просидев три года за басмаческую деятельность, они вернулись грамотными и политически выдержанными людьми, – теперь на них, рассказывал он, держится вся советская работа в ауле. Что ж, может быть! Но поумневших соловчан я все же назвал бы исключением, потому что не они являются ячейкой будущих сельских кадров. Активисты придут в аулы прежде всего из Красной Армии.
Мы жили в Керках в красном уголке туркменского кавполка. Вчерашние чабаны по утрам занимались вольтижировкой. Оркестр из бывших дудукчи учился выдувать легкими военные марши. По вечерам, на досуге, любители песен собирались в кружки и, позванивая шпорами, вспоминали жалобно-восторженные тысячелетние песни своих аулов, – и песни эти звучали, помимо воли певцов, бодро, как частушки, и жалобность их только выигрывала от легкомысленного аккомпанемента шпор. В казармах учат многому. Туркмен-красноармеец не похож на сельчанина. Разница между укладом жизни в кочевье и казарме так велика, что туркмен-красноармеец выглядит какою-то новою особью или представителем особого племени. Гимнастика, которой он занимается впервые в жизни, регулярная пища, здоровый быт, первые гигиенические привычки – все это вырабатывает из него человека другой речи, иных повадок, даже иной манеры говорить. Я уже не говорю о такой мелочи, что он возвращается домой советски-грамотным человеком. В Туркменской ССР не была до сих пор обязательной воинская повинность, но явка добровольцев достигала трехсот процентов. Кадры будущей Туркмении создаются в красной казарме, но и их недостаточно. Работникам туркменских аулов нужна живая и свежая консультация, школам – рассказчики о СССР, полям – сезонники, экспедициям – крепко сколоченные характеры…
Но просыпается наш дарга-капитан. Просыпаясь, смеется неудержимо.
– Что смеешься?
– Что смеюсь? Случай вспомнил, – говорит он. – У нас в ауле кулаков выясняли. Выясняли, выясняли – нет у нас кулаков ни одного. Поехали они в другой аул. Там выясняли – тоже нет. А на базарной площади и у нас и у соседей будки стоят запертые. «Кулаков нет, а будки чьи, ваши?» – «Нет, говорим, это, конечно, кулацкие будки, только кулаки не наши, они к нам по понедельникам приезжают только…» Так и не нашли кулаков в тот раз. А я сейчас вспомнил, где кулаки. В чайханах! У нас базар в понедельник, у соседей – во вторник, дальше, через два часа ходу, – в среду, там еще у кого-то – в четверг. Понял? Везде кулаки, а чьи они – неизвестно. А они в чайханах живут, – сказал он смеясь.
– Или в каиках переезжают, если возможно, – заметил я.
– Да, да, – захохотал он, сообразив. – Только они каждый раз на базар вылезают, а мы ни разу не вылезали до самого города, – поправил он резонно и просто махнул рукой, где была, по его предположению, наша конечная пристань.
И когда, блестяще-голубой, встает впереди над рекою чарджуйский железнодорожный мост – стальной рисунок в полтора километра длиною – и слева от него открываются низкие береговые пакгаузы и начало города, вдруг чувствуешь, как нестерпимая бредовая усталость одолевает тело, но… нужно сейчас же написать о папахах, кому-то сказать о камышовых кормах, дать телеграмму… и хочется крикнуть первому встречному: «Какое число сегодня, скажите?» – и, выслушав, осторожно еще переспросить имя месяца.







