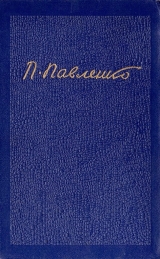
Текст книги "Собрание сочинений. Том 5"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц)
Приволжский день
«Не то приятно, что большой урожай, – сказала мне старуха колхозница по дороге от Вольска к Хвалынску, – а приятно, что у всех. Бывало, одни соберут, другие недоберут, – а тут всем радость, всем хлеб, зависти ни к кому нет, обиды нет».
Саратовская область, особенно правобережье Волги, действительно никогда не видала таких хлебов, как в нынешний год. Это ведь не Дон и не Кубань, а всюду говорят о пятнадцати, двадцати, тридцати центнерах ржи, о пятнадцати, а то и восемнадцати центнерах пшеницы. Немало районов, где рожь ростом с человека и выше. И она густа, ровна, с невиданно ровным и полным зерном.
Хвалынск – север Саратовской области и пасынок ее: дороги дурны, связь с областным центром преступно плоха, железная дорога в восьмидесяти километрах, автопарк района невелик, но и тут, как всюду, необыкновенен и радостен хлеб.
«Этот год – не год, а пятигод», – острят старики.
Меловые, чуть-чуть позелененные низкой травой холмы Чернозатонских гор придают местности вокруг Хвалынска отпечаток привычной, но сдержанной бедности природы. Безлюдные склоны холмов не веселят глаза и как-то обедняют и полевой ландшафт.
Не было еще такого года, как нынешний, и здесь.
Когда – не так давно – понадобилось в колхозе «Год великого перелома» определить хотя бы на глаз возможный урожай, на поля вышли старики, видавшие виды. Они долго ходили вдоль полей, качали головами.
– Ну, что думаете, как планируете?
– А ничего не можем подумать, – растерянно отвечали старики. – Сроду такого хлеба мы не видали и, как его считать, совершенно того не знаем.
Между тем погоды в начале лета были тут неважные, многих сильно расстроившие. Но теперь, когда хлеб – вот он, в руках, вера в свои силы, в то, что не погода вывела хлеба, а колхозная работа, крепко вошла в сознание самых отсталых, самых малодушных.
Шутка ли: в прошлом году в колхозе «Год великого перелома», в селе Сосновая Маза, под Хвалынском, на трудодень пришлось менее килограмма зерна, а сейчас поговаривают о шестнадцати и восемнадцати килограммах на трудодень одних зерновых!
15 июля в колхозе «Год великого перелома» уборочные бригады с комбайнами и тракторами вышли в поле, хотя убирать было еще рано. Но хлеб тянул к себе. Звал и не давал покою.
Начальники агрегатов подписывали договора о соревновании, говорили о Полагутине.
Перекрыть рекорды Полагутина – мечта всех комбайнеров Правобережья. Но куда там!
Холмистое, бугорчатое Правобережье труднее для бесперебойной работы агрегата, чем равнины Пугачевского района за Волгой, да у Полагутина и техника была выше и внимание партийных и общественных организаций глубже и разностороннее.
Комбайнеры в Сосново-Мазинской МТС, убирающие поля «Года великого перелома», – народ напористый, но слабо оснащенный техникой. Они всерьез обуреваемы желанием перекрыть полагутинские рекорды, но комбайны их не оснащены, передвижных ремонтных мастерских нет, опыта работы на сцепе двух комбайнов тоже нет.
– Самое главное – рельеф, – говорят комбайнеры. – Нам бы полагутинский рельеф – мы бы рискнули и перекрыть.
Но хотя рельеф у них действительно трудный, дело не в нем, а в том, что трудовой подъем комбайнеров, их бригад и всей массы колхозников как-то не коснулся, не захватил, не увлек руководителей МТС, много говорящих о рекордах, но реально ничем их не подготовивших.
17 и 18 июля полеводческие бригады окашивали углы загонов, делали прокосы для прохода тракторов и комбайнов. Рожь была еще зелена, мягка, но час уборки приближался ощутимо.
Тараканов вызвал Парамонова на соревнование: убирать не менее пятидесяти гектаров за световой день, а всего не менее тысячи двухсот гектаров.
– Дам семьдесят га за день, – ответил тот.
– Экономлю одного человека. Убираю на два комбайна, вместо шести – пятью человеками, считая и себя.
– Идет! И я убираю пятью.
Румяная, ладная кухарка таракановского агрегата, Фомичева, в ярком цветном полукапоте, уже варила лихо лапшу с мясом и жарила молодую картошку. И вагончик бригады был чисто вымыт. А у Парамонова жили еще по-холостяцки, кухарки еще не было, и ребята весь день суетились у машин или ночами изучали маршруты своего сцепа, длину загона, густоту ржи и все это переводили на работу штурвальных.
Наступило 19 июля. Агрегат Парамонова был все еще не освещен. В МТС уверяли, что дело на-мази, свет будет, но света не было. Наконец выяснилось, что отсутствуют провода.
Председатель колхоза Спирин снял провода из правления колхоза, послал Парамонову.
Появилась и кухарка, а вместе с ней уют, смех, песни. Весь колхоз встрепенулся – кто кого?
Тараканов года три работал инструктором на заводе комбайнов, и это наложило на его манеру говорить и действовать отпечаток большой уверенности в своих силах. Бригада у него крепкая, опытная. Парамонов на вид поазартнее Тараканова (обоим им лет по двадцать семь), побыстрее его и по прошлому году известен здесь как опытный полевой комбайнер, в то время как Тараканов славен ремонтом, а в полевой работе его здесь еще не видели. Тараканов строже. Парамонов веселее, проще, – но оба работники смелые, сделаны из того же крепкого материала, что и мастера комбайновой уборки и орденоносцы.
19-го Парамонов вышел на косовицу, и сразу же у него простой за простоем. Рожь невиданной высоты и силы не позволяла вести комбайн на второй скорости, на первой же – барабан и сита не перемалывали зерна. День был пробным, сырое зерно еще сбивалось в комья, но 20-го должны были начать уже все агрегаты.
Парамонов нервничал.
Сейчас трудно угадать, у кого больше шансов на первенство, но весь колхоз охвачен чувством невероятного возбуждения и интереса к этому соревнованию. Не простой азарт причина этого интереса, а глубокая заинтересованность всех здешних людей в решении целого ряда маленьких, почти неуловимых, едва ли формулируемых проблем организации дела, решаемых сейчас соревнованием Тараканова и Парамонова.
Первой вышла на косовицу Дуся Агафонова. Никто не ожидал. Маленького роста, крепенькая, она тихо и робко бегала все эти дни вокруг своего комбайна с колесным трактором, огорченно вздыхала, по десять раз на день лазила под комбайн или мчалась в колхоз улаживать неполадки со снабжением и обслуживанием ее агрегата. И по озабоченному лицу ее, потешно вымазанному копотью, не было как-то заметно, что она уже в полной готовности.
Участок ее – у реки, в низовине; участок росный, сырой. Она вырвалась на косовицу поздним утром – и пошла. За ней сосед по участку, Митрофанов.
Первое зерно нового урожая записано было на весах за Агафоновой.
– Нну! Наша Дуська мировая! – весело закричала кухарка ее агрегата и понеслась рассказывать об успехах в полеводческую бригаду.
Рожь пошла на ток.
– Сколько с гектара? Да считайте вы, будьте прокляты! – кричали на весовщиков и учетчиков.
Но Агафонова не оставляла времени для арифметических размышлений. Подводы и бестарки шли от нее одна за другой к току. Председатель колхоза схватил метровку, стал проверять ширину скошенной полосы, умножать на длину, сбивался, начинал сначала.
Старики колхозники осторожно, недоверчиво и как бы даже недовольно прислушивались к его подсчетам.
– Нет, это что же такое, о! – вдруг растерянно сказал председатель колхоза. И все придвинулись к нему.
– Да не может этого быть! – повторил он, черкая что-то на бумажке.
– Ты скажи, в чем там у тебя… какая цифра?.. Давай сюда!
– Восемнадцать! – еще растеряннее произнес председатель. – Выходит, понимаешь ты, с гектара возьмем не более восемнадцати.
Он бросил метровку, почесал за ухом.
– Восемнадцать, – радостно загудели кругом. – Вот это да!
– Чорт ее знает, я почему-то прикидывал на двадцать! Иль обчелся сейчас?
– Да что ты, что ты! – заговорили кругом взволнованные голоса. – Мы тут сроду ржи не сеяли, да разве тут место, погляди…
Но тут председатель, наверно, вспомнил, что у него по плану значилось двенадцать центнеров с гектара и, трижды плюнув, рассмеялся довольным усталым смехом.
– Да, восемнадцать центнеров, товарищи колхозники! – сказал он и сдвинул на затылок фуражку.
Луна вышла сразу же после захода солнца. Агрегат Агафоновой без огня все еще ползал по участку.
Белесые холмы Чернозатонских гор, сливавшихся с горизонтом, сухими пятнами поблескивали на краю полей. Они были видны далеко, будто луна освещала их с особенной силой.
Была луна, и в голубом, сияющем воздухе ранней ночи все еще желтели, будто оставившие на себе солнечный свет, длинные поля ржи и пшеницы; и чем выше всходила луна, тем ярче светили полевые краски земли. Казалось, что сейчас откуда-нибудь выглянет солнце, – так сияли хлеба.
Вдоль дороги горели костры комбайнерских бригад.
– Сколько? – доносился к телеге звонкий голос.
– Тринадцать и осьмнадцать сотых… неполон день работы… Двести тридцать семь сдала на весы, – теперь уж спокойно и важно отвечал председатель.
И было всем понятно: маленькая, неразговорчивая Дуся Агафонова за десять рабочих часов убрала неосвещенным комбайном тринадцать и восемнадцать сотых га и сдала на весы двести тридцать семь центнеров ржи со своего сырого и самого дальнего от колхоза участка.
1937
Хозяйки
1
На селе в колхозе знатнее комбайнера нет никого. Но в нынешнюю уборку, неожиданно для самих себя, пошли в гору полевые хозяйки, «кухарки и поварихи тракторных, комбайнерских и полеводческих бригад.
Индустриализация сельского хозяйства быстро создает свою культуру полевой жизни, подтягивающей к себе весь основной быт колхоза.
Вот скосили, убрали сено, убрали рожь, уберут пшеницу и подсолнух, поднимут пары, начнут и закончат озимый сев, а там скоро и опять весна, лущение паров, прополка – все в поле.
Поле – производственная площадка – все больше занимает места в кругу колхозных интересов, и именно в поле на производстве складывается новая, полная свежей, молодой поэзии культура колхоза.
Поэзия полевого труда у Некрасова была невеселой, отчаянной, и никаким счастьем не веяло от нее.
Давно нет этой поэзии на советских полях. Но оттого, что ушла забота и не может никак, кроме грустного воспоминания, вернуться старая песня, колхозное поле не стало ни молчаливее, ни суровее. Песня, как и прежде, рождается в поле:
За привалом-то песня не весела.
За работой она складней.
А сидя она не выйдет…
И поют, поют, как никогда не певали раньше. И как шумны, возбуждены ночные дороги, по которым, не глядя на время, идут и идут подводы с зерном, с горючим, с тарой, с продовольствием! Как долги по ночам костры у комбайнерских будок, когда от стана к стану идет озорная, веселая песня, звучат гармошки до самого солнца и молодежь сбегается за много километров глядеть, как будет танцовать приезжий комбайнер.
Каждому новому явлению нужно иметь, как птенцу, свое гнездо, где бы опериться. Полевая жизнь кустится возле тракторно-комбайнерских бригад, и хозяйка тут – все.
До зари встает она, готовит завтрак своим комбайнерам, а проводив их, убирает вагончик, стирает спецовки и белье, готовит обед, выписывает из колхоза продукты, потом бежит с обедом на комбайн, кормит на мостике своего большака-комбайнера или скоренько усаживает бригаду очередями за обеденный стол у вагона и, пока едят они, выкладывает им все новости утра.
Она обычно к обеду все уже знает: и сколько убрали соседи комбайнера, и какой у них выход зерна с гектара, и что привозила кооперация. Но вот кончен обед – и тысячи новых дел встают перед полевой хозяйкой. Она одна в вагоне и, как начальник штаба, отвечает за все. Ей надо увидеть, как поедет мимо механик МТС, чтобы сказать ему про карданный вал, надо поговорить с завхозом насчет продуктов и мыла, получить от массовика газеты (а то как прозеваешь сама получить – никак потом не допросишься) и, наконец, узнать от возчика зерна все окружные новости дня. Если в колхозе плохи ясли и детская площадка, то у хозяйки на руках еще двое-трое ребят. Подходит время чай пить – и, глядишь, заходят отдохнуть, поболтать подруги из полеводческой бригады, и тут выясняется, где у кого будут сегодня танцы и про кого придется спеть запев.
Мы в городе не знаем колхозных песен. Нам все кажется иногда, что тут только и поют, что о тракторах да комбайнах и что своеобразный «конструктивизм» колхозной песенной темы наивен, узок, поверхностен.
Собиратели фольклора, опрашивая колхозных певцов, вносят много мертвого схематизма в понимание колхозной частушки.
– Что тут у вас поют об индустриализации? А что антирелигиозное? А о новом быте что? – спрашивают они и, получив ответ, разносят припев-частушку по разным рубрикам – четыре припева в антирелигиозные, четыре – в индустриальные, четыре – в новый быт.
Но я не слышал, да, говорят знающие люди, и не бывает так, чтобы пели, скажем, весь вечер только о боге:
Ах ты, бог, ты, наш бог,
Где ты обретаешься?
Чай, поди, от аэроплана
Где-нибудь скрываешься!
или только об урожае, о комбайнерах, или, наконец, только о любви.
Частушка – песня гибкая, маневренная. Ее куплеты каждый раз подбираются, монтируются с учетом обстановки песни и с тем обязательным чувством актуальности, которое всегда делает «запев» злободневным, отвечающим только что случившемуся и имеющим в виду реальное лицо.
Когда девушка запевает:
Юбочка коротенька,
Оборочка пришьется,
Я еще молоденька —
Залеточка найдется…
или:
Милый пашет, милый пашет
Черную земелюшку.
Подошла к нему, сказала:
«Запаши изменушку», —
то все догадываются, к кому относятся слова.
Когда парень выскажется, что
Хорошо траву косить,
Которая стоячая,
Хорошо девку любить,
Которая горячая. —
и кто-нибудь в ответ запоет:
Милый мой на сто процентов,
Я сама на двести пять.
Номер с номером не сходится,
Не буду с ним гулять, —
то и тут все понятно, близко поющим.
Поздней ночью в бригаде, где весела, гостеприимна хозяйка, весело всем. За веселую, за приветливую идут бои между комбайнерами. За хороших хозяек спорят с колхозом.
Начинает формироваться хорошая полевая должность – хозяйка.
И странно: в хозяйках нет ни одной пожилой женщины, сплошь девушки.
Недаром в Приволжье много раз слышал я поговорки: «Выбирай хозяйку не в спальной, а при комбайне», «Хозяйка в поле выясняется».
2
В колхозе «Год великого перелома», под Хвалынском, видел я трех хозяек. Из них всех веселее показалась мне Нюра Козлова в бригаде Дуси Агафоновой. Хозяйство ее невелико: один вагончик, легкий обеденный стол перед ним под открытым небом, кипятильник – «кухня» на кирпичах и бочка с водою.
Но была хозяйка вагончика такой простой и приветливой, такой любительницей потчевать гостей медом и мастерицей веселиться, что, казалось, ее вагончик и чище, и богаче, и уютнее других. Она сама вносила столько домовитости, домашности в хозяйство, что казалась всем милой родственницей, нежной сестрой или доброй теткой.
В Красноярской МТС вагончик комбайнера стоит рядом с вагоном тракторной бригады, и две хозяйки превратили свое временное полевое становище в какой-то павильон чистоты и блеска. Вагоны стоят по бокам навеса-столовой. Дощатые стены столовой побелены, на стенах – полочки для посуды, в углу – побледневший от тонкого блеска самовар. Побелены и внутренние стены вагонов. Портреты вождей в рамах, убранных искусственными цветами, обильно украшают их. У лестницы вагона – сырая тряпка для ног. На столиках в вагонах – книги, гармонь, фикус. А сами хозяйки, глядя на мирную чистоту своего стана, моют мочалками скамьи и табуретки.
Это не стан, а дом.
Невдалеке работает мастер комбайновой уборки Пабст.
– Вы вот у него посмотрите на хозяек, – сказали мне. – Вот это невесты, это хозяйки!
Дело шло к вечеру, к ужину, когда показался стан Пабста. Здесь два вагона по бокам крытой столовой, – но какие вагоны! Во-первых, один был целиком женский, на четыре кровати; другой – исключительно мужской, на восемь душ. Во-вторых, чистота убранства была до того непередаваемой, что страшно было войти и коснуться пыльной рукой белоснежных, лихо отглаженных простынь, подкрахмаленных пододеяльников и прямо-таки театральных в своей нарядности подушек. Стены выбелены и еще подкрашены розовой краской, над постелями-койками нечто вроде ковриков, каждая койка за занавесью, а пол – пол такой мягкой, удивительной чистоты, что его можно коснуться щекою.
Одна из хозяек возилась у «кухни», вынесенной подальше от вагонов, другая катала тесто рядом со столовой. Она была в фартуке, и ее обнаженные сильные руки ловко и красиво работали с тестом.
На ужин готовились кнели, нечто вроде сваренных в кипящем масле пышек, и домовитый запах масла и теста стоял над полевым станом.
Хозяйство было великолепно и, вынесенное на люди, на обозрение всего мира, как-то особо влекло к себе. Тут было уютно жить и работать. Это был прочный дом, гордый собою, уважающий себя.
В тот же вечер, часом позже, пришлось увидеть мне стан, где хозяйкой Софья. Было уже поздно. Давно готовый ужин ожидал бригаду, еще работающую на дальнем краю загона, и хозяйка, сидя в столовой, задумчиво играла на балалайке.
У нее тоже два вагона, но столовая – не навес, а вполне серьезное сооружение с дверью, заполненное добром, как иная хорошая изба.
Во-первых, тут стоял шикарный ларь, обитый железом; во-вторых, полочки на стенах были не только побелены, но еще и убраны искусно вырезанной бумагой; над дверями и окнами столовой и вагонов повешены белоснежные занавески, а земляной пол столовой и земля перед вагоном посыпаны тонким желтым песком.
Цветы, книги, два зеркала, расшитые какие-то штуки на стенах, репродукции персидских миниатюр и десятки мелочных вещей кухонно-домашнего обихода, привезенных сюда как бы в расчете на долгие годы ничем не тревожимой жизни.
Но, кажется, только еще сегодня перебралась Софья на новое место, а дня через три-четыре снова перекочует вслед за своим комбайном, соберет, уложит и еще раз или два развернет в чистейшем блеске свое удивительное и радостное хозяйство.
А по степи шел ветер в те дни, и было пыльно и жарко.
Но пыль как бы миновала стан Софьи и ни в какой мере не касалась его.
– Ну как же тут народ спит? Ведь с комбайна приходят пыльные, в масле, тут ведь никак не убережешься.
– Э-э, да ведь она не пускает так просто в вагон. Пока не вымоешься, не сменишь одежды – не пустит, строже любой старухи!
А между тем была Софья безусловно веселым и сердечным человеком, добрее доброго, и строгость ее шла не от характера души, а от характера дела, которому сама она придавала особую торжественность.
Как удалось выяснить, ни одна из девушек – полевых хозяек – никогда не вела в своей обычной домашней жизни столь сложного и трудоемкого хозяйства, а то маленькое, что было у них дома, никогда не доводилось до такой праздничной высоты.
– А почему так? – спросил я.
– Тут весело, вот почему, тут почет есть. Все могут видеть, какая она ловкая, быстрая, чистая, изобретательная.
– Еще и потому, – подсказал другой, – что тут она сама себе голова – как думает о жизни, так и хозяйничает!
Пожалуй, это было самое верное: как думает о жизни, так и хозяйничает.
И какой могучий и смелый организатор общественной жизни растет в такой кухарке, красиво думающей о быте!
1937
На Куликовом поле
Путь от Тулы к местам Куликовской битвы, в Куркинский район, однообразен, но в чертах этой однообразности есть много чудесного очарования. Невысокие косогоры, заросшие лесом, овражки, петля студеной реки Уперчи и стройные, четкие оазисы товарковских угольных шахт, окруженные квадратами, должно быть искусственно насажденных, лесов.
Поля, кругом поля. Хлеб убран. Жнивье блестит горячим желтым блеском, и черны, свеже черны пространства (не скажешь – ни пашни, ни участки!), – пространства, засеянные озимью.
Ночь, но на дорогах людно. Обозы доставляют на тока последний хлеб, везут солому, забрасывают горючее для осенних работ. Впереди Куликово поле – место исторической русской битвы, более великой, чем поражение гуннов Атиллы на Каталаунских полях.
8 сентября 1380 года по старому стилю на сырой, болотистой Куликовой поляне, окруженной стеною древних лесов, между реками Непрядвой на северо-западе и Доном на востоке и северо-востоке, встретились русские с войсками Золотой орды.
Ополчения русских земель прибыли к месту встречи. Серпуховские, белозерские, тарусские, каргопольские, ростовские, елецкие, московские, псковские полки насчитывали более полутораста тысяч. Во главе их шли лучшие военачальники – сам Дмитрий Иванович Донской, великий князь Московский, Владимир – князь Серпуховской, два брата – князья Белозерские, боярин Бренок, воевода Боброк-Волынский. Русь выставляла всю свою мощь и славу. Татар, в числе тысяч четырехсот, вел опытный, испытанный в боях полководец Мамай.
От летописцев дошло, что накануне боя стояла тихая и теплая ночь. Вообразить ее, глядя на теперешние места сечи, уже невозможно: все – другое.
Но ту ночь хочу и буду воображать. Она – во мне. Не сохранив ничего о своих дальних предках, знаю, однако, что они были на этом кровавом поле, – не могли ведь не быть; и поле это – мое, и курган на костях – мой, и памятник над ним – моим предкам, и та слава, что никогда не пройдет, – есть и мое личное прошлое, потому что я русский. Я горд, что они – прадеды – победили и что я ответственен за землю, на которой я не просто житель, но теперь и хозяин. И весь я полон этим прошлым, как тем, что составляет меня.
На заре 8 сентября русские поднялись первыми. Густой туман, быть может схожий с тем, что сейчас восходит из ложбин и оврагов, высоко поднимая линию горизонта, долго задерживал построение войск, но был выгоден для разведки. Дмитрий Иванович выслал засаду в лес, вдававшийся в Куликово поле, поручив ее храбрейшему из князей – Владимиру Серпуховскому.
Утро началось поздно, но дружно. Русские были готовы к встрече. Русские двинулись первыми и встретили татар на краю Куликова поля яростными криками: «Москва! Москва!» Полки Орды тихо спускались с холмов у села Михайловского. Низенький, жилистый Мамай пропускал мимо себя отряды. Татары шли тучей, в темных кольчугах, темных шлемах, с темными щитами цвета степной пыли. Шли сомкнуто. Русские остановили свой центр примерно в нынешней Куликовке.
История Руси и соседних ей братских народов решалась на пространстве двадцати километров более чем полумиллионом людей. Средневековье не знавало подобных сражений ни по масштабу, ни по кровопролитию, ни по итогам. Русь сбрасывала на Куликовом поле не только гнет с себя, но и состояние страха со всей Европы.
Битва началась тотчас же, как только противники сблизились. Татары ринулись на русский центр и, рассыпавшись поодиночке, стали врываться в русские ряды, коробя их и разбивая на звенья. Центр держался упорно, но удары ордынцев, следовавшие один за другим, прорвали его – полки покатились назад.
Дмитрий Донской с трудом собрал их на середине поля, может быть как раз вблизи вот этого памятника на высоком кургане. Полмиллиона человек сгрудились теперь на пространстве пяти-шести километров.
К вечеру татары стали одолевать русских. Знамя Москвы было изрублено. Лучшие полки рассыпались. В тот страшный час уже почти решенного сражения Дмитрий Донской, дравшийся вблизи своего знамени, сам, говорят, бросился к лесу торопить засадный полк. Человек тучный, тяжелый, он пал, сшибленный ударами перенявших его степняков, но Владимир Серпуховской и воевода Боброк уже вводили в дело свои резервы. Тут были отборные московские и серпуховские части. Они ринулись в тыл татарам, занявшим поле.
Было уже темно. Полки стремились по ветру, дувшему с юга, в глубокий тыл Мамая и врезались с хода. Тут все побежало к Непрядве и еще далее – к Красивой Мечи, на Дрыченскую дорогу, километров за тридцать пять от Куликова поля. Полки хотели гнать татар дальше, но воеводы уговорили остановиться.
Восемь дней русские хоронили на Куликовом поле своих убитых. Летописцы утверждали, что в живых осталось всего сорок тысяч, татар же погибло до трех сотен тысяч, над братской могилой насыпан был высокий курган, тот самый, на гребне которого стоит сейчас высокий чугунно-бронзовый памятник великому подвигу русского народа.
Пять или шесть колхозов сошлись сейчас на Куликовом поле. Один из них так и называется – колхоз «Куликово поле». Он невелик, но красиво, крепко стоят его кирпичные избы, и на улице, у колхозного амбара, весь день стоит шумная кутерьма – веют прошлогоднее зерно из фуражного фонда. Урожай этого года был приличным, да и с прошлого года осталось порядочно хлеба.
Там, где при царе перебивались одною рожью и где теперь сеют и рожь и пшеницу, через год-другой поля займутся кок-сагызом – культурой, дающей доходу тысяч пять-шесть с гектара. На Куликовом поле развернутся плантации каучуконосов, на берегах Красивой Мечи возникнут большие заводы.
Тут, как, впрочем, и везде, – строительная горячка, строительная фантастика, но в районе мало леса, и все фантазии упираются в недостаток материалов. Нужны новые амбары, конюшни, клубы, ясли, нужна новая школа, нужна своя парашютная вышка.
– Нам бы свой музей иметь, – сказал один.
– Зачем?
– Да вот порастаскали, поразвезли добро с нашего Куликова поля, и не найдешь, где что. Жил у нас тут барин Олсуфьев, так у него в сараях, веришь, боле ста кольчуг этих, мечей, щитов, иконок старых валялось. Или у Нечаева – тоже помещик, любитель подсобрать добришко! Или у Чебышева. Музей, церковь выстроили на кургане.
Рядом с курганом действительно стоит церковь. В церкви – грубая базарная живопись под четырнадцатый и под семнадцатый века, несколько ломаных стульев эпохи Петра, два дубовых шкафа, один из них очень древний, итальянской работы, – и это все, что осталось от попыток создать музей славы на Куликовом поле.
Между тем в деревнях и колхозах память о Донском, о битве с Мамаем бытует в виде трогательных сказаний. Некоторые из них записаны литературными работниками тульской газеты, большинство же предоставлено умиранию и забытью.
1938







