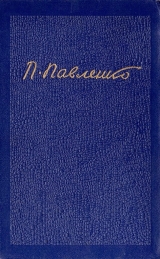
Текст книги "Собрание сочинений. Том 5"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 36 страниц)
Одной из основных причин роста преступности считается необычайно возросшее потребление алкоголя и моральная распущенность молодежи. Журнал «Кольерс» в рекламной статье «Секс в наших школах» как-то сообщил, что в прошлом году пятьдесят тысяч школьниц старших классов родили внебрачных детей.
Вы спросите: что же последовало в результате статьи?
Было учинено следствие? Назначены компетентные комиссии? Сделаны запросы в конгрессе или сенате? Решительно ничего не произошло. Никто ни о чем не запросил, никто ни о чем не позаботился. Школьницы попрежнему рожают, как до сих пор рожали.
Но знаете ли вы, что такое внебрачный, то есть незаконный, ребенок в США?
Вот номер «Нью-Йорк таймс» от 14 марта. В отделе «Развлечения» (!) большая фотография мальчика с длинными волосами, с застывшим от испуга лицом, осторожно гладящего кошку. Этому мальчику четырнадцать лет. С четырехлетнего возраста мать – м-сс Солливэн из Бостона – держала его взаперти, скрывая от всех. Он был ее незаконным ребенком. Кроме него, она имеет трех вполне законных детей, старшему из которых стукнуло уже двадцать лет. Муж бросил Солливэн вскоре после рождения у нее незаконного ребенка. Первые четыре года она держала мальчика в деревне, затем подлинный отец его умер, платить за содержание мальчика стало некому, и м-сс Солливэн, вышедшая – как мы знаем – вторично замуж, взяла мальчика к себе, решив скрыть от всех «грех» молодости. В течение десяти лет она несколько раз меняла квартиры, но всегда находила тайное помещение для мальчика. Некоторое время никто не знал о его существовании.
Четырнадцатилетний Джеральд жил в темной каморке, где стояла только узенькая койка. Мальчик был одет в отрепья и зарос волосами, как дикарь. Случайно он бежал из своей тюрьмы и обратил на себя внимание полиции. Тут он впервые в жизни увидел яблоко, апельсин, кошку. Говорил он мало, но довольно внятно. Старший сын м-сс Солливэн, капрал флота, рассказал, что ему и другим детям было известно о существовании мальчика в темной комнате; иногда, в отсутствие матери, он даже выпускал Джеральда погулять по квартире, но кто этот мальчик, он не знал, а у матери спросить не смел.
Какая вежливость, подумайте!
Вы опять можете спросить у меня: что стало с этим трагическим ребенком? Я не знаю. Назавтра газеты уже ничего не сообщали о нем. Сегодня он был сенсацией, «товаром», сегодня десятки роскошных машин с богатыми бездельницами торчали у полицейского участка, и миллионерши, у которых на душе бывали грехи почище, чем у м-сс Солливэн, честили ее всеми грязными словами и нежно ласкали испуганного, до смерти уставшего и ничего не понимающего мальчугана, – а назавтра они даже не вспомнили его, – назавтра он утратил интерес и в глазах общества, и в глазах газеты, и о нем перестали вспоминать, будто его и вовсе не было.
И вот в 1948 году в США родилось пятьдесят тысяч таких будущих Джеральдов, о чем с развязностью содержателя публичного дома информирует журнал «Кольерс» в статье «Секс в наших школах». Вы думаете, это бичующая, страстная статья? Научный трактат? Социологическое исследование? Глубоко ошибаетесь. Это просто-напросто реклама журнала, взявшая своей темой тему социального бедствия. Ничто так не привлекает читателя, как неожиданность, бороться же с этой неприятной и вредной для общества «неожиданностью» журналу нет охоты.
Сенсация! Ею живет и печатное слово, и индустрия, и политика!
Сенсация – это самый дорогой и вместе с тем самый ходкий товар в мире.
США – родина сенсации, подобно тому, как Китай – родина шелка; и вывоз сенсации без особого разрешения здесь, вероятно, запрещен, как некогда был запрещен вывоз из Аравии семян кофе, а из Китая – грены шелковичного червя.
За год до нашего приезда в США самой ходкой книжной новинкой была стряпня некоего Д. Эхери: «Как безнаказанно совершить преступление». Эта книжица затмила собой даже зловонную славу бесконечных выпусков «Ната Пинкертона» и «Шерлока Холмса»; и вот то именно, что в школах объявлена крамольной книга Марка Твена «Янки при дворе короля Артура» и ничего не сказано дурного о стряпне Эхери, есть сенсация. Эхери раскупается нарасхват. Двухсот пятидесяти тысяч экземпляров хватает на неделю.
Вот это сенсация! Это бизнес!
Возмутительная история с маленьким Джеральдом тоже бизнес, но однодневный, а известие, неизвестно кем пущенное в обиход, что в штате Висконсин будет начата чистка среди парикмахеров на том основании, что каждый из них способен увлечь в коммунисты двадцать – тридцать человек в час, – заработок длительный и бесконтрольный.
Делая сенсацией бандитизм, детоубийство, половые пороки, американская печать способствует моральному растлению людей. Вернее будет, впрочем, сказать, что не только способствует, а стопроцентно растлевает, ибо там, где даже правосудие низведено до абсурда, потеряна граница между дозволенным и запрещенным, этическим и безнравственным, общественно-полезным и общественно-запрещенным.
3
…В «Дейли миррор» от 24 марта на первой странице фотомонтаж. Усталый Шостакович спускается с самолета. Рядом счастливый, улыбающийся, с сигарой во рту Черчилль сходит с лайнера «Куин Мэри».
«Тысячи протестуют против красных речей».
«Возможность демонстрации евреев-антикоммунистов со звездой Давида».
«Двадцать девять католических организаций посылают свои пикеты к отелю «Вальдорф-Астория».
«Предполагают, что демонстрантов против конференции будет до ста тысяч человек».
Главный инспектор полиции Фристенский любезно заявил лидерам пикетчиков: «Можете выставлять пикетчиков столько, сколько поместится на тротуарах, а тротуары у «Вальдорф-Астории», как вы знаете, широки».
Значит, завтра с утра мы увидим страну «исконной демократии» во всей ее наготе. Интересно. Впрочем, едва ли нас что-нибудь удивит. То, что мы сами успели увидеть, услышать и прочесть в газетах, не оставляло никаких иллюзий относительно так называемой «традиционной американской терпимости» к чужим взглядам.
Примерно за месяц до нашего приезда в США Американская ассоциация университетских профессоров заявила протест против увольнения нескольких ученых «за политические и научные воззрения». Восемь процентов были уволены только за то, что открыто поддержали кандидатуру Г. Уоллеса в президенты (вот тебе и свобода слова!). Три профессора Вашингтонского университета были уволены за бывшую принадлежность к коммунистической партии, а профессор химии Орегонского университета уволен всего-навсего за то, что разделял взгляды Лысенко…
Перед главным входом в двадцативосьмиэтажный отель «Вальдорф-Астория», лучшую в мире гостиницу, как утверждают рекламы, оживление с утра. На четвертом этаже, в одной из многочисленных гостиных, сдаваемых отелем под всякого рода собрания, комитет по созыву конгресса организует сегодня с утра пресс-конференцию. Должны присутствовать все иностранные гости.
Съезжаются фоторепортеры, кино– и телеоператоры, журналисты, делегаты. Перед главным входом от угла и до угла усиленные наряды полиции. Среди полицейских – ни одной женщины. Это очень типично. Женщина – блюститель порядка мыслима лишь в странах с очень высокой общественной дисциплиной. В Нью-Йорке около двухсот полицейских станций и двухсот подстанций, не считая секретных агентов. В первой половине XX столетия на каждые сто девяносто американцев приходилось, говорят, по одному полицейскому, сейчас же – три с четвертью.
Что касается гостей конгресса в защиту мира, то мы вызываем повышенный интерес со стороны полиции. На каждого из нас несколько тайных, явных и даже назойливых агентов. На тротуаре взад и вперед маячат пикетчики всех двадцати девяти католических, всех сионистских, антикоммунистических и всех иных профашистских организаций в количестве примерно ста человек. Это – все, что сумели «послать в бой» из воображаемой армии в сто тысяч человек.
По закону пикетчик не имеет права стоять на месте, он должен двигаться, не мешая пешеходам. И вот, вытянувшись в нитку, гуськом шествуют кто с чем – один со звездой Давида, другой с плакатом, третий с картонным рупором, в который он время от времени трубит. Бросились в глаза опереточный «украинец» в серой смушковой шапке и широких шароварах, подпоясанных поясом, две монашки, несколько легионеров в серых костюмах с позументами, как у цирковых подручных. Все люди немолодые. Некоторые уже «на взводе». Этим легче: не так стыдно прохожих.
Публика откровенно потешается над бессмысленным спектаклем. Кое-кто возмущенно переругивается с пикетчиками. Тем, видно, и самим не сладко, но – заработок! По трояку получат – и то хлеб. Товарищ напоминает, что Черчилля (об этом газеты умолчали) встречали гораздо оживленнее: толпа демократически настроенных нью-йоркцев в несколько тысяч человек преградила ему путь в отель, и дорогой гость президента, говорят, проник в свои апартаменты через черный ход.
Что же в самом деле произошло? Почему против нас нет ни ста, ни двадцати, ни даже пяти тысяч контрдемонстрантов? Разве в США уже иссякли кадры фашиствующих организаций, которых только по официальным данным насчитывается около двух сотен? «Ку-клукс-клан», «Американский легион», «Христианский фронт», «Национальная рабочая лига» и многие другие – где они, эти дружинники крупного капитала, охранники Уолл-стрита? Два года тому назад, в дни съезда «Американского легиона», Нью-Йорк – рассказывают – пережил немало тревожных дней, когда почтенные делегаты безнаказанно группами буйствовали на улицах. Где же они ныне? Вот бы им сейчас порезвиться вокруг «Вальдорф-Астории»!..
Да вот они, все здесь, все сто или полтораста активистов. Мы проходим сквозь их галдеж, почти не заметив его.
В холлах первого этажа «Вальдорф-Астории» чувствуется возбуждение. У площадок перед лифтами толчея. Переброска людей вверх и вниз идет по двадцати пяти лифтам. Нас встречают внизу представители комитета, и по рукопожатиям, улыбкам, взглядам мы сразу понимаем, что попали к людям, которые хотят видеть в нас не врагов, а друзей.
– Не обижайтесь на то, что видели внизу, – говорят нам.
– Не думайте, что это голос народа.
Впрочем, правды ради, надо сказать, что и среди отрекомендовавшихся друзьями терлась какая-то белобрысая сахариново-сладкая фигура, говорившая на языке, отдаленно напоминающем русский. Она улыбалась, осведомлялась, восторгалась, соболезновала…
Фадеев представляет делегацию председателю конгресса профессору Шэпли, невысокому, плечистому, полнеющему блондину в возрасте пятидесяти лет. Его умное, лукавое, освещенное полуулыбкой лицо чрезвычайно симпатично. Держится он просто, вообще у него такой вид, будто он, собственно говоря, ничего не организовывал, а все получилось само собой.
Шэпли – популярный ученый и, надо отдать ему справедливость, оказался очень опытным председателем.
В США председатель – совсем не то, что у нас: нечто вроде конферансье. Он должен представить аудитории ораторов, комментировать их выступления, занимать аудиторию, подогревать ее. Работа, требующая опыта и таланта.
Среди видных организаторов конгресса епископ Моултон, худой старик с лицом аскета. Знакомлюсь с Говардом Фастом. Он – высокий блондин в очках, с прищуренными, близорукими, улыбающимися глазами и открытым, располагающим лицом. По-детски обрадован сообщением, что его хорошо знают, читают и любят в Советском Союзе.
Хочется начать беседу уже сразу часа на два подряд. Где переводчик? Эй, кто там? Кто способен? Друзья, кто хочет помочь? Просим. Нельзя же только улыбаться один другому в рот и жать руки.
Переводчик быстро находится. Это художник Сикорский. Учился, говорит, вместе с Дейнекой. Считается здесь очень знаменитым. Потом подходит еще один художник, тоже русский, но менее знаменитый, потом переводчик русских книг, – этот совсем не знаменит, но русским языком владеет лучше всех остальных вместе взятых.
Фаст напоминает родственника, давно уехавшего из дому, которому все интересно и все надо узнать сразу. Расспрашиваем друг друга о любимых писателях, о посещенных странах, о семьях, о детях. Многое схоже, и это очень приятно.
Здоровается коренастый застенчивый человек. О нем говорят просто:
– «Банда Теккера»!
– Это Айра Уолферт, роман которого «Банда Теккера» у нас переведен.
– Нравится мой роман в Советском Союзе?
– Нравится, – говорю. – Очень страшная у вас тут жизнь, читаем и удивляемся.
– Жизнь… жизнь. Она страшней иной раз любого романа.
Знакомят с Агнессой Смэдли, молчаливой немолодой женщиной в красном жакете. Она беспрерывно курит, точно только что вела нервную беседу и до крайности взволнована. Кто мог подумать тогда, что скоро ей придется покинуть родину и умереть вдали от родного дома, затравленной недочеловеками официальной Америки?
Впрочем, о том, что ее не любят «в сферах», что ее интерес к демократическому Китаю и его судьбе не раз уже трактовался продажной прессой как некая измена отечеству, известно давно.
За несколько дней до смерти Агнесса Смэдли писала из Лондона своим друзьям в демократическую Германию: «Американское военное министерство обрушилось на меня, и я вынуждена была бороться за свою жизнь в США. В течение последнего года я находилась в очень тяжелом состоянии духа. Это длинная и страшная история, которую можно сравнить с историей некоторых немецких антифашистов до и после прихода к власти Гитлера».
Вот Лилиан Хэлман с крепкой, мужской походкой. Что-то решительное, властное и очень спокойное во всех красиво отточенных и не лишенных кокетства движениях.
Вот быстрый, нервный Норман Мейлер. Он только что вошел, но уже спешит…
Вот профессор Дюбуа, представитель негритянского народа. Молодежь с ним отменно почтительна. Невысокий, в старом узеньком пиджаке, с металлической часовой цепочкой поперек жилета, в узких брюках фасона начала века, Дюбуа выглядит очень домашне, очень уютно.
Вот Лоусон, один из виднейших прогрессивных кинодраматургов Голливуда и один из десяти, которым предстоит тюремное заключение за отказ представить в «Комиссию по антиамериканской деятельности» данные о «коммунистической деятельности в кинопромышленности».
Негр д-р Арматто из Северной Ирландии, смущенно улыбаясь, рассказывает, что при въезде в США у него сняли отпечатки пальцев. Мне как-то даже неловко оттого, что я избег этого оскорбления.
Пока делегаты и гости знакомятся внизу, у входа в «Вальдорф-Асторию», положение резко меняется. Пикетчикам профашистских организаций наскучило мотаться без дела, и они гурьбой напали на почтенного Джима Берка, мэра провинциального города. Этот джентльмен собрался на завтрак «цирковых святых и грешников», организованный по случайному стечению обстоятельств в том же отеле, где заседали и мы, но на каком-то другом этаже. Прослышав, что враждебные конгрессу демонстрации ожидались очень людными, и не будучи уверен, что он пробьется ко входу, почтенный джентльмен соорудил себе плакат с надписью: «Мэр Джим Берк идет на завтрак «цирковых святых и грешников» – и смело двинулся, к отелю, неся над собой плакат, как зонтик. Не разобрав, в чем дело, старшина пикетчиков немедленно вырвал плакат из рук Берка Началась драка. Вмешалась полиция. Пикетчик, видя свою оплошность, оправдывался:
– Я думал, что мистер Берк хочет прорваться сквозь наши ряды с рекламой какого-то продукта.
Видя, что из демонстрации ничего не выходит, кроме позора, пикетчики начали помаленьку рассасываться, оставив кордон человек из пятнадцати. Кордон уже не трубил. Впрочем, две монашки все-таки стали на колени и вслух предавали нас анафеме. Они были еще не старые и в своих оригинальных одеждах должны были производить отличное впечатление на одиноких мужчин.
А на четвертом этаже народу все прибывало и прибывало. Съезжались друзья конгресса, прибывали делегаты с мест, заходили пожать руку доброжелательно настроенные журналисты и общественные деятели. Вероятно, толкались тут и работники разведки, но так как отношение к конгрессу со стороны широких кругов прогрессивной американской интеллигенции определялось как несомненно дружественное, агенты были тоже скромны.
Мы, советские гости, все время чувствовали открытое расположение к себе.
– Ваш приезд – наша гигантская победа, – сказал мне один из известных американских писателей. – То обстоятельство, что вы приехали, внушает нам самые оптимистические надежды.
В этот день должен был состояться обед в честь иностранных гостей. Гости были усажены на сцене. Все свои распределились в зале. Официантки зажгли свечи. Свет люстр, юпитеров и свечей нагнал страшную жару, однако никто не жаловался, чтобы не нарушить торжественности. Американцы любят тепло, в комнатах у них жарко, как в бане, хотя сами они сознают, что это вредно.
От нашей делегации с приветствием устроителям конгресса выступил Д. Д. Шостакович.
На этом торжественном обеде, в тот самый момент, когда Шостакович произносил речь, агенты федеральной полиции арестовали двух гостей из Канады, даже не дав им доесть второго блюда. Так и не удалось нам толком рассмотреть канадских путешественников в «страну демократии».
Уже зная об этом неприятном инциденте, получившем широкую огласку в печати и расцененном как поступок, роняющий авторитет правительства США, «Нью-Йорк таймс» 27 марта писала, точно ничего не произошло:
«Соединенным Штатам нечего бояться визита коммунистов и их критики. Наоборот, пусть они увидят разницу между свободой в Америке и России. Пусть они увидят, как интересна жизнь в государстве, где каждый свободен обсуждать все что угодно. Нам незачем впадать в истерику из-за присутствия в Америке горстки коммунистов».
Ну вот мы и увидели, как хороша жизнь в государстве, где арестовывают людей, не успевших произнести ни одного слова, даже и в том случае, когда они не коммунисты.
Сейчас, когда я перебираю свои записи, сделанные наспех, по живому следу событий, передо мной встают все детали. Я вспоминаю аплодисменты при словах «Советский Союз», «мир», «прогресс», «взаимная дружба».
За спинами двух тысяч мирно обедающих людей клокотал бурный мир демократии, не той, о которой лицемерно кричат капиталистические газеты, а той, о которой они боятся говорить, – демократии подлинной, которой, независимо от политических взглядов, бесконечно надоело передоверять свои судьбы нечестным, корыстным и неумным людям.
Когда, уже возвращаясь в Москву, я прочел, что бывший министр обороны Форрестол, испугавшись воя пожарной сирены, в подштанниках бегал по улице, крича о том, что Советская Армия прорвалась в США, я удивился, что речь шла об одном Форрестоле.
Таких, вероятно, сотни, если не тысячи.
4
В «Карнеги-холл», самом большом зале Нью-Йорка, симфонический концерт под управлением дирижера Леопольда Стоковского. В программе «Трагическая увертюра» польского композитора Андрея Пануфника, «Пшеничное поле в полдень» американского композитора Виргиля Томсона, концерт для скрипки с оркестром Сибеллиуса (солист – скрипач Джон Корилиано), отрывки из балета «Гаянэ» Хачатуряна и симфония Брамса. Программа огромная.
Хорошие концерты не часты в Нью-Йорке. Любители музыки готовятся к ним за месяц, за два и наслаждаются музыкой, так сказать, «про запас».
Огромный зал «Карнеги-холл» переполнен. Публика отменно светская, богатая. Дамы в перчатках, вечерних платьях и дорогих мехах, при всех имеющихся у них драгоценностях. Людей небольшого достатка в зале совсем не видно. Им музыка недоступна, дорога.
В зале, конструктивно очень удобном, лишенном каких бы то ни было украшений, стоит оживленный гул. Концерт Стоковского – почти событие. Как только мы усаживаемся в малой боковой ложе балкона, музыканты оркестра один за другим оглядываются в нашу сторону, ища Шостаковича. Вслед за музыкантами начинает осторожно всматриваться в нас и публика.
Первой музыкальной мелодией, услышанной мною в Нью-Йорке, было «Полюшко-поле». Песня исполнялась по радио в качестве музыкальной иллюстрации к какому-то рекламному фокусу.
Сейчас предстояло услышать в серьезном исполнении «Гаянэ», вещь не новую для американских слушателей, и было чрезвычайно интересно поглядеть, как будет реагировать на нее зал.
Идея концерта Стоковского была ясна: дать музыку разных народов. Но разнохарактерность исполняемых композиторов, к сожалению, не создавала единства и гармонии.
Вещь Пануфника, хотя о ней и сообщалось, что она написана в тяжелый для Польши 1942 год и была чудом спасена автором, остальные рукописи которого погибли в варшавском пожаре 1944 года, не произвела на публику впечатления. Безвыходный трагизм ее языка и пронзительные диссонансы не очень дошли до слушателей. То же самое я должен сказать и о музыкальном пейзаже «Пшеничное поле в полдень» Томсона Обе вещи вызвали жидкие аплодисменты. Сибеллиус прошел гораздо лучше благодаря прекрасной игре скрипача Джона Корилиано. Ученик покойного ленинградского педагога Леопольда Ауэра, создавшего школу таких замечательных скрипачей, как Я. Хейфец, Е. Цимбалист и М. Эльман, Джон Корилиано владел стальным смычком и поразительной техникой пальцев. Его вызывали много раз. Заодно похлопали и Стоковскому.
Но вот оркестр начал «Гаянэ» Хачатуряна. Сверкающие звуки лезгинки промчались по залу, заставив слушателей расправить плечи и зашевелить пальцами в такт бурной, полной жизненного оптимизма пляске. Оркестр точно вырос в несколько раз. Тонким рукам Стоковского угрожала опасность быть сломанными звуковым ураганом курдского танца. Я не берусь судить о том, насколько хороша музыка Хачатуряна. Одно могу сказать, что она всем понравилась, – такими бурными аплодисментами ответил на нее разбуженный и возбужденный зал. Я наблюдал Стоковского. Уже немолодой, с усталым лицом кокетливого грешника, с томными движениями изящных рук, он не командует звуками, а как бы уговаривает их, заигрывает с ними.
Музыканты, весьма вероятно, не согласятся со мною, но Стоковский не произвел на меня впечатления сильного мастера, оригинального мыслителя. Не знаю, каким был он в молодости, в расцвете своей славы, а сейчас он откровенно позирует, работает «на публику», что не может не раздражать.
Несколько слов о музыке в США.
Америка – гостиница для музыки. Музыка тут приезжая, привозная, своей нет. То есть она, конечно, имеется, но это безликая, бесхребетная музыкальная похлебка. Это та музыка, которую, как содовую воду, можно получить всюду. Она сродни живописи декаданса. Иногда ее неожиданно встречаешь в Стокгольме под именем шведки или в Риме под кличкой итальянки, но женщина эта – миф, такой в действительности нет и не может быть.
Будучи неспособна говорить на весь мир великими мыслями, понятными на всех языках, модернистская музыка и живопись разговаривают одними и теми же приемами, блудодействуют в общих масках. Это называется у них космополитизмом и расценивается как нечто очень левое.
Не смея высказаться откровенно, многие делают вид, что декаданс – как раз то, что им надо. Но вот письмо одного искреннего человека, опубликованное газетой «Вашингтон пост»:
«За полвека мне пришлось слышать немало музыки в разных городах США и Англии, но никогда еще я не слышал такого бедлама, какой преподносился в эту зиму слушателям в Вашингтоне под видом ознакомления столицы с современным музыкальным искусством, с выдающимися новыми композиторами, способными, судя по всему, создавать только дикую кошачью музыку и сплошную какофонию.
В моем словаре, – а словарь у меня хороший, – говорится, что музыка – это искусство создавать гармонические и приятные сочетания звуков. Но, повидимому, наши композиторы, дирижеры и критики не способны понять разницу между модуляциями Шуберта и звуками пароходного гудка и если уж им необходимо мучить вздором несчастную публику, то пусть они называют свои творения не музыкой, а «акызумом».
Дайте этому новому «искусству» новое название».
И это относится не только к композиторам. Вы включаете радио и слышите очень приятную мелодию в исполнении незаурядного тенора.
Что это? Итальянский романс?
– Едва ли, – объясняет вам знающий человек. – Вероятнее всего, реклама мыла «пальмолив».
Рекламируют соло, рекламируют дуэтом. Какие-то микродраматурги пишут скетчи на темы о сорочках, чулках или резиновой жвачке. Потом поют хором о сливках, о путешествии во Флориду, о каком-нибудь отеле. Реклама, положенная на ноты, – собственно говоря, наиболее популярный музыкальный жанр в Америке.
Музыкальный вздор, исполняемый по радио, – это сонет непременно о чем-нибудь деловом, практическом.
Было бы нелепо предположить, что американцы не любят петь. Во всяком случае миллион итальянцев, населяющих США, поет безусловно. Поют американские славяне. Поют американские негры. Поют евреи. Но того, что мы назвали бы национальной американской песней, в Нью-Йорке не слышно.
5
Пленарное заседание конгресса в защиту мира открылось в том самом «Карнеги-холл», где вчера состоялся торжественный обед. Интерес со стороны передовой американской интеллигенции небывалый. Гостевые билеты на все заседания раскуплены задолго до открытия конгресса, и организаторам пришлось даже выступать в печати со специальным письмом, в котором высказывалось сожаление многим тысячам американцев, оставшимся без билетов.
Иностранные гости размещены на сцене. Профессор Шэпли представил публике каждого из нас. Были оглашены приветствия, полученные конгрессом от Бернарда Шоу, Мартина Андерсена Нексе, Томаса Манна, Жолио Кюри, ирландского писателя Шона о’Кэйси и других. Отсутствующий на конгрессе католический аббат Жан Булье писал в своем приветствии, что необходимо полностью разгромить чудовищный замысел похода атомщиков:
«Не является ли отказ в предоставлении мне права говорить эти истины указанием на стремление к агрессии и нетерпимость под прикрытием словесных требований о свободе религии и защите мира?»
Английский физик Блэккет, автор нашумевшей книги «Страх, бомба и война», в своей телеграмме резко критиковал военный характер Северо-Атлантического пакта.
И приветствие аббата Булье и телеграмма Блэккета были не раз прерываемы дружными аплодисментами аудитории.
Во вступительной речи Шэпли уделил довольно много места критике государственного департамента за недопущение на конгресс представителей многих стран. При упоминании государственного департамента по залу проходило осиное: «З-з-з-з-з-з!»
Не любит Америка своих сегодняшних дипломатов и откровенно презирает их. Здесь настолько несерьезно относятся в частности к Ачесону, что иной раз прямо невозможно убедить собеседника, что недочеловек вроде Ачесона может быть не менее опасен, чем «сверхчеловек» типа Гитлера.
Я сейчас не помню последовательности выступлений. Остались в памяти речи епископа Моултона, редактора «Нью-Йорк пост» Т. О. Тэкри и бывшего специального помощника министра юстиции Джона Рогге.
Слова Джона Рогге: «Когда премьер Сталин говорит, что он хочет говорить о мире, американский народ должен сказать президенту Трумэну, что и ему пора быть готовым к разговору о мире. Это важнее, чем удить рыбу», – были покрыты оглушительными аплодисментами и одобрительным свистом (в Америке свист – не осуждение, а похвала).
И вместе с тем я не могу сказать, что сам Джон Рогге оставил впечатление твердого и до конца принципиального человека.
Он адвокат – следовательно, любитель фразеологии. Как всякий оратор, он, вероятно, любит аплодисменты.
Эти последние можно заслужить острым словцом по адресу нелюбимого правительства. Но словцо далеко не всегда дельце, вот в чем беда.
Взволнованную речь произнес кубинский делегат, поэт Н. Гильен, коренастый, сильный человек с шапкой седых волос на мужественной голове.
– Война не приходит сама собой – ее фабрикуют, – сказал он. – Война – это гигантский бизнес, это нажива на крови, костях и жизни народа.
Профессор Оссовский из Польши говорил о бедствиях, выпавших на долю польского народа в последней войне.
Его слушали с затаенным вниманием. Выступал представитель страны, залитой кровью детей и старцев. Вероятно, в публике были люди, понимавшие польский язык. Они не ждали перевода, а выражали свое одобрение оратору тотчас же.
Начиная с 25 марта тон прессы в отношении конгресса начинает резко меняться. Врать дальше о многотысячных контрдемонстрациях невозможно: конгресс на виду у всех. Невозможно говорить и о том, что «красные москвичи задают тон», ибо наиболее острые критические выступления по адресу правительства США и его империалистической политики принадлежат американцам, которых нельзя даже заподозрить в антиамериканской деятельности.
25 марта в «Нью-Йорк таймс», газете, пожалуй, наиболее развязно разглагольствовавшей о «непопулярности» конгресса, о тысячах пикетчиков против нас, советских гостей, неожиданно появилось письмо бывшего корреспондента той же газеты в Москве – Брукса Аткинсона. Вот это письмо. Оно чрезвычайно характерно для нравов американской печати. Помещая его, «Нью-Йорк таймс» на ходу перестраивалась в своей оценке конгресса, ставя себя в позицию как бы совершенно объективного наблюдателя.
«Редактору «Нью-Йорк таймс».
В течение девяти месяцев, что я работал в Москве, я встречал самое корректное и радушное отношение со стороны русского народа, несмотря на то, что ни тогда, ни теперь я не относился с сочувствием к советской власти. Хотя бы по одной этой причине, я негодую по поводу остервенелости, с какой многие американцы ныне встречают нескольких советских гостей, прибывших в Нью-Йорк на конгресс в защиту мира. Каково бы ни было их личное или официальное отношение к Америке, это фактор второстепенный. Ввиду того, что мы редко имеем в качестве гостей видных советских писателей или художников, тем более желательно, чтобы они вынесли впечатление о нормальной доброй воле Америки».
Добрую волю американской интеллигенции, отвечу я Аткинсону, мы наблюдали без помощи прессы. Мы ощущали ее, встречаясь с сотнями представителей науки и искусства, сидя с ними за одним столом, обмениваясь беглыми, но искренними мнениями о политическом положении в мире.
Людям, которые искренне хотят понять друг друга, нужно очень немного времени, чтобы разговориться. Так оно и случилось. Переводчик, как правило, всегда легко находился. Мы получали также много предложений от частных лиц и общественных организаций посетить их. Наконец цифры, опубликованные на конгрессе, сами говорят за себя в том смысле, что мы имели возможность видеть и слышать наиболее прогрессивных представителей американской интеллигенции. В работах конгресса участвовало две тысячи восемьсот двадцать три человека, в том числе представители восьмидесяти трех научных учреждений; двести сорок пять человек приехали из двадцати одного штата США; один человек приехал из Аляски.







