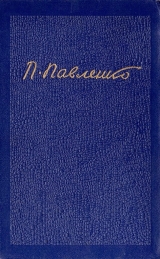
Текст книги "Собрание сочинений. Том 5"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 36 страниц)
Проходит год – и запорожцы с Барабашем в самом Стамбуле. Еще год – и на Украине, после взятия казаками турецкой Варны, родилась песня:
Була Варна здавна славна.
Славни ж Варны – козаки!
Еще три года – и запорожцы с атаманом Шило опять в Стамбуле, – жгут кочермы перед султанским дворцом, на глазах самого падишаха. Затем начинается эпоха кошевого Ивана Серко, когда русские люди с Днепра хозяевали на своем море, как хотели. Северный ветер в Синопе называли «казацким». «Задул норд – жди «чаек», – говорили в Синопе.
Давно нет запорожцев, но свежи предания о них и жива их удаль и, как и в те давние годы, запросто одолимо родное, до последнего мыска изъезженное, испробованное веслами, истыканное баграми море.
Зимой пошла хамса из Азовского в Черное и на короткий срок столпилась в проливе у Керчи – только успевай брать! И точно клич кликнули по морю – за ночь, за две слетелись из-под Азова, с устьев Кубани, из Очакова и Геленджика, из Сухуми и Батуми русские, украинцы, абхазцы, грузины. Лодки – как только на воде держатся: паруса латаные, снасть худая, провоевала всю войну без ремонта, но сколько у всех простой удали, ничуть не удивительной и в то же время почти безграничной, чудесной во всех своих проявлениях. А зимою в Керченском проливе – не сласть, любого морского волка тут качка одолевает, словно новичка, а настырный сквозняковый ветер – «кружало» – выдувает мозги из самых крепких голов!
Да ведь на своем море, на своем дворе любая беда проста.
Воспоминания о том, что было, без труда переплетаются с мыслями о том, что будет.
Года через четыре Крым будет неузнаваем. За это время он изменится, пожалуй, больше, чем за минувшие тридцать, – и изменится не в пустяках, а в самых основных своих чертах.
Кто-то из исследователей и знатоков Крыма сказал: «Самые лучшие места Крыма в сущности еще не известны вследствие бездорожья». В самом деле, если говорить о южном береге Крыма, мы знаем главным образом его береговую часть, почти не знаем предгорья и понятия не имеем о гребне хребта. А там – изумительные сосновые леса, альпийские луга, сказочной красоты ландшафты.
Так вот, в течение первой послевоенной пятилетки южное побережье Крыма будет опоясано электрической железной дорогой. Жизнь, обычно довольно дорогая здесь из-за отсутствия дешевого транспорта, сразу во много раз подешевеет. Приток туристов и отдыхающих вырастет в три-четыре раза. В предгорье, в зоне сосновых лесов, там, где сейчас дико и пусто, будет построено несколько домов отдыха и туристских баз. Несмотря на приток людей, Крым перестанет ввозить овощи из Украины, ибо за эти годы отлично научится производить их у себя, да и не как-нибудь, а по два-три урожая в год.
Он, впрочем, обеспечит себя не только овощами, но и мясом и рыбой. Огромные водохранилища близ Севастополя и Симферополя позволят расширить поливные массивы, всего станет больше – и хлеба, и овощей, и кормовых трав. К концу первой послевоенной пятилетки Крым должен будет стать одной из самых дешевых и плодообильных областей Советского Союза. Его разрушенные города будут отстроены заново. Ясно уже и сейчас, что Севастополь восстанет из пепла гораздо более величественным, чем был. Все случайное, недоброкачественное, что в течение десятилетий затесалось в его архитектурный ансамбль, будет изгнано. Мы увидим благородные очертания нового Севастополя, города – дважды героя.
Керчь, слывшая самым неуютным городом на обоих морях, Черном и Азовском, тоже получит новый облик и окажется зеленым городом, красиво сбегающим террасами улиц со склонов знаменитой горы Митридата. Ее известный историко-археологический музей пополнится материалами Отечественной войны, памятниками и реликвиями потрясающих флотских десантов, которые войдут в историю войны. На полях у Мамы-Русской, у Эльтигена, у Камыш-Буруна встанут памятники героям-морякам, участникам дерзких высадок в Крым.
Преобразится к лучшему и Феодосия. Город этот, чрезвычайно подтянутый и строгий, сохранивший в своей архитектуре характерные генуэзские черты, в течение последних пятидесяти лет посерел. Линия железной дороги нелепо отрезала от города пляжи и море. Люди ходили купаться, пролезая под товарными вагонами. Воды в городе с каждым годом было меньше и меньше.
Между тем сохранились свидетельства путешественников, утверждающие, что Феодосия – город-сад, украшенный удивительными фонтанами, город уютный и водообильный.
Из жутких развалин войны его сейчас начинают реконструировать, имея в виду не только достигнуть прошлого великолепия, но и намного превысить его. Когда-то только удобный порт и город-рынок, Феодосия давно уже стала и курортом всесоюзного значения. Два города в одном. Курортно-парковый полугород развернется на пространстве от галлереи Айвазовского до поселка Сарыголь. От улицы Карла Маркса до моря протянется парк. Железная дорога будет отведена в сторону, и проспект Ленина расширится до тридцати метров. Окружающие Феодосию голые горы будут озеленены и со временем превратятся в горные лесопарки, где вырастут новые санатории и дома отдыха.
На ближайшие пять – десять лет Крым останется, очевидно, тем условным полуостровом, каким он являлся издавна. Но в перспективе Крым – остров, омываемый сразу двумя морями, Азовским и Черным.
Историк семнадцатого века писал, что Перекопский перешеек был прорыт рвом длиною в восемь тысяч шагов, шириною в двадцать аршин и глубиною в семь, и по этому-де каналу ходили даже парусные суда.
Старая идея – соединить мореходным каналом от Каркинитского залива до Сиваша два моря и кратчайшим, не зависимым от морских погод путем связать устье Днепра с устьем Дона – и доныне плодотворна. Тогда Крым в полной мере оправдает свое имя, в переводе на русский означающее: укрепление, крепость, и станет огромным каменным островом почти посредине моря, – островом, пришвартованным канатами шоссейных и железных дорог через Азово-Черноморский канал к степному материку Украины.
1946
На местах сражений в Крыму
Существуют на земле места, где сражения как бы никогда и не прекращались, где могилы одного поколения принимают в себя тела другого, а то и третьего, следующих за первым.
К таким местам принадлежит Перекоп.
Бурые пески его погребли под собою не одну солдатскую душу, и если бы искусство способно было оживить хоть на мгновение звучание всего, что здесь когда-то происходило, – мы бы услышали звон скифских мечей, шум битв славян с пришельцами, вопль монгольских конников и плач полонянок, влекомых из Литвы, Польши или Московии ненасытными крымскими ордынцами, этими пиратами русских степей.
Мы бы услышали улюлюкание запорожских всадников, песни суворовских гренадеров, грохот артиллерии Фрунзе и топот буденновцев. Панорама «Штурм Перекопа» должна была заслуженно увенчать соляные холмы этой безжизненной степи-крепости.
Я был здесь в середине мая, когда солончаки на мгновение оживают, покрываясь красно-розовой сыпью ярких тюльпанов. Не археологи бродили по степи, а инженеры-строители и инженеры-химики, равнодушные ко всему тому, что здесь когда-то было. Их интересовало лишь то, что будет происходить дальше, впереди.
А предвидится немало интересного. У Перекопа и Сиваша, среди многочисленных соляных озер, воздвигнется гигантский химический комбинат, быть может самый большой в Европе, потому что местные условия наиболее благоприятны для этого. Солнце само выпаривает здесь соль в таких огромных количествах, что для искусственной выпарки ее потребовалось бы двести миллионов тонн угля в год! Эту естественную лабораторию наша техника превратит в храм химии, тем более важный, что он будет находиться в соседстве с Запорожьем и Донбассом, Северным Кавказом и Грузией.
Моим проводником был химик, производивший впечатление географа-путешественника тем, что он только и делал, что сравнивал соляные центры Европы с соляными и химическими центрами Азии и Америки, перечислял страны и города, – и выходило, что в этом Перекопе, где солон даже ветер, лет через пятнадцать будет рай земной.
Мне вспомнились строки замечательного стихотворения И. Бунина «Иерусалим»:
… Кровь погибших в боях.
Каждый год, как весна,
Красным маком восходит она.
И действительно, все вокруг было покрыто красными цветами.
Мой проводник говорит:
– Тут мы не один музей можем откопать, Рапá, соль. Человеческое тело в ней мумифицируется. Может быть, мы найдем тут и скифские могилы и могилы запорожцев. А что касается самой панорамы «Штурм Перекопа», то я, знаете, не согласен, чтобы она рассказывала лишь о делах давних. Нужно показать штурм Фрунзе и штурм Толбухина, один через другой, два удара одной и той же волны – нашей, большевистской.
Пытаясь отстоять Перекоп, немцы писали: «Ничем нельзя объяснить нелепую с военной точки зрения сдачу большевиками Перекопа в 1941 году. По существу Крым – остров. Перекопский ров – это сухой пролив, могущий быть в любое время заполненным водой».
И спустя три месяца немцы бежали, а Перекоп остался сухим и по сию пору… Если его чем и заполнили немцы, так только своей кровью.
Но водным каналом Перекопский ров окажется довольно скоро. Тогда увидит перед собой путник, проезжая в поезде вонючие заливы Сиваша, огромные виноградники, рощи маслин и смоковницы на месте сегодняшней пустоши.
Это будет лет через шесть-семь.
Подобное превращение коснется и Чонгара. Когда северянин, не бывавший на юге, видит из окна поезда, пробегающего знаменитый Чонгарский мост, пустыню с верблюжьей колючкой, воронками от бомб и остатками проволочных заграждений да полустертые солнцем плакаты: «Даешь Крым!» – он с грустью думает: «Впереди не может быть ничего доброго».
Но тот, кто ездит через Чонгар несколько раз в году, невольно отмечает резкие изменения в ландшафте. Крымские степи перерождаются в огороды, бахчи, фруктовые сады по нескольку километров длиною и виноградники, в рощи шелковицы, в плантации лаванды и шалфея, табака и винограда.
Таковы нынче поля сражений в Северной Тавриде.
Если бы городам давали прозвища, Керчь получила бы название многострадальной. Ее облюбовали десанты. В ее бухту то и дело влетали юркие морские охотники. По горе Митридат месяцами днем и ночью били пушки. С воздуха ее бомбили без перерыва месяцами. Казалось, что город не только мертв, но просто-напросто стерт с лица земли на веки вечные, и если станет отстраиваться, то, вероятнее всего, на новом месте. Но города живучи. Люди заняли подвалы и погреба, обжились в бомбоубежищах и в пролетах лестниц, залатали домишки на окраинах. На Митридате поднялся ввысь обелиск погибшим за освобождение Керчи. И незаметно началась романтическая работа по подготовке будущей Керчи, которой предстоит как можно скорее появиться на свет из развалин. Будто само время только и ждало случая, чтобы дать место юному городу, перевальному пункту на пути из Украины в Азербайджан и далее, городу-порту на двух морях сразу – Азовском и Черном, городу-рыбаку и городу-нефтепромышленнику.
В Старокарантинных каменоломнях, начало которых относится к Митридату Понтийскому, где весной 1942 года стояла редакция одной из наших политотдельских газет и размещен был большой ремонтный завод, а в дни немецкой оккупации прятались партизаны, – в этих каменоломнях сейчас шумно и людно: пробиваются новые ходы и вовсю развертывается добыча камня-ракушечника для Камыш-Бурунского железорудного комбината и металлургического завода имени Войкова. Завод Войкова – место, известное по многочисленным военным документам как поле одного из самых ожесточенных сражений. Уже в марте 1942 года он был похож на большое кладбище.
И вот это железобетонное кладбище работает в качестве завода, конечно еще не давая стране довоенного количества рельсов – что-то около двадцати процентов всего потребления, но уже стремительно к нему приближаясь.
Спешат и в Камыш-Буруне. Здесь, как и в Керчи, самая дешевая руда в мире, добываемая почти на поверхности. Спешат и нефтяник». Здешняя нефть великолепна, и пора переходить к ее промышленной добыче в широко развернутых масштабах.
Засуетились и газовики. Идея газификации Крыма рисуется им вполне реальной, осуществимой. Тогда Крым превратится в нечто, чему еще нет названия. Он станет тогда той сказочной «Тавридой», к чудесам которой стремилась фантазия древних.
…В Аджимушкайских каменоломнях, расположенных вблизи завода имени Войкова, где некогда теснились фронтовые госпитали, где на стенах еще сохранились душераздирающие надписи партизан, замурованных немцами, сейчас работают круглые сутки. Камень! Камень! За ракушечником приезжают из Новороссийска, из Севастополя, из Николаева. Всюду строят, всюду нужда в материалах.
Среди людей, добывающих камень, многие сражались за Керчь, и с ними поговорить – как в музее побывать. Их рассказы о военных днях так тесно переплетаются с рассказами о сегодняшнем, что присутствуешь как бы при создании нового фольклора.
На Эльтингене, на «огненной земле», где сражались герои-десантники Белякова, где бесстрашный Титов, лежа на плащ-палатке с перебитыми ногами и вытекающим глазом, кричал: «Друзья, вперед! Кто знает Титова – за мной!» – и его, окровавленного, влачили впереди роты, – на этом страшном куске берега, перепаханном десятью тысячами немецких снарядов, тоже наступил мир.
На Эльтингене – руда. Безыменные могилы отважных моряков находятся рядом с полосой разработок. Ни одной могилы не хочет оставить жизнь в состоянии запустения, а окружает их звоном и шумом строек, точно грохот восстановления – это тот неумолчный салют над прахом погибших героев, которым родина чествует мертвых сыновей-победителей.
Случай привел меня в Ленинское, в село, где одно время стоял штаб Крымского фронта. Когда мы покидали это село в мае 1942 года, оно уже и тогда выглядело пыльной кучей камня с несколькими полууцелевшими домами; и мне казалось, что спустя четыре года оно едва ли покажется лучше и чище.
Но странное дело! Деревни и города – почти живые организмы. Пережив еще несколько сокрушительных бомбежек и явившись полем двухдневного боя, Ленинское выглядит ныне гораздо целее, моложе и обжитее, нежели четыре года назад.
Помните, за селом, далеко один от другого, стояли комбайны местной МТС?
Их теперь нет на этом месте. Они, представьте, работают. Кто восстановил Ленинское? И когда это произошло? Очевидно, восстановление началось одновременно с разрушением. Днем бомбы взрывали здания, а по ночам люди латали дыры в зданиях и убирали прочь камень, – восстанавливали, проходя мимо, воинские части; потом стали восстанавливать жители, прибывшие в эти места издалека.
Пустынны, безлюдны были эти места еще летом 1944 года. А сейчас они оживленнее, чем прежде, потому что пришел народ, умеющий строить. Другой раз кажется, будто по ночам кирпичи сами укладываются в стены, а стены сами организуются в здания.
В Ленинском я искал и не нашел семью, у которой жил месяца два в дни войны. Но она не погибла, нет. Просто-напросто старик со старухой перебрались в Семь Колодезей – деревню, сохранившуюся только на картах. Помпея выглядит безусловно уютнее Семи Колодезей. В Помпее сохранились следы улиц и остовы домов, а в Семи Колодезях – ничего, кроме воронок и щелей.
Но те люди, у которых я жил в 1942 году, перебрались в исчезнувшую деревню потому, что хотели быть поближе к железной дороге, а станция «Семь Колодезей», хотя еще в развалинах, но функционирует. Меж пожарищ и воронок уже тянутся опрятные огороды и бахчи и даже цветут пестрые мальвы.
Я не застал дома дорогих мне людей. Но сосед их сказал мне:
– Они живы, здоровы, живут ничего себе. У нас, знаете, климат ведь хороший, родящий, воды только маловато. Но за воду имеем мы такую думку: чтобы артезианским колодцем подзаняться. Как считаете?
Он окинул взором однообразную равнину, лиловую от зарослей чебреца.
– Мы сюда овец тонкорунных из Бухары пригнали. Цельное путешествие проделали. Я как представлю себе, знаете, чего здесь только будет через четыре-пять лет, так слеза радости меня прошибает. И жаль, знаете, что погибшие жизни нашей не видят. Вот увидели бы победу свою и порадовались: далеко идет победа и несет с собой что-то такое, чего не знали мы до войны.
…Интересны здесь воскресные базары. Кто на возах, кто на телегах, на двуколках, верхами! Демобилизованные и отпускные.
Даже девушки и то еще не сняли с себя военной формы, а щеголяют в хромовых сапожках, гимнастерочках с медалями, а то и в черкесках с алыми башлыками. Редкий человек без медали! Послушаешь беседу друзей, и радостно делается на сердце – какие только дороги не пройдены, какие только страны не оставлены позади! Бывалый стал наш человек. Бывалый, степенный и мудрый.
Вот привез продавать поросенка парень с медалью «За взятие Берлина». Вот другой, с костылем, нанимает рабочих в совхоз, – на груди у него среди орденов – медаль партизана. Минеры-автоматчики, артиллеристы, водители машин, обозники, в полинявших гимнастерках без погон, но обязательно в форменных фуражках с цветными околышками, толкуют об урожае, и над базаром колышется дым сложного состава, в котором запах самосада затейливо мешается с запахом трофейных сигар, болгарских сигарет и московских папирос.
А рядом с базарной площадью стоят развалины немецких танков, кое-где уже заросшие крапивой.
1946
В долинах Качи и Альмы
С холмистого плато Бахчисарая сбегают к морю три крохотные по среднерусским понятиям речки – Альма, Кача и Бельбек. Три узкие речные долины образуют три узких оазиса, зелеными потоками бегущих в глубоких оврагах через сухие, каменистые взгорья до самого берега моря.
Лишь острые верхушки тополей, как уши, торчат из оврагов над мутно-желтою степью, дрожащей от нестерпимого зноя.
Хлеба почти все убраны, только овсы достаивают свои последние дни, да розово-фиолетовый шалфей наполняет трескучий от цикад воздух своим сонным запахом, да ярко-желтые, точно отлакированные, круги подсолнухов чисто и как-то звонко сияют в знойной одури дня.
Таких хлебов, как в нынешнем году, давно не знал Крым. Даже на севере, у Перекопа, снимают нынче урожаи под стать кубанским, а в степях поюжнее урожай после двух неблагоприятных лет ворвался в жизнь как сущее наводнение, которого хотя и ждали, по все же не думали, что он будет таким обильным.
В крымских степях хозяйство зерновое, в предгорьях же – комбинированное, смешанное: поля и сады, плантации винограда, табака и эфиро-масличных культур образуют здесь сложный хозяйственный профиль.
Не успели убрать черешню, подоспела пшеница; не успели разделаться с нею, как подходят овсы; за ними огурцы, помидоры, кабачки, ранние груши и персики; приближается пора яблок, подсолнуха, кукурузы; и все лето до глубокой осени будет отвлекать к себе рабочую силу табак – этот кормилец предгорных и южнобережных колхозов.
Дни не имеют начала, не знают конца. Идет напряженнейшее, полное радости и надежды сражение, в котором мало отстающих и совсем нет, как в прежние годы, равнодушных.
Долина Качи длиною всего километров в двадцать пять, колхозы нанизаны на нитку реки, как бусы. Белые и голубые домики то и дело выскакивают по одному на шоссе из глубин старого двадцатикилометрового сада, понизу расчерченного огородами и бахчами. Тут, собственно говоря, две производственные площади; одна на земле, другая – в воздухе, на ветвях деревьев.
Бросаются в глаза то новая крыша, то овчарня, то еще не достроенный птичник, то пасека, еще не заселенная пчелами. За хатами – высокие скирды сена – новинка в крымском ландшафте.
Нигде – ни души. Ни голосов, ни песен, ни лая псов, ни шума машин. Все как бы спит, точно над миром непробудная солнечная ночь. Даже редкие дымки из труб замерли в воздухе, плывя, но не растворяясь.
Вот яблони, каждая с тонной еще не снятых плодов. Тонкие «чаталы» окружили каждую хороводом в тридцать стволов, а они, изнемогая от плодородия, доверчиво обняли их своими уставшими от напряжения ветвями и будто висят на них, а не стоят на земле.
И старые груши тоже развешены на подпорках, и вишни.
Пронесись ветерок, прыгни на ветку скворец – и плоды, которым тесно друг подле друга, посыплются на землю.
В сельце Вишневом, почти у выхода Качи к морю, – колхоз имени Андреева. Председатель колхоза, Евфросинья Ивановна Коноплянникова, – женщина лет под пятьдесят, мать десятерых детей (из них трое погибли на фронте) и бабка трех внуков. Она «спервоначальная», как сама о себе говорит, колхозница и уже десять лет ходит в председателях, – иначе говоря, опытный профессионал, руководитель сложного предприятия, каким стала сельскохозяйственная артель.
Хозяйство небольшое, но пестрое: тридцать три гектара пшеницы, двадцать шесть – овса, двадцать шесть – винограда, семьдесят восемь гектаров садов, двадцать – огородов, шестьдесят три улья пчел, немножко скота. Работников – же всего сто четыре человека вместе со школьниками.
Виноград связывает артель с совхозами винкомбината «Массандра», фрукты и овощи – с консервтрестом, лаванда – с эфиро-масличными заводами. Проблема кондиций каждого вида продуктов, знакомство с технологией переработки их, точное знание, для чего производится то или другое и что из него получится в промышленности, – все это приближает колхоз имени Андреева к сырьевому цеху нескольких заводов сразу.
Здесь выращиваются не просто огурцы, а огурцы для засолки и маринада или корнишоны – недозревшие маленькие огурчики, которые не имеют права быть кривыми и кособокими, ибо не влезут в банку. Здесь знают, что нет винограда вообще, а есть сорта столовые и винные и что из винных одни идут на изготовление шампанского, и им нужна одна сахаристость, а другие – на ликерные вина, и тут нужна другая сахаристость, другое качество.
Председателю колхоза нынче приходится время от времени «поруководить» и сельпо, и клубом, и кинопрокатом.
Без хорошего клуба нет хорошей работы – это теперь понимает любой. Нет хорошей работы и без сельпо. Проблема головного платочка, которым молодая колхозница любит низко прикрыть лоб, чтоб не выгорали брови, – не проблема кокетства, а «творческие условия», как говорит Евфросинья Ивановна Коноплянникова.
Слава о ней в районе – как о женщине суровой, нажимистой и неотвязчивой. О ней с уважением говорят: «Хозяин!»
Наскоро переодевшись в синюю юбку и белую блузку с прошивками и накинув на голову синий с белыми глазками шелковый платок, Евфросинья Ивановна чуть иронически рассказывает о колхозных делах. На вопросы она отвечает скромно, приуменьшая успехи и – на всякий случай – время от времени прибавляя: «Могли бы, конечно, лучше, сама сознаю…» Когда нужно привести какую-либо точную цифру, она как бы припоминает ее. Но вскоре оказывается, что она все решительно знает на память, и когда доходит дело до рассказа о том, как она покупала в Симферополе лес для пчельника и как ее пытались надуть какие-то складские дельцы, становится понятно, почему о ней идет грозная слава.
С таким деятелем, как Коноплянникова, ни одному бюрократу, да если он к тому же и не чист на руку, связываться нет никакого смысла.
Для нее не представит труда позвонить председателю облисполкома, или секретарю обкома, или даже приехать к ним лично и сказать, садясь в кресло:
– Хоть гони, а не уеду, пока лесом мне не поможешь.
И вернется обязательно с лесом.
Коноплянникова даже о самой себе говорит «мы»:
– Мы договорились с райпотребсоюзом.
Или:
– Мы уж имеем опыт, знаем.
У нее нет ничего своего отдельного, она вся – мы.
Вопрос о том, каким будет трудодень, всегда неприятно коробит колхозных руководителей. Его боятся, как моряки – расспросов о сроке прихода корабля в порт.
– Располагаем, – осторожно отвечает Евфросинья Ивановна, отирая губы краешком платка, – рублей по пятнадцать одними деньгами, да овощей по пятьсот грамм, да меду по сто грамм… Ну, да рано еще считать!.. В нынешнем году о трудоднях заботы нет, когда есть семьи – по две тысячи трудодней на счету! Другая жадность напала: строиться и строиться, хоть бы што!.. В прошлом году, – продолжает она, – хожу по саду, по огороду – прямо не за что зацепиться, а в этом где ни пройду – досыта подзаправлюсь. Тут мы и увидели, какой он есть, Крым, когда дает, что положено. Это же разве можно было поверить?
И слово, только что шутливо произнесенное, – жадность, – уже облекается дерзкой мечтой. Хочется закрепить на будущие года изобилие нынешнего лета, подхватить природу под уздцы и не дать ей попятиться назад, как норовистому коню.
Омолодить сады, расширить площадь под овощами, увеличить овчарню и пчельник, подумать о лучшей системе полива, о лучших приемах агротехники.
Успех всегда делает человека храбрее и предприимчивее, открывает в нем дополнительные запасы энергии, а успех этого года таков, что делает чудеса с людьми.
Колхоз имени Андреева – переселенческий. Его состав – орловцы и брянцы, извечные хлеборобы. В старое время им понадобилось бы не одно десятилетие для «обживки» на новом месте. А сейчас, спустя четыре года, люди успели уже забыть, что они переселенцы.
Многое, конечно, и оттого, что под Севастополем каждый русский человек считает себя на коренной родине. Сколько орловских и брянских мужиков сложили свои кости в дни первого Севастополя в узких долинах Качи и Альмы, где теперь раскинуты колхозы, у мыса Лукулл, где ныне купаются пионеры, и на виноградниках Бурлюка, вошедшего в историю Альминского сражения…
Немало было среди брянских и орловских колхозников и участников сначала обороны, а затем штурма Севастополя в дни Великой Отечественной войны. Места эти глубоко русские, памятные и по старинным солдатским песням и по сводкам Информбюро.
– А вы наше море-то видели? Были на нашем море? – рассказав о делах колхоза, вдруг спросила Коноплянникова; и узнав, что не были, по-старушечьи прижала руки к вискам. – Да сейчас же поезжайте, сейчас же! Нашего ж моря нигде нет красивей! – Точно это море она сама приготовила для самых дорогих гостей.
Берег здесь в самом деле не хуже евпаторийского пляжа. Невдалеке за скалой, на юге, – Севастополь. Долина Качи – место ожесточенных боев 1854, 1941 и 1944 годов. Земля вобрала в себя, изгладила воронки и окопы, и только деревья с оторванными верхушками и перебитыми ветвями да развалины школ и домов еще кое-где напоминают о недавней войне. А ведь четыре года назад вся Качинская долина была сплошной траншеей. Один из участников обороны, а потом и штурма Севастополя, приехав нынче в отпуск, так и не узнал, где сражался. Зеленый поток садов все поглотил в себе.
Крым, куда бы вы ни заглянули в него, всегда производит впечатление земли, еще только ищущей своего призвания. Он полон неожиданностей. Его считают горной страной, в то время как настоящие горы занимают здесь не более пяти процентов территории. Крым – садо-степь, окруженная морем.
Между устьем Качи и устьем Альмы, на сухих холмистых равнинах, наперегонки зреют пшеница, кукуруза, подсолнух и виноград. Израненные войною лозы медленно восстанавливают силы. Но это их царство, их простор. Степно-морской воздух придает здесь винограду особый, удивительно тонкий вкус и как бы второй аромат, почти неуловимый в ягодах и дозревающий уже в вине. Но стоит у Берегового спуститься в долину Альмы, как узкая траншея реки сожмет вас в гущине старых и молодых садов, и весь строй жизни напомнит прикубанские станицы И снова запах лаванды. И снова пчелы, которым некогда жалить, изнемогающие от труда и оттого равнодушные к человеку. А к вечеру – пряный запах укропа, незабываемый запах русских деревень перед закатом солнца!
В долине Альмы колхозы расположены один за другим. Не успеваешь выехать из села, как въезжаешь в следующее. Новые крыши, новые стены, молодые сады, пары под озимь на гребнях вверху, плантажи под виноградные плантации на склонах, и овцы, отдыхающие у воды, и шум машин, грузящих дневной урожай.
Колхоз имени 1 Мая ведет отставной офицер Николай Иванович Медведев, дошедший с донским корпусом до австрийских Альп, а после демобилизации приехавший вслед за своей семьею в Крым. Высокий, чуть-чуть сутулый, он слушает сообщения из бригад, нервно разминая в руках погасшую папиросу. В нем бродит азарт ведущего бой командира. Положение сложно. Колхоз дал обещание товарищу Сталину собрать четыреста восемьдесят пудов фруктов с гектара – и выполнит свое обещание, но в тот день, когда я был в колхозе, хлеб еще не весь сдан, хлеб еще в поле, а на краю неба сегодня сдвигаются дождевые тучи, грозят непогодой, транспорт же в разгоне, и нет ни одного свободного человека.
Но именно сейчас, когда урожай захлестывает колхозы, председатели проходят повышенную школу организаторов производства. Не слышно ни одной жалобы на район или область, ни просьбы «нажать» на кого-то или упросить кого-то о чем-то, ни сожаления, что кто-то что-то обещал и вдруг подвел, – как не могло бы этого быть на войне в разгар боевой операции.
Невольно сравниваю я бывшего кадровика-артиллериста Медведева с исконной крестьянкой Коноплянниковой, и мне кажется, что она больше напоминает офицера, чем он – крестьянина. Вообще между ними больше сходства, чем различия. Оба они – люди одной специальности и одного уровня, передовые сельские интеллигенты совершенно новой формации.
Медведев за долгую службу в Советской Армии наверняка призабыл многое из сельской практики. Его ведут не воспоминания детства, а курсы председателей колхозов. Он обращается не к отцовскому опыту, а к книгам. Незадолго до начала уборки, он привез к себе профессора Колесникова, опытнейшего крымского садовода, чтобы показать, как он ведет свои сады, как ухаживает за ними. Профессор похвалил. И оба они, профессор и его слушатель, стали думать над тем, как организовать на будущий год систему поливки садов, чтобы закрепить богатый урожай.
Николай Иванович Медведев ставит много интереснейших вопросов.
– Как быть с учебой председателей? – спрашивает он. – Председатель колхоза, помимо курсов, должен иметь возможность учиться заочно. Но где и как? Заочником сельхозинститута не всякий сможет быть. Надо подумать о специальных заочных курсах для колхозного актива.
– Председатели колхозов мало что видят, кроме своих хозяйств. Хорошо бы собирать их раза два-три в год на областные совещания для обмена опытом.
– Деревне нужен свой хороший журнал, где бы писали и ученые, и писатели, и колхозники, рассказывали бы о научных новинках, о местной инициативе, об отдельных мастерах урожая, о культуре социалистической деревни. У каждого теперь мыслей много, а поделиться ими негде.
Слушая Медведева, невольно перенесся я мыслью в южнобережные колхозы Крыма, где с месяц назад проходили общеколхозные собрания, посвященные борьбе с лодырями. Как много там говорилось о культуре, о морали, о человеческом достоинстве, о трудовой славе! И многое, высказанное месяц тому назад в другом месте, теперь повторялось в словах Медведева.







