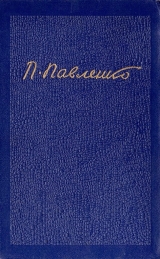
Текст книги "Собрание сочинений. Том 5"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 36 страниц)

Петр Павленко
Собрание сочинений в шести томах
Том пятый
Печатается по постановлению Совета Министров Союза ССР от 21 июня 1951 года

П. А. Павленко 1942 г.
I. 1930–1948
ПУТЕШЕСТВИЕ В ТУРКМЕНИСТАН
Путешествие в ТуркменистанВот уже шесть недель, как я думаю, пишу, говорю, расспрашиваю о Туркмении. Я ничего не читаю, кроме местных газет, и никого не встречаю, кроме местных людей, озабоченный лишь одним – ровнее распределить в себе собранный материал, экономнее и вернее его использовать.
Так записал я, сидя в Туркмении, когда думал, что слова и дела идут одной скоростью. С тех пор прошло восемь месяцев. Я не могу сказать, что я записал все, что видел, как не могу утверждать, что увидел все.[1]1
Поездка была предпринята по Туркмении земледельческой. Туркмения промышленная осталась неузнанной. (Прим. автора.)
[Закрыть]
Мы, шестеро писателей бригады, ехали установить лицо сегодняшнего Туркменистана под всеми мыслимыми углами зрения и, приехав, увидели, что надо писать не углы своих зрений, но кривую позиций труда и быта Туркмении, потому что лет через пять записанное окажется легендой несуществующей старины и на факты сегодняшних записей будут опираться, как на предисторический фундамент, когда станут вычислять кривую туркменского роста.
Метод своеобразной статистики, приемы регистрации ландшафтов, костюмов и характерностей сегодняшней жизни, вещность и фактурность становились совершенно необходимыми, потому что через несколько лет ни одна эмоция, функционирующая в кара-кумских песках, не будет понятной без обрамления ее материалом о почвах и климате, о состоянии коллективизации или положении низшей школы. Туркмения прошлого ликвидируется, последние потомки Тимура и Чингиз-хана съезжают из туркменской истории.
Еще три, четыре, пять лет – и начнет жить другая страна; и мы спешили литературно зарегистрировать сегодняшнюю, которая так и не была известна в искусстве. Издали, надо признаться, казалось, что поездка не займет много времени и что еще можно будет побывать на открытии Турксиба. Но вот уже отпраздновано Первое мая, а мы все сидим в приамударьинском пыльном городке, и уже давно послана телеграмма в Москву, что мы отказываемся от поездки на открытие дороги, заблудившись в туркменских оазисах.
Был дождь при свежем ветре и плескалась грязь на лагерно-четких улицах, когда мы приехали в Ашхабад. Каменные тучи копет-дагских отрогов кружились за городом.
Есть города, уютные даже в дождь. Ашхабад не похож на них – тучи, падая с гор и вися над ними синими валунами, подчеркивают низкорослость города и превращают всего его в одноэтажный пригород какого-то другого центра, грязь и переполненные водой канавы коверкают улицы, и белые стены домов покрываются мокрыми пятнами, похожими на застарелые пролежни.
Потом, когда мы увидели Ашхабад в солнце и зелени, стало понятно, что он построен в расчете на постоянное солнце, горячую пыль и пышное торжество аллей, какими являются здесь многие улицы. Он задуман на одну погоду. Но мы приехали в дождь, когда все изменило свои цвета и линии. Среди низких одноэтажных домов бродили высокие люди, великаны, ростом примерно с этаж, – туркмены. Их высоченные папахи, тельпеки, которые можно носить, как тяжелую ношу, лишь умело балансируя головой, темные строгие халаты, сапоги на высоких каблуках – все поражало нас. Туркмен предстал перед нами запорожцем Азии, тысячелетним воителем, сухим, строгим, трудно смеющимся человеком, хозяином простой и суровой жизни. Лицо туркмена серьезно, худощаво, цвета пергамента, глаза кажутся белыми рядом с темной кожей, и я почти не видел среди них полных, одутловатых, веселых узбекских лиц с голубыми глазами.
Что касается глаз туркмена, то они не сродни ни лукавым прищуренным глазам узбеков, ни сморщенным – каракалпаков и киргизов. Глаза туркмена смотрят просто, ровно и крепко из-под глубоко сидящего на ушах и оттопыривающего их в стороны тельпека.
Ашхабад, разлинеенный жолнерами туркестанских генералов, не похож на свои провинции и менее всего представляет их, но такова судьба большинства столиц.
Ашхабад по-чиновьичьи очень подтянут, местами щеголеват и населен безумными велосипедистами. Увлечение велоспортом здесь приняло характер народного бедствия и в конце концов перешло в привычку. Я видел похороны. Провожающие покойника смело ехали на велосипедах за гробом, другие вели велосипеды «в поводу», время от времени позванивая. Я видел здесь кавалькады на дороге к Фирюзе – один приятель на ишаке, другой на велосипеде, едут обнявшись и поют песни. Ишак обнюхивает своего стального соседа и подозрительно, недобро косит на него глаза. Отчаянный народ, ашхабадцы въезжают на велосипедах в кооперативы, и у прилавка образуется очередь велосипедистов.
Мы нашли себе место в бело-розовом, как сырой кулич, домике, носящем звание общежития ЦИКа. Он построен в манере небольшого алжирского форта, замкнутым четырехугольником, с целой серией внутренних дворов. По ночам с плоских крыш его свисали собаки и лаяли вниз.
Город нам показался скучным, оторванным от страны, и мы решили скорее из него уехать в подлинную Туркмению. В вечер приезда ашхабадские товарищи собрались поговорить о нами в «Туркменской искре». Влекомые порочными привычками НОТа и лиги времени, мы все старались расписать маршрут по точным графикам и так все построить, чтобы время само подносило нам, как старый верблюд у чигиря, грузы необходимейших впечатлений. Время же артачилось, расстояния пункта от пункта росли на наших глазах, как молодые змеи, и стало ясно, что из Туркмении не выбраться так просто, как думалось раньше.
Туркменистан – Германия по масштабу, и эта Германия песка оказалась страной необычайных противоречий, необыкновенной жизненной пестроты, удивительной экономической сложности. Мы думали – песок и люди, песок и люди. Но оказалось, что здесь и люди разнохарактерны и песок не один и тот же, и надо видеть и ощутить все пески, чтобы потом сказать, что хоть сколько-нибудь представляешь себе страну.
Пошли дни настоящей работы. Нас было шестеро. И шестеро, бригадой, мы ходили в ЦК ТКП (б), в Совнарком, в управления наркоматов, чтобы ознакомиться с арифметикой страны. Встречаясь с людьми, мы сразу запросто ловили их в блокноты со всеми их рассказами, еще не зная, что нам пригодится из слышанного, но ничего не желая упускать. Нас закружил шторм разнообразнейших впечатлений. Ночью, сходясь в своих комнатах, мы обменивались пережитым.
Н. Тихонов рассказывал о Гаудане, куда он ездил с госторговцами заключать какие-то договора, В. Луговской – о быте женщин по материалам женотдела, мы с В. Ивановым упражнялись в знании водных дел, а Л. Леонов снимал живую историю, караванами проходящую через город, и начинал интересоваться саранчовой кампанией. Мы держали шторм впечатлений восемь дней, и груз материалов и записей обременил нас настолько, как если бы мы заканчивали свой поход. Мы собирали даже записки, подаваемые на наших вечерах, и классифицировали их по темам и клубам, пытаясь охарактеризовать ими свои аудитории.
В горах, которые заглядывают во все концы ашхабадских улиц, начинается Персия. Среди них, за кривым и печальным ущельем не здешнего, кавказского типа, лежит курорт Фирюза, родина тихоновской повести «Бирюзовый полковник», радость ашхабадцев, их Альпы, их собственные, почти коммунальные горы, похожие на древние – Тимуридов – глинобитные стройки, потрескавшиеся от времени. Из горных трещин их сочится черная маслянистая жидкость. По дну ущелья нехотя подпрыгивает сумасшедшая речонка. Из ее случайного, еще не обжитого дна торчат зеленеющие деревья, обтянутые тиной и водорослями, как персидские старухи в темных паранджах.
Мерв – КушкаМы провели в Ашхабаде дней восемь, побывав в Фирюзе, в Гаудане, в Аннау, прожив день в безмеинском, терпящем аварию колхозе и отработав шесть или семь номеров в ашхабадских рабочих клубах.
В конце девятого дня мы с бригадиром из «Туркменской искры» погрузились в поезд.
Сколько раз потом, сидя уже в Москве, вспоминали мы все этого замечательного товарища, которому мы обязаны деловой организацией наших поездок и, главное, тем, что в течение шести недель он, образец достойнейшего большевика-каторжанина, спокойно отдавал себя нам на изучение.
Утром нам предстояло увидеть Мерв – осколки величайшей городской развалины старой Азии.
Сегодняшний Мерв живет на куске древности, сегодняшний Мери сам не больше как след другого с землей слившегося города, о котором теперь можно только слышать предания и которого не представить себе воображением, потому что его уцелевшие развалины – только пыль и сор от того, что было. Но люди уже двигаются здесь быстрее, чем в Ашхабаде. Мерв становится центром колхозного района, центром хлопка, городом будущих хлопкоочистительных заводов, тракторов и научно-технических учреждений. В Мерве создается у нас первое впечатление о туркменских колхозах.
В ауле Безмеин, под Ашхабадом, был создан колхоз в тысячу с лишним хозяйств. Инструктор, создавший его в десять дней, даже не сохранил истории своего имени и неизвестно куда провалился, а недели через две рассыпался и колхоз.
В Безмеине основная культура виноград, а хлопок – подсобная.
Что же придумал инструктор? Он обобществил хлопковые посевы, оставив виноград в отдельных руках, разработал чудесные хлопковые программы, мобилизовал на выполнение их все силы колхоза и удрал как раз тогда, когда дехкане собрались учить его уму-разуму за их гибнущие без присмотра сады. Когда прочли письмо Сталина, они проголосовали за выход из коллектива, оставляя в пользу кого угодно уже политые под хлопок участки. Им совершенно непонятна была установка на хлопок, когда их кормил виноград.
Второй колхоз, в ауле Кунгур, мы смотрели под Мервом. Колхоз стоял бивуаком в церковной школе. Тысячелетние омачи, деревянные шила для вспарывания земли, лежали во дворе, как трофеи победоносной кампании. Колхозники примеривались к новеньким плугам, стоящим роскошной шеренгой боевых пулеметов. Старики с обротьями в руках шумно беседовали средь двора, не глядя на дождь, и все были одеты по-дорожному, будто на дежурстве, шумели и радостно всем гордились перед гостями. Председатель колхоза, энергичный (судя по голосу) парень, метался из угла в угол, то отвешивая зерно, то образуя рабочие отряды на завтрашний день. Колхоз бивуачил в мечети, и коллективизация казалась здешним людям военным набегом, который надо проделать в мудром единении, пока те удастся разойтись по своим домам и блаженно выспаться от беготни и разговоров по колхозному двору. Здесь не было ни одной женщины. Женщины остались дома, только мужья и братья их, как бы мобилизованные для территориального обучения, шлялись, играя в организацию. Дехкане дежурили в колхозе, как дежурят в аулсоветах в часы неожиданной тревоги, и этот колхоз на ногах больше напоминал двор военной комендатуры, чем штаб мирного сельского совета.
Председатель хвалился школой и показательными посевами хлопка. Девушка-агроинструктор, с гипертрофированными глазами нарочитой восточной красавицы, армянка, бойко, хотя и не особенно твердо, наставляла бравых колхозников-юношей в правилах научной обработки земли. В другом углу тверячка из двадцати пяти тысяч, функционируя одними жестами, пыталась объяснить цели и выгоды контрактации грены. Толпа валила от оратора к оратору или бросалась закручивать хвосты лошадям в неистовом порыве колхозной самовлюбленности. Казалось, вот наступит ночь, и в ее глухой темноте колхоз выступит в секретный поход, чтобы больше не возвращаться в свое медресе, а завоевать новые места – до следующего нового похода.
Воодушевление людей не знало выхода. Жить и трудиться вместе они привыкли на хошарных работах. Какой хошар думали они выполнить? Может быть, собраться, чтобы продемонстрировать бодрость, уважение к власти, порядок? Может быть, пережить какие-то реминисценции общности, братства? А может быть, действительно подавляя собственнические судороги, твердо и просто рассчитывали начать новую жизнь? Кто знает? Сам неутомимым председатель Кунгура едва ли улавливал философию построений своего коллектива, когда бегал по мечети и диким, отчаянным голосом отдавал полевые приказания.
Мы уехали из Кунгура, обещая вернуться через неделю; вернулись дней через десять – колхоза уже не существовало.
Опыт двух коллективов – Кунгура и Безмеина – позволил сделать первичные выводы. Вопрос о колхозах был поставлен здесь в плане социальной проверки населения.
Кто не идет в колхозы, тот выступает против советской власти – таков был лозунг низовых воротил. Пойти в колхоз означало доказать свою преданность революции, и, хоть это было страшно и непонятно, – дехкане шли. В Ашхабаде мне говорил один партиец:
– Я, знаешь, четырнадцать колхозов выстроил к съезду! За месяц, честное слово! Сволочь буду, если вру.
Беда была именно в том, что колхозы не строили, а выстраивали, как для парада.
Лозунг: «Стройся в колхозы» был одно время ходким в этих местах. И дехкане строились в колхозы, как на маневры, воодушевленно и искренне, без задних мыслей, одного лишь побаиваясь: как бы демонстрация не затянулась слишком долго и не задержала личных хозяйственных дел. В пору этих сборов на колхозные маневры байство даже не разворачивало своей вредительской деятельности. Зачем? Оно развернуло ее, когда явилось опасение, что колхозы могут остаться всерьез и надолго.
В Безмеине при голосовании о выходе из колхоза – (Вечер. Поляна за аулом, отороченная глиняной стеной. Низкое солнце стелется по траве, освещая землю и ноги людей, а воздух отдав голубому легчайшему сумраку. Дехкане расположились амфитеатром, одни – лежа на животах, вторые – сидя на корточках, третьи – стоя, четвертые – вися на гребнях стены) – в Безмеине при голосовании вышла на середину круга, к столу, старая бедно одетая женщина.
Мне перевели ее слова:
– Пусть уходит, кто хочет. Я не уйду. Куда я пойду? Мой сын умер в колхозе, я одна, у меня нет другой семьи, кроме колхоза. Убейте меня, а я останусь в колхозе. Богатые заботятся о себе, а о нас кто позаботится? Бедные должны жить сообща. Я так сказала и так поступлю.
Она была единственной женщиной, выступившей на собрании, и она гордо поднимала потом свою дрожащую руку, когда голосовали за сохранение колхоза. Она держала ее отчаянно высоко, как сигнал постоянства, пока председатель не сосчитал всех двухсот рук, поддерживающих старуху. Девятьсот рук оказалось против, и гигант Безмеин из колхоза, запутавшегося в хозяйственных противоречиях, превратился в скромную организацию бедноты, стоящей вне всякой экономической путаницы, потому что у нее – у бедноты – ничего не было. Союз с середняком был нарушен.
И тут надо еще сказать о третьем колхозе, хотя он в других местах, у Боссаги, на афганской границе; мы видели его гораздо позднее.
Он лежит, глядя своими домами на поля и аулы Афганистана. Привет или ругань из страны в страну можно передать своим собственным криком. Под дутар на афганской границе можно петь песни в колхозе. Соседство нервное, сказать по правде, и трудное соседство, когда окрик бая из-за рубежа может еще потревожить самочувствие молодого колхозника в Боссаге. Но трудности – это всегда почти недостатки организации, и не беспринципность ли то, что называем мы нервностью.
Давно бы в этих условиях рассыпался Безмеин и погиб в атаке воинственный Кунгур во главе со своим председателем, но Боссага существует и, мне хочется думать, будет долго и славно существовать, потому что печальный опыт Кунгура и Безмеина не характерен для Туркмении в целом.
Что же в Боссаге? Да все то же, что и везде, – малоземелье, земленеразбериха, недостаток агропомощи, отсутствие плугов, плохое снабжение семенным материалом (впрочем, об этом особо, в главе о хлопке), – тут одно было лишь пройдено – хаос в организации труда. Труд организован просто и четко, учет всем доступен и ведется методически, каждый знает, что и когда ему делать, и все работают в общем одинаково, без больших перегрузок.
В Безмеине обобществляли хлопок, когда следовало обобществлять виноградники, в Кунгуре обобществляли пафос, в Боссаге обобществляли труд. И этого оказалось на первую пору вполне достаточно, чтобы начать огромное коллективное дело.
В объединенном труде боссагинских колхозников изживание личных хозяйств происходило почти механически. Боссагинский колхоз привился.
Поздним вечером мы сидели во дворе ханского дома, где теперь правление колхоза, и вели с дехканами через переводчика-агронома долгую беседу. Они просили нас записать их жалобы.
Надо, чтобы все знали: семена хлопка посылаются неочищенными Безобразие! Колхозники, замученные приготовлениями к поливу, пахоте, контрактации грены и хлопка, не в силах заниматься очисткой, да и заранее было условлено, что Хлопком снабдит семенами очищенными и высокосортными. А приходят чувалы без надписей, без документов, неизвестно какой сорт прислан. При большой требовательности разных сортов к наиблагоприятнейшим условиям культуры посылать безыменные семена никуда не годится. Чтобы хорошо вырастить хлопок, надо знать, что это за тип. Также нет упряжи для верблюдов, а присланы русские хомуты для коней. Надо найти, кто виноват в этом. Потом они просили записать их пожелания.
– Нужна школа в нашем колхозе, – сказал председатель, – две школы: для ребят и для нас. Много людей приезжают к нам, говорят, учат, а уедут – все забывается. Иметь своих грамотных школьников важнее, чем приезжих политработников. Школьник читает газеты и книги и всегда под рукой.
– Нам нужны книги с картинами, – сказал другой, – чтобы там все было видно, как в других местах было и как теперь есть.
Они говорят с нами, ни на минуту не забывая, что мы сидим на границе, что через километр – Афганистан, другая жизнь, другие порядки.
В их словах чувствуется сознание того, что они показатели советского рубежа, пограничные столбы, сама граница. То, что их жизнь еще во многом схожа с зарубежниками, раздражает их. Они рады любому мелочному обновлению своей жизни. Чем больше они становятся непохожими на тех, за рубежом, тем азартнее их жизнь. В Боссаге нас удивила простота, в которую облечен был сложный порядок учета труда в здешних колхозах. Жетоны двух значений – тяжелой и легкой работы – легко позволяли подсчитать нагрузку работника и его заработок.
К сожалению, в Боссаге, как и в других местах, посевная горячка выбила из головы мысли о днях хлопкоуборочных, и организация труда шла на узком опыте весеннего сева. Уборка же – процесс других темпов, другой организационной и технической закваски. Увлечение жетонами, марками, номерками, ставка на использование полного труда человеческой единицы – задержали развитие сложных рабочих единиц – бригад и десятков. Трое рабочих, сопряженных общей задачей и общей ответственностью, работают лучше, чем трое, но порознь. Эту азбуку знали все, но никто не пробовал сложить из нее необходимейший лозунг.
Осенью – сужу по «Туркменской искре» – даже в Дейнау, центре лучшего из туркменских сплошных районов коллективизации, бригады и десятки фактически не существовали. Уборка хлопка началась неорганизованно. Это привело к тому, что правления колхозов не могли своевременно учесть ни количества собранного хлопка, ни производительности труда, не могли, наконец, предотвратить оседания хлопка.
Организация бригад началась только в процессе уборки хлопка. Разбивки бригад на десятки не производили. Это улучшило несколько только одно: учет собираемого за день хлопка Все же остальное, как было, так и осталось. Учета выходов на работу не только всех трудоспособных колхозников, но даже и самих членов колхоза бригадиры, руководящие семьюдесятью – восемьюдесятью хозяйствами, поставить не смогли. Отсюда и второй недочет – невыясненность того, кто сколько за день собирает.
По почину прежнего районного руководства колхозники стали на точку зрения – «убирать сообща, у кого сколько выйдет». Это в колхозах и в районе называли «коллективным трудом». На деле же получилось издевательство над коллективным трудом. Производительность сборщика, ведущего работу бесконтрольно, снизилась до нескольких килограммов – примерно в два-три раза меньше того, что следовало бы собирать.
Неизбежным результатом такой никудышной организации труда, результатом плохого руководства бригадами было систематическое отставание колхозов и высокий процент оседания хлопка.
Безобразно была поставлена и приемка собранного хлопка, контроль за тем, где поля очищены от созревших коробочек хлопка, а где нет. Обязательства сдавать хлопок в тот же день, когда он собран, не существовало. Были и такие случаи, что мешки с собранным хлопком оставались на поле или в каком-нибудь помещении без всякого присмотра, хлопок мог брать всякий колхозник.
Самими бригадами правление колхоза не руководило. Производительность труда, последовательность сбора хлопка – все это было на совести не всегда грамотного бригадира.
Примерно в первых числах декабря перед колхозниками был поставлен вопрос о переходе на сдельщину. Система бесконтрольности, разгильдяйства и лодырничества, развившаяся к этому времени, сразу же сказалась: колхозники стали высказываться против сдельщины в уборке хлопка. Раздавались и такие мотивы, что сдельщина-де не свойственна колхозу, так как тут может быть только коллективный труд.
Только после довольно длительной разъяснительной работы, после того как колхозникам доказали, что сдельщина вскроет, кто лодырь, выведет их на чистую воду, не позволит им скрываться за спиной добросовестно работающих дехкан, – только после этого сдельщина была введена…
Как теперь относятся сами колхозники к новшествам в организации труда на хлопкоуборочной?
Лучшая часть колхозников так оценила сдельщину:
– Если бы это мероприятие ввели с начала уборки хлопка, еще в ноябре, – мы бы не имели хлопка на полях.
Опыт Дейнау по организации труда колхозников на хлопкоуборочной надо немедленно учесть. Сдельщина, противопудная выдача хлеба колхозникам, подготовка кадров руководителей для бригад и десятков, сохранение бригадной и десятковой разбивки на все время хозяйственных работ, ежедневный контроль за уборкой и производительностью труда – вот сумма вопросов, которую должно решать правление каждого колхоза, вот то, что форсирует сбор хлопка.
В других местах пришлось прибегнуть к поистине героическим мерам, вызывающим в памяти позапрошлогоднюю борьбу с саранчой, к мерам героическим, но стихийным по сокрушительности, быстроте и неизбежности.
Хлопок перезревал на полях. Убирать его было некому. Не хватало рабочих рук, говорят. Скажем проще – не хватало уменья. К спасению хлопка были привлечены города. В Ашхабаде из учащихся, преподавательского и административно-хозяйственного состава профтехнических школ была создана ударная трудовая дивизия по сбору хлопка. Силами этой дивизии в дни декадника по сбору хлопка было собрано 899 184 килограмма, нагружено 23 вагона хлопка, разгружено 9 вагонов, погружено 124 964 килограмма семян, распорото 1486 и набито 3000 мешков.
Впервые было понято, что уборка сырца – это не просто физический процесс на полях, а движение от полей к заводу, конвейер разнообразнейших начинаний от сбора чашек до организации транспорта, приемки на заводе и сдачи сырца в машины. Опыт дивизии сыграл колоссальную, еще мало учтенную роль в организации колхозного дехканства, в осуществлении производственной смычки города и деревни, но он также и показал, что внутренние силы колхозов еще не перестроены сообразно с задачами дня, что колхозник еще держится за жетон, за номер, что он примитивно ограничивает круг своих трудовых обязанностей полем колхоза, не понимая, что работа колхоза кончается на заводе.
Из Кунгура мы возвращаемся в Мерв – читать рассказы в рабочем клубе и рукописи молодых мервских прозаиков и поэтов на перекрестках улиц. Но нас приглашают в штаб Н-ской кавбригады, чтобы погрузить в героику борьбы с басмачеством. Тема о Красной Армии, расталкивая десятки других, начинает занимать центральное место. Тут последует отступление к некоторым событиям в Ашхабаде.
Мы выступали: в Доме Красной Армии. Хозяин вечера, начдив, пригласил нас на утро в свой штаб и у географической карты одним своим указательным пальцем, почти что молча, во всяком случае малоразговорчиво, вдвинул тему о красноармейце советской Азии в наши переставшие изумляться мозги.
Красноречие его пальца было неотразимо, и только ему одному следует приписать, что мы тогда же наскоро изменили свой маршрут, введя в него Кушку. Начальник наших сообщений, Н. С. Тихонов, великий охотник за расстояниями, прямо садически радовался, что у нас прибавилось несколько сот лишних километров.
В общем наш путь наметился так: Ашхабад – Мерв (колхозы вокруг него), Кушка (быт пограничной охраны, кочевники у границы), на обратном пути Иолотань (плотины Султанбента, кочевки белуджей, первые их колхозы, хлопок), снова Мерв, Байрам-Али (хлопковые учреждения, техникум), Бухара, правобережье Аму-Дарьи, Керки (ирригация, хлопок, скотоводы, колхозы у Боссаги), из Керков триста километров вниз по Аму до Чарджуя на каике, районы сплошной коллективизации вокруг Дейнау, из Чарджуя разлет по выбору. Так в общем путь и был проделан, и из Чарджуя мы разделились – одни в Москву, другие в районы горной Туркмении и в Ашхабад.
В нашем маршруте ознакомление с армией, с нацчастями, с историей гражданской войны было отнесено к Кушке и Керкам, но вот в Мерве нас везут в штаб бригады, и все расчеты нашего дорожного плана начинают терпеть аварию.
Что такое Туркменистан? Это республика самых южных пустынь Союза, таких южных, что южней пока еще некуда. Мало сказать, что это страна пастухов и хлопководства. Мало сказать, что это страна, еще вчера только бывшая историческим паноптикумом, где можно было видеть в действенной практике феодальное время, родовой и племенной быт, торговлю женщинами и полулегальное рабство. Сегодняшний Туркменистан вырвался из всей своей прежней истории, и между тем, что было и что есть, – глубочайшая пропасть, великий исторический разрыв. История разорвана героизмом гражданской войны, здесь превратившейся в борьбу межплеменную, межродовую и даже внутрисемейную. Вот о нем и хотел рассказать нам товарищ в штабе бригады. И он рассказал. Но как запомнить факты тысяч дней или дни, набитые фактами, как временем?..
Опуская конкретные данности его чудесных рассказов для другого отдельного раза, мы все вместе восприняли услышанное не как материал, а как установку наших точек зрения на многие вещи вблизи и вдали. Товарищ своими рассказами пристрелял нас, как хороший инструктор винтовку.
Из Мерва в Кушку дорога идет по стране, которой пока еще нет. По сторонам железнодорожного полотна кочуют барханы, стелются карликовые леса саксаула, развертываются сады и начинаются поселки. Иногда, спросонок, за правду легко посчитать, что поезд сошел с ума, забрал казенных людей и теперь бежит куда глаза глядят, только бы подальше от властей предержащих. Станции по пути донельзя растеряны. Русские бабы кормят проходящие поезда блинами и слюнявым супом. Суетливый джемшид протягивает ладонь с грудой серебряной мелочи, и баба, порывшись в ней негнущимся и похожим на большой куриный клюв пальцем, справедливо вытаскивает столько, сколько ей причитается. Но горе ему, нигилисту, если он съест скользкий холодный блинок и, призываемый звонком цивилизации в поезд, не уплатит ей пятиалтынного! Взяв свежий блин с блюда, баба оттреплет им обманщика по щекам – на поучение всем окружающим – и с визгом погонит его по платформе, дальше от соблазнительного лотка. Тут еще в моде третий звонок, и он деликатно задерживается, чтобы дать восторжествовать справедливости.
Поджав ружьишко к боку, как одеревенелый и от испуга на сторону сбившийся хвост, виноватый всегда покорно обращается вспять.
Дорога идет по стране, которой еще нет. Здесь можно было бы в дни больших кинопраздников снимать столпотворение в Вавилоне, ту его часть, когда участники творения столпа, ошалев от своей суеты сует, разъезжались в разные стороны – безразлично куда, безразлично с кем.
Джемшиды едут в нашем поезде, как в трамвае. На станциях к ним подсаживаются приятели, чтобы между одним или двумя перегонами поменяться ружьем или патронною сумкой.
Поезд везет песни и храп. Те, кто не спит, все поют, а спящие раздираются в храпе. Мы сгружаем свой звучный груз постепенно, и сгруженные на станциях песни дрожат и плачут нам вслед. Голубой свет ночи искрит сединою тумана. Все тише и медленнее становятся песни, тени предметов вытягиваются, крепчают, и вот уже сами предметы и люди превращаются в силуэты теней. Бегут джемшиды, проносятся полуголые ребятишки белуджей, тарахтят сапогами русские рабочие, и медленно, медленнее чем всегда, шагают по голубой земле темные полосатые туркмены, торжественные, как поводыри караванов. И кажется, что они ведут на поводу ночь.
Пейзаж и жилища все больше напоминают Персию. Кибитки кочевников кое-где вросли в дворы глиняных усадеб, и свежие дувалы (глиняные заборы) окружают их своим тяжелым ярмом.
Шерстяная кибитка в оправе дувала издали напоминает полушар на кубе и похожа на мазар – могилу святого. Не отсюда ли, не из архитектуры ли первых оседлых азиатцев композиция куполов на мечетях Азии? Не кибитка ли в оправе дувала – прообраз кирпичной могилы Тимура или чудовищного кургана стамбульской Софии? Их легчайшие купола так свободно брошены на тяжелые грубые стены, как пуховые кошмы.
А кстати: для свода Софии, пугающего маловерных своей жуткой вознесенностью и умиляющего тем, что он – гранитный – простерт, будто опершись на воздух и тем потеряв свой собственный вес, – для свода Софии строитель и материал выбрал особенный, легкостью схожий с кошмою, – пемзу, а не гранит и кирпич.
Люди с винтовками и в чалмах – куда они едут? Где их дома, их работа? Они висят на подножках вагонов, на остановках вытаскивают из-за пазухи кооперативные книжки и организованно укладываются на молитвенных ковриках в очередь перед ларьками.
Ночью юг ощутительнее, чем днем. Головой взволнованной кобры глядит луна на опрокинувшиеся перед нею степи и гипнотизирует их, чтобы ужалить. Длиннорогие звезды скорпионами сцепляются в грозди и висят пучками по всему небу, отягчая его прозрачную легкость.
Ночь крепнет и холоднеет, голубой ее свет становится матовым, как летящая изморозь, и вот, не ожидая никаких изменений, привыкнув к гипнозу луны, что здесь только степи и небо, этой же ночью, как бы свершая торопливое путешествие вокруг света, мы неожиданно, неподготовленно, врасплох слезаем в новой стране. Это – Кушка.







