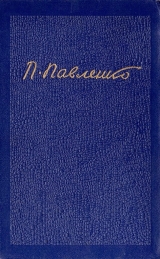
Текст книги "Собрание сочинений. Том 5"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 36 страниц)
Через Байрам-Али и Каган – в старую Бухару. Два дня на осмотр города и на третий – выезд в Керки, на границу, в полосу аму-дарьинских пойм. Два дня на отдых и приведение в порядок дорожных мыслей. Я раскрываю серию своих записных книжек, в них страницы идут процессией каббалистических заголовков: Дувалы, Наскаяды, Змеи, Стаканчики.
Географические названия отсутствуют, они потеряли в пути всякую осмысленность, география, следуя формуле Н. Тихонова, подло расползается на отдельные ядра частностей, которые, будучи снова обобществлены, переходят в другой, негеографический ряд.
Бухара начинается очень смятенно. Ветер долбит зыбкие гребни дувалов, они взлетают космами и, беснуясь на ветру, рассыпаются в глиняный дождь и град. Пейзажи благородной Бухары, о которых я слышал легенды легенд от скутарийских и брусских рассказчиков, оказываются очень хилыми, грязными и смешными.
Город открывается перед нами прахом беззубых стен, изъеденных многими обстоятельствами, и свалкой бескостных, в лепешки размозженных улиц, переплетенных между собой, как гнездо тухлых змей. Глиняные дома, рассыпаясь, миролюбиво превращаются в улицы, слегка замешанные на воде, чьими-то руками вытягиваются в домишки. Люди дымятся на улицах от расходившейся пыли.
Стара экзотика Бухары, стара – слаба. Прежнее ее великолепие, изумлявшее арабов и персов, давно исчезло, и даже трудно сейчас определить, в чем именно оно выражалось. Не верится, что еще в XVIII веке Бухара была духовным центром ислама и родиной его славнейших философов, перед силой которой склонялся Стамбул и раболепствовал Тегеран, изнутри разъедаемый сектами. Я видел древности почтенного Хоросана, пыльные кладбища Эрзерума, голубое солнце Скутари, я хорошо чувствую эту старую терпкую пыль тысячелетних городов, но пыль Бухары горька, как табачная, и ничего, кроме злого раздражения, не вызывает она у меня. Никогда медресе Бухары не являлись светочем ислама! Нет, никогда! Бухара-и-шериф сочинена быть Китежем-градом, городом недоступным, почти нереальным для верующих исламитов.
Но вот Бухара достигнута – и Бухары нет.
Всю Бухару надо срыть и отправить в утильсырье для рассыпки, как удобрение.
Так думается мне в озлоблении, когда я прохожу по горбатым улочкам города, заглядываю в темные перекрытия базаров, окупаюсь в полуподземные мастерские кустарей, толкаюсь среди прокаженных и сифилитиков – продавцов съестного. Нет, откуда же такая дикая, неправдоподобная беднота?
На площади Регистана товарищ, знающий местные события, рассказывает мне, что вскоре после бегства эмира на пожарищах его дворца старатели находили железные рундуки, полные золота, парчу и дорогой китайский фарфор.
– Да они и теперь еще копаются, сходите посмотрите! – говорит он.
Я поднимаюсь через узкий туннель в проходы эмирской цитадели. Когда-то над этими воротами висела эмблема власти и силы эмировой – гигантская плеть. Красноречивая откровенность! Сейчас же за стеной начинаются узкие проулочки, целая сеть их, узких, древних, кое-где мощенных гранитными плитами. Одноэтажные белые домики украшены инкрустированным деревом, окна в затейливой резьбе; в домиках исполком и его отделы. Сейчас же за домами начинается полоса разрушений, дома граничат с холмами битого кирпича, мусора и расщепленного дерева. За случайным поворотом открываются развалины тронного зала с гранитным полом, с ветхими мощами деревянного золоченого трона, украшенного человечьими кучами и нравоучительными надписями из неопубликованного Даля.
Отсюда уже видны старатели. Я прохожу к ним и заговариваю расспросами.
– Ну как?
– Если вы насчет кладов, – говорит испуганно один из них, – что вы! Сроду этого не было. Да вообще «утильсырьем» только и существуем. Как его не было – не копали. Роюсь и все боюсь, как бы мне истории какой не пришили. Может, тут все историческое, а? Как вы думаете?
– Какая тут история, – отвечаю я.
– Однако, – качает он головой.
– Что однако?
– Не так просто, – говорит он. – Я было трон хотел спереть, так мне сказали, что все бока отобьют, если рискну. Сухое очень дерево, удобное, все на него завидуют, – и он огорченно подбирает с земли кусок фаянсовой чашки.
Я всхожу на стену. Плоскоголовый, как бы павший ниц, спиною вверх лежит город в зеленом зареве чудовищных садов. Желтые костистые громады философских школ торчат отовсюду, блестя на солнце морщинами облупленной мозаики. Аисты ворчат на их куполах.
До чего же не нужен, до чего вреден этот город! Стального цвета водонапорная башня, гордо поставленная на Регистане рядом с цитаделью, старым дворцом эмира, достижение последних лет, стоит конвоиром всей этой страшной завали и страшного юродства.
Я видел, как вокруг нее собираются гости Бухары, люди из далеких аулов. Долго и изумленно глядят они на нее, стоящую на тонких железных ногах, такую странную, ни на что здешнее не похожую. Она собирает вокруг себя любителей новизны и диких жителей пустыни, которые не знают, чему отдать предпочтение – ей или минарету смерти, о котором говорит старина преданий. Среди плотных глиняных строений Бухары сквозной железный костяк башни кажется легкомысленным. Бухара пила смрадную воду восьмидесяти пяти хаузов – прудов. Эта башня – емкостью в один пруд – будет самостоятельно поить весь город. Она сильнее всех восьмидесяти пяти водохранилищ, но никто не умеет объяснить ее величия. Непонятно ее могущество людям, приехавшим глядеть трупы заброшенных мечетей и вспоминать кровавые рассказы о цитадели. Еще ни одно здание в Азии, – а башню понимают как здание, – не создавалось для того, чтобы работать. В мастерских сидят рабочие, в лавках – приказчики, а где служители башни, которая дает воду?
Из всех исторических минаретов Бухары-и-шериф водонапорная башня – наиболее важный исторический минарет. Разве что из-за него одного не разрушать Бухары? А вернее всего – вывести отсюда людей в чистое поле и поселить их в палатках, а Бухару-и-шериф, раздробив в песок, запахать хлопком.
Мысли начинают работать вокруг центра об утильсырье – вот, кажется, метод использования многих частностей нашей истории и природы. Организация утильсырья – это целая философия, но мы никогда не занимались ею как следует. Мы собираем утильсырье, потому что идет такая кампания, но долго мы не сделаем из этого твердой привычки. Вещи, разрушаясь, возвращаются туда, откуда они пришли, – вот закон! У нас есть вещи, относительно которых никто ничего не знает. Они появляются по традиции или инерции, их применение в жизни не обязательно, точно так же как и малозаметно было бы исчезновение. Кто у нас занимался специальной службой вещей?
Сегодня, например, я обратил внимание, что, пожалуй, единственный товар, которым повсеместно торгуют в Бухаре, это крепкие, будто деревянные тыквы-горлянки (Lagenaria vulgaris) – наскаяды. Ими завалены все лавчонки. Желто-оранжевые вороха их – единственное красочное пятно сырых базарных улиц. То похожие на небольшие деревянные яблоки или огурцы, то уподобленные кувшину или полуплоской фляге, отполированные или покрытые темным йодным румянцем, то украшенные штриховым орнаментом или матово-чистые, как несорванная слива на дереве.
Если бы я жил в Туркмении, обязательно организовал бы «общество друзей наскаяды». В наших условиях нет смешных начинаний, в этом году многие хозяйственники могут гордо сказать: «Путь великого – через смешное!» Вспомним опыт с тресковой кожей, ныне дающей экспортный товар, опыты с получением «птичьего меха» из гагачьих шкурок, чтобы полюбить и оценить всерьез самые смешные на вид начинания. Папье-машевый конек из Загорска, бывш (его) Сергиева, вместе с «кузнецами» и игрушкой «куры клюют» – помните? – дают стране много тысяч рублей валюты.
Валютное будущее есть и у наскаяды.
В Неаполе кустари из непонятной мастики, отдаленно напоминающей перламутр, в миллионах штук штампуют грошовые камеи. Торговля морскими раковинами представляет в Неаполе же громадное трестированное дело, а изготовление коробок, убранных ракушками, с узором, гласящим «Ricordo di Napoli», достигает уровня фирм мирового значения. Где только нет этих коробок?
Венеция, родина так называемой мозаичной кустарной промышленности, выбрасывает на внешние рынки громадные партии поделок из цветного стекла – рамок для фотографий, оправ для ручных зеркал, ларчиков, пудрениц, портсигаров. В Венеции семь тысяч таких мозаичистов.
Тот, кто следит за сообщениями о наших выставках в Европе, должен помнить, какой успех имели там мелкие безделушки из лыка и бересты. На портсигары из карельской березы получаются специальные заказы. В этот ряд я не поставлю работы палехских художников, их чудесные черные коробки с блестящим сказочным рисунком на крышках, переходящие временами из ремесла в большое искусство, но можно было бы аргументировать и палехским экспортпланом в пользу того мнения, что и наскаяде необходимо небольшое организованное внимание.
Материал твердых тыкв для кустарно-художественных поделок идеален. Он податлив, прочен, красив, окрашиваем и легок. Туркмены, пробивая дыру в одном из полюсов тыквы и очистив ее нутро, пользуются маленькими как табакерками для «наса», из средних по размеру делаются чилимы – кальяны, большие, в форме гигантской груши, служат дорожными флягами. Я видел тыквенные бутылки-колоссы, вместительностью до двенадцати литров, в них бродячие торговцы держат постное масло.
Этой замечательной тыкве, пока она растет, можно придать любую форму: выгнуть из нее вазу для цветов или сплющить наложением повязки из щепок и проволоки в карманный флакончик с рельефным орнаментом. Если его обложить гривенниками, они врастут в стенки флакона, как миндалины в тесто. Вырастив тыкву в виде шара и потом разрезав его пополам, можно получить пудреницы, пепельницы, чашки, сплющивая и выгибая – футлярчики для пенсне, портмоне, табакерки. В лавчонках Бухары, тыкв, сформированных в виде фаллоса, продавалось в старое время на несколько тысяч рублей в год. Почему бы, не найти тыкве приличное применение, тем более что ее; все равно выращивать будут, и, таким образом, все начинания могут быть произведены без особых трудностей и, главное, без особых затрат. Что нужно? Пригласить нескольких игрушечников – папье-машевщиков или резчиков – заказать художникам набор бандажей, выдавливающих орнамент, и захотеть на ровном месте заработать стране несколько тысяч золотых рублей.
Или вот, скажем, – черепахи. Что это, как не утильсырье? Из окна вагона между Каганом и Керками видно, как ползет и шевелится степь. Это идут черепахи. Они устилают землю густо, одна к одной. Поезд идет день, и целый день ползут черепахи за окном. И так везде – в Бухаре и вдоль всей нашей афгано-персидской границы, по линии Среднеазиатской дороги, в песках по краям Аму.
За границей – ползай там черепахи среди бела дня – из них давно бы уже делали всякие мудреные вещи – гребни, клей, удобрение или, может быть, даже лекарство от ревматизма или лучшее средство против загара. В Малой Азии черепаший вопрос был разрешен так: возле Пандермы, где черепах особенно много, некий бывший грек, вовремя купивший себе более удобный в турецких условиях паспорт румына, изъявил желание взять концессию на истребление черепах по всей Анатолии. Концессию ему дали, я думаю, просто из чувства юмора, и грек привез несколько машин, переживших, судя по виду, многое множество неблагополучных концессий, и заключил договор дружбы с мальчишками соседних округов, расценив черепах – больших по пиастру за штуку, маленьких – по специальному на каждый раз соглашению. Потом, заставляя всех удивляться, он стал вырабатывать из черепашьих щитов пуговицы и утверждал, что через год, усовершенстовав дело, начнет делать гребни. Ведь занимаются же этим итальянцы – и как! Итальянские черепаховые изделия – предмет необычайной роскоши, и я не думаю, что тут дело в качестве самого щита, дело в организации. Наконец, чорт с ними, с гребнями, давайте делать пуговицы!
Я рассказал об этом товарищу, работающему в одном из главнейших наркоматов Туркмении, и он записал себе черепаховую идею в блокнот. Другой же, госторговец, услыша мои проблемации, иронически ответил: «Ничего не получится, пробовали, щит очень тонок». Тонок? Спрессуйте. Да поглядите, как в Коломенском округе, под Москвой, делают кустари пуговицы из рогов и копыт…
…Ночью Бухара неузнаваема. Мягкая крыша ночи покрывает сверху улицы, как кошма, и город превращается в архитектурно единый караван-сарай, где все внутри него. Чтобы выйти в ночь, надо выйти из города. Все открыто – жилища, сон, досуг людей, веселье, печаль, как на постоялом дворе, где нет замкнутой и долгой жизни.
Вот пришел караван людей, отдохнет в веселых чайханах Бухары, повеселится с бачами под торопливую музыку и уйдет в свой далекий путь. Даже великие медресе кажутся здесь ярмарочными павильонами, выстроенными для обозрения проходящих толп, а гостиницы напоминают бани, работающие круглые сутки – люди входят и выходят с утра и до полночи, поют песни, спят; уборщица моет полы при свече, но в номерах темно, потому что не хватает ламп.
Вокруг Ляби-хауза, королевского пруда, по гранитной дорожке снуют толпы гуляющих. В чайханах, выходящих к пруду, полно. Водоносы спускаются по каменным ступенькам в бассейн, к воде, и, громко перекликаясь, наполняют зеленой водой свои бурдюки. Оравой золотых червей кривляются в воде огни уличных фонарей и чайных домов.
Но уже тихи улицы. В их смрадных коридорах уже погашены плошки на сале и фотогенные лампочки, здесь ночь лежит сугробами, через которые не пройти. И редки, очень редки голоса. Да, нет больше караванов человеческих, нет караванов через Бухару-и-шериф. Может, они еще будут? И люди спят чутко, чтобы встать, если грянет шум человеческого прибоя. Они спят, как ночные сторожа чайханы на большой проезжей дороге.
Но ночь тиха, и даже собаки лают только друг на друга невыразительным, домашним лаем.
Мы ощупью касаемся улиц. Храп спящих раздается рядом с нами, будто мы забрались в чью-то неосвещенную спальню. Сонный голос сквозь кашель спрашивает, что надо нам. Мы смущены, как пойманные в чужой квартире, и оправдаться, что мы просто идем по общественной улице, – оправдаться нельзя. Так проходит ночь в трюмах парохода с переселенцами. И мне в этом смраде жилых улиц вспоминается другой, такой же странный и сонный город: Венеция.
Перед пьяцеттой, на лагуне, бродят сотни гондол. Серенады начинаются в разных концах и, перебивая одна другую, расходятся по дальним каналам-улицам.
На канальных перекрестках скрытые темнотой баритоны поют трагические романсы, гондолы туристов несмело задерживаются возле них, как прохожие перед нищими. Дома стоят на тихой воде кораблями в покойной гавани. Железные булавы возле подъездов, вбитые в воду для причала гондол, кажутся домовыми причалами. Гондола скользит вдоль каменных домовых бортов, тускло освещенных фонарями, заворачивает в переулки, вертится на маленьких водных площадях, забирается в худенькие протоки между домами, которые касаются один другого, как в порту касаются кормы кораблей. Голоса невидимых гондольеров звучат, как отклики вахтенных. Венеция стоит на своих каменных якорях. Освещенные дворцы кажутся кораблями, приготовленными к выходу в море. Помнится, я велел гондольеру остановиться у театра, окруженного лодками беснующихся людей. Было несомненно, что театральный фрегат уходил сейчас в плавание, звонки в фойе подтверждали это предположение.
Когда внутри театра грянула музыка, гондольеры молча оттолкнули свои экипажи и тихо понеслись прочь, будто опасаясь, чтобы корабль театра не задавил их при развороте.
Так, юля между каменными кораблями, гондола достигает площади Марка. Она распростерлась крепкой эстакадой среди лагуны и своего кораблиного города. На колокольне, этом старом маяке, древнем страже Венеции, бронзовые великаны выбивают молотком огонь певучего гула. Распев серебро-медного колокола медленно возносится вверх и плывет дрожа, как бы мигая, певучим светом по заливу и. всему городу, до предместий.
В Старой Бухаре, в сырой и темной комнатушке отеля, меня томила и жгла малярийная горячечная бессонница. Ночь давно была на исходе, но замешкалась, заплуталась в узких улицах-коридорах, где, как ночной сторож чайханы у караванной дороги, спал город. Он несколько раз просыпался, ворчал, суетился со сна тревожно – часом не идут ли, не подходят ли караваны? – и недовольно вновь засыпал коротким, собачьим сном. Ночь замешкалась, и город давно уже требовал утра.
Не подошли ли, не ровен час, караваны?.. На вышках минаретов заплакали азанчи. Далеко над городом пронесся этот ранний раздраженный вопль.
И я думал о городе, который все снимается и все не может сняться с якоря, и о городе, который ждет людских караванов и никогда не дождется их.
Хлопок человеческийЗемли культурной полосы Туркменистана – Мерва, Чарджуя, Хивы и Ашхабада – живут хлопком.
Хлопок – овца поливных земель. И недаром древние живописцы и граверы изображали хлопчатник в виде ягненка на стебле. Древние сказки даже более того – утверждали, что ягненок-хлопчатник питается травой возле своего стебля, никак иначе не умея объяснить отсутствие или незначительность сорняков под посевами хлопка. Овца – подвижное, кочующее волокно, хлопчатник – оседлое. Даже овцы становятся лучше в хлопковых районах, в полосе развитого земледелия, потому что там, где хлопчатник, – вода.
Пятилетний план туркменской жизни почти целиком построен на увеличении добычи хлопкового волокна. Сооружение крупных оросительных систем, рационализация крестьянской сети каналов, упрощение водопользования, ускорение поливных сроков, укрупнение хозяйств для целей машинной обработки, постройка дорог, освоение новых земель, вытеснение с полей зерновых культур, сооружение новых заводов – все имеет в виду одно: больше хлопка, больше волокна, ближе к промышленности.
Среди начинаний по хлопку два оспаривают между собой первое место – освоение новых земель и возня с самим растением. Когда говорят о новых землях, имеют в виду девяносто пять процентов туркменской площади, занятой песками пустынь, которые нужно оросить и подготовить для земледелия. Поиски новых площадей становятся основной работой районов, орошение – манией. Проекты каналов рождаются ежечасно, и задержки с ассигнованием на постройку их скоро становятся удобными ширмами, за которыми низовые администраторы прячут свое оппортунистическое худоумие и безынициативность.
Конечно, орошение новых земель необходимо. Конечно, вслед за орошением очередь агрономии приготовить и «сдать в эксплоатацию» добытые от пустынь земли, но… что такое орошение? Какая система ирригации может интересовать сегодняшнюю, на четверть коллективизированную Туркмению? Только ирригация крупных линий, только инженерия первостатейных масштабов, такая, которая может включить в число рабочих площадей не десятки и сотни, гектаров, но сотни тысяч их. Расходовать деньга и время на предприятия мелкие – в наши годы уже нет смысла.
На очередь в быт районной работы выдвигается труд над самим растением и рационализация внутри давно окультуренных площадей – удобрение полей, введение наиболее выигрышного севооборота, ускорение поливных сроков, «чистка» культур и труд над самим хлопчатником, отбор полезнейших сортов, полка их. Темпы в развитии хлопководства гораздо более зависят от человека, чем от земли. Мы, мы сами, одною своею охотой, можем увеличить добычу новых дополнительных центнеров хлопка, без всякой оглядки на недостачу орошения, на ограниченность земельных фондов.
На мервском базаре, в насквозь прокуренных чайханах я слышал рассказчика историй. Он говорил, что колхоз Султан-Дешт в Каакха получил сто пять пудов хлопка с гектара. Произнося цифру, он обвел всех глазами, – он был рассказчик и ждал восхищенных опровержений.
Его перебил местный человек, хлопнув по спине ладонью.
– Ата-Ниязов дал двести девяносто три пуда, – сказал он небрежно. – Я сам оттуда.
Повествование было сорвано, потому что теперь никто не знал, как далеко может зайти правда.
Каждый мобилизованный на посевную – будь он повар из столовой Нарпита или бухгалтер из Туркмен-сауды – знает:
Урожай повышается:
От плужной обработки на 3%
От тракторной на 5%
От улучшенных сортов семян на 15%
От внесения удобрений на 26%
От междурядной обработки культиватором или прополки на 10%
Колхозник несет на своих плечах и в мускулах рук по крайней мере двадцать пять процентов новых возможностей урожая.
Байрам-Али лежит на испепеленных остатках древнего Маргиана – Мерва. Развалины стариннейших сооружений окружают его своими скалами.
Они стоят на ровной песчаной долине беспорядочной ордой, как валуны на севере у океана. Байрам-Али отгородился от них густою изгородью рощ и садов и живет, не выходя из своих аллей, над которыми клубится неопадающая пыль, как пар над горячими водами. Окаменелая вражда двух миров – Маргиана и Байрам-Али – делает здесь жизнь напряженной не в меру.
Отсюда хозяйством государева имения казна командовала Мургабом. Отсюда строились по Мургабу диковинные для своих лет плотины и важнейшие оросительные каналы.
Государева казна училась из Байрама-Али выращивать хлопок. Теперь на царевых землях лежит колхоз.
Вечер. Розовый воздух уходит за горизонт. Дорога, как продолжительный взрыв, окутала окружающие ее поля рыжим заревом тяжелой и удушливой пыли.
Вечер. Дорога. Сквозь пылевые взрывы – поля по бокам и толпы народа на залитых водою делянках. Тарахтя керосиновыми бидонами, пробегает трусцой ишачий транспорт, навстречу ему двуколки, вслед ему – грузовые форды, наперерез – верховые и пешие. В поле, впереди нас, что-то случилось – в лицо нам несется дыхание страшного беспокойства и суеты, автомобили издалека орут фальцетами своих рожков, как раздраженные звери. Минуя весь этот шум и грохот, к дороге сбегаются песни с полей. Ветер. Все краски сползают книзу, небо обтекает, ровнеет, горизонт жирен и пестр, как палитра, поля красного цвета, поля синие, голубые поля ложатся одно возле другого. Потом мы видим – прошли хутора, тракторные стоянки, пасеки, запах меда и бензина капнул на нас и где-то остался на платье, чтобы быть стертым духом свежераспиленных досок, клея и мокрой прелой бумаги. Люди с лейками в руках – берберы и джемшиды – спешат по полям, поливая невидимые нам точки. Процессии водолеев громадны и странны – поля поливают из леек и делают это серьезно, без смеха и в трезвом сосредоточенном виде. Направо лесопилы звенят отпевшей пилой, налево плотники, толкаясь между водолеями, возчиками и шоферами, примериваются что-то сооружать на пахотной деловой земле. Бабы сажают в землю какие-то белые баночки, снимая их с автомобилей, двуколок, фургонов и тачек, которые образуют здесь, на полях, настоящую биржу.
Все это, что мы видим, похоже на строительство города в степи, на войсковой лагерь, на табор кочевников или на зеленной рынок большого города, где овощи продают с земли, чтобы сейчас же, не медля, засеять землю другим, уже заготовленным жильцом.
Опустошив лейки, люди бегут наполнить их – и две толпы – водолеев и баб – встречаются и образуют пробку. Фургоны едва пробиваются сквозь людскую стену, орут машины. Мы идем, опасливо озираясь, к хозяину этой ярмарки. Она называется посевом хлопка по способу агронома Крутцова.
Там, где недавно правители царева имения мирно и добродушно сеяли хлопок так, как завещано традициями, где собирали киплингиану молодые студенты сельскохозяйственных институтов, где инженеры охотились на фазанов и курочек, практикуясь на досуге строительством плотин и каналов, где опальные генералы отчаянно заведовали наукой в одиночестве своих винных погребов, – там сейчас – и именно в вечер автомобилей и толп – сеют хлопок смешным до странности образом. Это для посева пилят бревна, бренчат бидонами, режут стекло на квадратики и топят в полях печи водяного отопления – хотя май, солнце тропиков и люди работают полуголыми.
Судьба советского хлопка зависит от климата. Климат самого крайнего союзного юга не очень удобен для египтянина. Египтянину холодно, распределение солнца по месяцам его не устраивает, он капризничает.
Нам нужно уломать климат.
В 1875 году житель Ташкента Мулла-Юльчи Тойчибаев посеял семена американского средневолокнистого хлопка и этим положил начало средне-азиатскому хлопководству. За пятьдесят пять лет непрерывной работы над хлопком немногое, однако, изменилось в понимании социальной природы хлопчатника, и наши селекционеры, а среди них есть имена мировой значимости, часто повторяют еще традиции Муллы-Юльчи Тойчибаева. Крестьянин искал сорта скороспелые и урожайные. Торговая фирма была заинтересована прежде всего в выходе волокна из сырца, опуская внимание к качеству в смысле цвета, засоренности, прочности и длины. А фабриканта интересовал не выход, а качество волокна, и урожайность и скороспелость были ему безразличны. Взаимоотношения этого треугольника изменились тринадцать лет назад, а изменились ли позиции наших агрономов, работающих на хлопке и ставящих себе сейчас, как и раньше, задачу получения наиболее эффектных для дехканства, но менее всего интересных для государственной промышленности урожайных сортов?
Социальная природа хлопчатника ими – агрономами – не всегда бывает понята как следует. Нам выгоден длинноволокнистый египтянин. Нам – стране в целом – выгодно то, что меньше всего привлекало внимание хлопкороба-единоличника и что совершенно не должно увлекать колхозника. Даже глава российских селекционеров хлопка – покойный Г. О. Зайцев – не избег вреднейшей провинциальной ограниченности взглядов на задачи селекции, на возможность у нас культуры египтян. Агрономы до сих пор выделывают в Азии эффектные «кулацкие» сорта американцев и персов, раболепствуя перед копеечными интересами дехканства и не ставя большой социальной программы – доказать выгодность внешне мало выгодных египтян и перехитрить климат.
Египтяне нам выгодны, но египтяне не всегда справляются с нашим климатом. Следовательно, надо выправить его в нужной кривой. И вот агроном Крутцов, старик, даже не агроном-цензовик, а практик, человек типа Мичурина, фанатик, чудак или новатор, кто его знает, – берется за египетские сорта с ухваткой простого садовника и упрямством изобретателя. О его опытах писалось много отличных и еще больше глупых статей. А Крутцов пытается разрешить проблему общественной важности – увеличить урожайность египтян и твердо подчинить их режиму туркменского климата.
И вот мы у него на полях, где работают плотники и грохочут автомобили.
Старик Крутцов ведет нас показывать свое дело. Лицо в репьях запущенной бороды, взлохмаченные брюки, из-под которых свисают подштанники, грубые башмаки, руки, опухшие от мозолей. Он начал как огородник, попробовав высеять хлопчатник в парники и перенести рассаду в грунт после весенних заморозков, чтобы ускорить вегетационный период в поле. Его хлопок начинает цвести на месяц раньше и созревает до наступления холодов.
Кругом блестят оранжевыми глазами стекол низкие парники. Плотники ставят ряды новых. Сезонники вынимают из парников земляные кирпичики с рассадой (семя посажено в удобрительный кирпичик или в бумажный, землею набитый стаканчик), грузят их на машины, фургоны и тачки, развозят на поля, там бабы высаживают кирпичи и стаканчики в грунт, а джемшиды поливают гнезда посадки из леек.
В 1927 году он получил урожай пересадочных египтян в 3,6 тонны и обычных грунтовых в 2,1 тонны с десятины. Повторив опыт на следующий год, он имел 3,56 и 2,13 тонны, закончив сбор пересадочных в половине октября.
Крутцов ведет нас от парников к парникам. Лицо его очень испуганно. Он говорит, волнуясь, руками. Такое впечатление, что мы производим у него обыск, а он боится, что мы испортим впопыхах ломкие вещи и все перепутаем до неузнаваемости.
В это жаркое, всячески жаркое время высадки хлопковых сеянцев в грунт поле было лабораторией Крутцова, где от парников к лункам на поле шла единая сложная линия глубочайшего опыта. Крутцов, говорят, любил уходить в поле и подолгу бродил в одиночестве. Шел рискованный опыт: проверялась система, быть или не быть ей, – система, едва пробившая путь к относительному признанию, – и сосредоточенность Крутцова была необходимой в работе, а тут приезжают гости, которым, хоть зарежься, надо заработать один-два «подвала», они таскают Крутцова по полям и. перевирая все на свете, волнуясь, заносят в блокнот несколько цифр для фельетона.
Еще бы не испугаться таких гостей!
Опыт Крутцова дал почти удвоение урожаев. Опыт дал сокращение сроков уборки. Опыт убеждает в возможности получать у нас волокно самых капризных из египтян; и рядом же с достижениями опыт показывает, что стоимость обработки одной десятины по Крутцову стоит что-то около трехсот рублей.
Хлопок – труднейшая культура вообще, и при крутцовском опыте надобность в человеческой силе возрастает до цифр, практически просто неосуществимых.
Вручную набиваются землею стаканчики, высеваются семена в парники, поливается рассада, вынимается для пересадки и высаживается в грунт.
Машина лишь вспахивает и боронует поле.
В системе Крутцова ножницы между эффектом и стоимостью эффекта раскрыты предельно, и слабый конец ее только в этом. Если бы удалось сжать эти ножницы – проблема среднеазиатских египтян могла бы считаться решенной и Азия обеспеченной хлопком длинного волокна сверх нашей потребности.
И в этом же совхозе сотоварищ Крутцова по работе, монтер, уже думает над машинами для крутцовской манеры хлопкокультуры. Ведь нужно немногое – машина, которая бы делала лунки и опускала в них стаканчики с ростками. Этот опыт, могущий раз навсегда решить задачи нашей хлопковой независимости, решают агроном и монтер из совхоза Байрам-Али под свист и улюлюкание старых спецов и ошибочное презрение недальновидных приезжих гостей. С каких пор производственная смелость, риск первого опыта, неудачи новых проектов являются темой для безработных фельетонистов? С легкой руки таких юрких мальчиков у многих новаторов завелись черви в сердцах и пропала охота к труду. Тот же Крутцов, до того как он рассказал о своем проекте высоким комиссиям, годами копался на двухметровом участке, наблюдая пересадку рассады над десятью – двадцатью растениями. Он высаживал потом свой хлопок для ряда комиссии, троек, пятерок, целых институтов, пока не получил сотнегектарный план – свою последнюю полевую пробу. Дело его так важно, что оно стоит расходов, даже если окажется неудачным.







