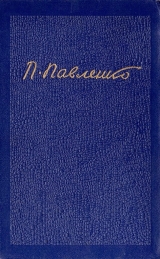
Текст книги "Собрание сочинений. Том 5"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 36 страниц)
Бельгийский коммерсант Эмиль Бертель (жулик уже, очевидно, английской школы) додумался до грабежа только своих знакомых и родственников, квартиры которых ему были отлично известны. Неизвестно, как реагировала на его процесс бельгийская печать, американская же растрезвонила бы об «оригинале» Бертеле на весь свет, как она сейчас рекламирует некоего Дэвида Шиффера. Деятель этот нажил миллион долларов на махинациях со страховыми полисами. В течение пятнадцати лет, с помощью специальной банды, в составе которой были врачи, Шиффер инсценировал несчастные случаи и получал страховые премии. Он подделывал даже рентгеновские снимки, удостоверявшие переломы и вывихи. Три года за ним охотились безрезультатно. Сейчас он пойман, сидит в Синг-Синге и пишет воспоминания о своих преступлениях. Они так и называются: «Как я украл миллион». Нормальное чтение для американской молодежи! Но разве она виновата в том, что ее кормят преступными идеями?
Книгу «Как я украл миллион» или «Как я украду сто миллионов» могли бы написать некоторые члены правительства Трумэна. В отношении их права дореволюционная русская пословица: «Рублевого вора чествуют, копеечного вора вешают».
После Стэплдона у микрофона Фадеев. Он произносит по-русски лишь первый абзац своей речи, а затем уступает место переводчику. Речь, рассчитанная на десять – двадцать минут, длится добрых сорок. Ее то и дело прерывают овациями. Восторженный свист верхних балконов почти не прекращается…
После небольшого перерыва выступает Шостакович. Ему долго не дают сесть за рояль, установленный на ринге. Зал положительно неистовствует. Наконец он усаживается, слегка пробегает рукой по клавишам и – бледнеет. Мы чувствуем: что-то произошло, – но не знаем, что именно. После некоторого колебания он исполняет вторую часть своей Пятой симфонии, тут же переложив ее для фортепианного исполнения. Слушают с поразительным вниманием. Вызовам конца нет. Но сейчас Шостаковича нельзя было бы зазвать к роялю даже силой. Инструмент оказался древесиной на ножках. На нем битые боксеры, должно быть ногами, откалывали что-нибудь вроде «Чижика».
Митинг в Мэдисон-сквер-гардене был первым, но и последним, в котором нам пришлось принять непосредственное участие. 29 марта утром каждый из нас получил письмо от прокурора города Нью-Йорка г-на Э. Шофнесси. Вот что я прочел:
«М-РУ П. А. ПАВЛЕНКО.
Делегату конгресса
деятелей культуры и науки в защиту мира.
Нью-Йорк
Дорогой сэр!
Департамент юстиции получил от государственного секретаря уведомление о том, что Ваша миссия, ради которой Вам была дана официальная виза на въезд в США, то есть присутствие на конгрессе в защиту мира в Нью-Йорке с 25 по 27 марта, закончена вместе с закрытием конгресса.
Поэтому предполагается, что, закончив дело, являющееся целью Вашего приезда, Вы покинете Соединенные Штаты в самые умеренные сроки. Государственному департаменту стало известно, что Вы намереваетесь посетить ряд городов США и выступать там на общественных митингах. Такие выступления и поездки не были предусмотрены при выдаче Вам визы.
Поэтому Вас просят немедленно уведомить Департамент юстиции о том, какие меры приняты Вами к отъезду из США в связи с тем, что Ваша миссия уже закончена.
С уважением
Эд. Шофнесси,
прокурор гор. Нью-Йорка».
Митинг в городе Нью-Арке, назначенный на вечер того же дня, естественно, отпадал. Речь, которую на этом митинге надлежало произнести мне, была между тем готова, но я был уже лишен возможности передать ее даже для прочтения. Итак, отпадала поездка по городам, отпадали посещения университетов и общественных организаций, отпадали уже объявленные концерты с участием Шостаковича. Государственный департамент был явно встревожен отношением к советским людям со стороны американской интеллигенции. Решено было не показывать нас провинции.
Но митинг в Нью-Арке тем не менее состоялся. Наше отсутствие было уже объяснено вечерними газетами, и публика, переполнявшая здание театра, возмущенно жужжала по адресу Ачесона. А затем в зале погасили свет и, как уже писалось в нашей печати, направили луч прожектора на рояль, за которым не было Шостаковича. Я слышал, что так же должны будут пройти все намеченные планом провинциальные митинги и что на всех них будет показана кинохроника о нас и очередной сиротливый рояль без Шостаковича. Таким образом, отсутствуя, мы присутствовали весьма активно.
Реакция прессы на распоряжение Ачесона была большей частью в нашу пользу. Даже херстовская печать не могла скрыть некоторого смущения перед этой неоправданной мерой, справедливо считая, что она роняет достоинство страны.
Перед вылетом из США мы поехали в Вашингтон нанести визит послу Советского Союза. Выехали мы в знаменательный день получения писем от прокурора, и – как нам показалось – газетчики прозевали нас. На вокзале никто нас не терроризировал ни фотоаппаратами, ни расспросами. Однако не успели мы войти в вагон, как агент федеральной полиции бесцеремонно осведомился у нашего переводчика, все ли мы здесь, и для точности пальцем пересчитал нас.
Было что-то около четырех часов дня. Сев в кресло перед широкими, почти сплошными окнами пульмановского вагона, мы решили полюбоваться видами Америки, оказавшейся такой недоступной.
Поезд мчался мимо бесконечных маленьких городков, заводов, ферм и снова мимо городков, мимо редких кусков распаханной земли, пустырей и жидких лесков на болотах.
Ни одно живое существо почему-то не показывалось в полосе железнодорожного пути, точно все города спали и все поселки были пусты. Мы не заметили ни ребят, играющих на лужайках, ни отдыхающих у лесных опушек фермеров. Одни автомобили на улицах вокруг заводов нарушали эту странную дремоту ландшафта.
Где-то вблизи Филадельфии здания некоторых заводов камуфлированы. Окраска очень свежа. Бензиновые цистерны окружены земляными валами, а кое-где глубоко врыты в землю и из серебристых превратились в зелено-бурые.
Доктор Брэдли, опубликовавший в прошлом году отчет об испытаниях атомной бомбы на острове Бикини, как раз в день открытия конгресса в защиту мира выступил по радио. К ужасу всех неврастеников, он заявил, что, по его сведениям, Советский Союз знает не только тайну производства атомных бомб, но уже производит атомное оружие. Представляю, что делалось со слушателями доктора Брэдли! Но он не успокоил их и дальше.
– Господствующая уверенность, – продолжал он, – что только США знают тайну производства атомных бомб, является одной из четырех ошибок, сделавших американцев не подготовленными к атомной войне.
Эти ошибки, по мнению доктора Брэдли, следующие:
1) уверенность, что США – единственная страна, знающая тайну атомного оружия и способная сохранить эту тайну от остальных;
2) иллюзия, что только США имеют высокоразвитую промышленность, пригодную для производства атомного оружия;
3) иллюзия, что атомные бомбы дают гарантию победы; в действительности они пригодны только в определенные стратегические и тактические моменты, но сами по себе не обеспечивают победы;
4) и несомненный факт, что атомные бомбы на самом деле менее опасны, чем полагали до сих пор.
Брэдли принадлежит к числу весьма осведомленных «атомщиков», и его радиоречь произвела большое впечатление.
А тут еще вышла в свет книга англичанина П. М. Блэккета «Страх, война и бомба» – несколько измененный вариант книги, опубликованной осенью прошлого года в Англии и уже получившей мировую известность. Поддерживая советский план контроля над атомной энергией, Блэккет утверждает, что правящие круги США не в состоянии обеспечить безопасность американского народа от атомных бомб. Вот тебе и раз!
За четыре года войны США потеряли убитыми и ранеными всего только в два раза больше того, что ежегодно теряют они при автомобильных катастрофах.
Воевать американский народ не хочет, отлично понимая, что будущая война бесспорно заденет американский материк, что теперь уже нет и не будет «далекой войны», а всегда будет только близкая война.
Население США, отлично запомнившее картины бомбежек в последней войне, картины Лондона и Ковентри, Сталинграда и Дрездена, совсем не очаровано перспективой пережить нечто еще более серьезное у себя дома.
И средний американец хочет знать, что следует сделать для упрочения мира. Он хочет знать прежде всего позицию Советского Союза. Он хочет услышать об этом от живых советских людей. Он хочет переспросить их несколько раз.
Что было бы, думаю я, на митингах, если бы нам, советским людям, удалось на них выступить? В дело защиты мира влились бы рабочие, фермеры, провинциальная интеллигенция. Ачесон (а может быть, и не только он) этого-то и испугался. Семеро советских людей, не сказавших ни одного дурного слова об Америке, оказались опасными гостями именно потому, что хорошо говорили об американском народе.
Комитет действия, созданный на нью-йоркском конгрессе, уже сообщил представителям печати, что «…конгресс имел огромный успех. Он продемонстрировал волю американского народа сохранить открытыми пути для связи между США и всеми другими странами мира. Он показал также желание американского народа, чтобы все разногласия были урегулированы путем мирных переговоров. Мы считаем, что наше правительство не может не обращать внимания на эти факты».
Комитет действия приступил к подготовке «Письменного призыва к миру» в форме петиции, под которой должны подписаться миллионы американцев. Петицию предполагают представить Трумэну в день национального праздника, посвященного памяти американцев, погибших во всех войнах, начиная с войны за независимость. Подводя итоги конгрессу в майской книжке органа американской компартии «Политикен афферс», Говард Фаст так характеризовал обстановку, в которой происходил нью-йоркский конгресс: «…более 500 сторонников мира, примкнувших к конгрессу, подверглись всевозможным запугиваниям… Они собрались в атмосфере истерии и страха, преднамеренно созданной нашим государственным департаментом и нашей печатью. Их обвиняли в том, что они являются агентами иностранных держав. Их публично оскорбляли, а их огромные достижения в области искусства и науки были частично зачеркнуты».
А в то время как американский народ включался в широчайшую кампанию борьбы за мир и десятки стран готовились к конгрессу мира в Париже, некий Уильям Кларк из Англии с раболепием потомственного лакея зубоскалил в эфире:
– Не знаю почему, но я должен сказать, что нахожу идею созыва конгресса интеллигентов довольно абсурдной. Самое название конгресса высокомерно и эксцентрично. Какое право имеет кто-либо заявить, что он интеллигентный человек? Что он хочет сказать этим?
Недаром прозвище «твердолобые» родилось и применяется только в Англии. Надо думать, Уильям Кларк не из последних в почтенной категории английских дурней. Ну да шут с ним, с Кларком, Эптон Синклер оказался не лучше Кларка. Тот самый Эптон Синклер, книги которого мы, признаться, читали. Правда и то, что у нас переводилось лучшее из того, что писал этот литературный барышник, и не все у нас знали, что в творческой лавке Синклера всегда был товар на любой спрос.
Начав свою литературную карьеру поставкой анекдотов и забавных стишков в бульварную прессу, а затем перейдя на лубочные романы для пятицентового издательства «Стрит и Смит», Э. Синклер быстро добился того, что объем его произведений достиг объема собрания сочинений Вальтера Скотта. Затем пошли романы психологические – на них был тогда спрос на рынке. За психологическими – «Джунгли», первая книга на социальную тему. Но это было в 1906 году, когда отзвуки первой русской революции прошли по всему миру, вызвав огромный интерес к литературе политической. Это было в год появления величайшей книги о пролетарской семье – «Матери» М. Горького.
После «Джунглей» – одиннадцать лет литературных шатаний между семейно-сексуальными проблемами, и только в 1917 году, при первых громах Октябрьской революции, – «Король Уголь», и год спустя – «Джимми Хиггинс». Мы читали эту книгу, понимая в то же самое время, что она примитивна, что Хиггинс – мученик социальной идеи, а не победитель.
Мы забыли, что Э. Синклеру принадлежит фраза: «В годы детства и юности мне постоянно твердили: «Деньги пишут»… Для меня, таким образом, эта формула означала: «Молчи».
Он молчал не долго. Уже с пятнадцати лет деньги стали писать рукою Синклера. Он и не скрывал этого.
«Из художников преуспевают те, кто умеет облечься в защитный панцырь и жить под ним, наподобие черепахи», – сказал он в 1927 году, за пять лет до написания трактата «Духовное радио», в котором этот «социолог» воспел спиритические успехи своей супруги. Как раз в это время мода на всякую чертовщину особенно захватила Америку, и книги о вызывании духов пользовались хорошим спросом.
Став глашатаем спиритизма, Э. Синклер выходит из социалистической партии и с резвостью начинающего провокатора домогается поста губернатора Калифорнии. Брошюра к выборам называлась: «Как я покончу с бедностью». В ней старый барышник предстал перед страной во всей своей наготе. Оказывается, это был чудовищно-невежественный болтун и пройдоха. Однако его не выбрали даже при наличии столь важных для американского деятеля качеств.
В 1943 году, в разгар нашей борьбы с германским фашизмом, космополит Э. Синклер не постеснялся заявить:
«Когда Германия будет побеждена, Объединенные Нации не должны пытаться реорганизовать Европу на основе довоенных географических границ. Вместо того они должны создать «свободное государство», основанное на экономической централизации Европы в том виде, в каком она организована нацистами».
Роль подголоска Уолл-стрита оказалась ему более по плечу, чем труд писателя – борца против фашизма.
Сейчас, когда американский народ ищет путей к защите мира, а правительство Трумэна лихорадочно готовит новую войну, старому карьеристу пришлось выбирать между войной и миром. Он выбрал войну. На старости лет Синклер перестал играть в прятки и оказался в лагере реакции. Очевидно, уже навсегда. Жизнь его чрезвычайно показательна для американского либерала. Сюда же, очевидно, направит свой парус Стейнбек. Деньги пишут в Америке – деньги, не сердца. Конечно, есть и другая литературная Америка, гордящаяся именами подлинно прогрессивных писателей. Говард Фаст, Альберт Мальц, Альберт Кан, Ричард Бойер, Агнесса Смэдли, Александр Секстэн, Норман Мейлер, Лилиан Хэлман и многие другие достаточно хорошо известны в своей стране и за ее рубежами. К их голосам прислушиваются. Но путь их от этого не легче. Жажда власти и денег может подвести не одну отлично начатую жизнь. Быть честным писателем в Америке трудно, труднее, чем где бы то ни было.
Мы покидали Соединенные Штаты вечером 3 апреля. Улицы заметно поутихли – забастовали шоферы такси. Большая толпа народа провожала нас к аэропорту, хотя, насколько я помню, час вылета все время переносился и был, в сущности говоря, неизвестен. Через плечи полисменов протягивались дружеские руки. Кто-то приветствовал нас по-украински. Мы не успевали раздавать автографы. Не помню, кто сунул мне на память альбом с патефонными пластинками. Потом оказалось – музыкальная оратория в честь Линкольна.
– Поклонитесь Москве!
– Кланяйтесь Ленинграду! – прокричал кто-то, стоящий за спинами полисменов.
Мы едва-едва двигались. Полисмены с трудом удерживали узенькую тропинку в гуще толпы.
Все это были безвестные друзья и союзники наши, люди, нам верящие и нас любящие, ужасно хотелось по-человечески распрощаться с ними.
Какая-то высокая кудлатая девица-корреспондент монотонно спрашивала меня:
– Вам отень пондравилась у Америка? Казите дава слёва, – и совала мне в лицо микрофон на длинном шнуре.
«До лучших времен, дорогие друзья!» – хотелось крикнуть мне, но тут как раз полисмены вежливо выдавили нас из здания вокзала на аэродром, и девица-корреспондент осталась позади.
Из кабины самолета было видно, как дружно мелькали шляпы и руки собравшихся нас проводить.
Самолет поднялся в воздух, когда стемнело и огни Нью-Йорка разлились вокруг пылающим океаном. Через мгновение облака, как театральный занавес, скрыли от нас землю.
Мы выбрали маршрут через Исландию, Швецию и Финляндию. Времени обдумать все виденное, слышанное и перечувствованное было достаточно.
Первой остановкой должен был быть Нью-Фаундленд, но почему-то мы попали в Лабрадор. Двухметровый ноздреватый снег лежал по краям узких дорожек к авиавокзалу. Было холодно. Из снега торчали верхушки елей. Казалось, будто нас вернули из апреля в декабрь, в канун Нового года.
Из Лабрадора поздней ночью мы ринулись к Исландии. Когда приземлялись вблизи Рейкьявика, унылый лунный пейзаж Исландии оживился бесчисленным количеством полукруглых гофрированных железных бараков. Они напоминали разрезанные вдоль баллоны противогазов. Что бы это могло быть? Казармы американских солдат, построенные в 1944 году, да так и оставленные на всякий случай.
В Исландии тоже была еще зима. Дул сильный, остро пахнущий снегом и морем ветер, но снег лежал только на склонах дальних гор. Нас покормили поджаренным беконом и бобовым супом, совсем как на зимовках по Джеку Лондону, потом предложили по чашке кофе.
В середине дня мы вышли в воздух в направлении Копенгагена, но вскоре один из четырех моторов мало того что вышел из строя, но стал еще как-то нелепо раскачивать корпус самолета, с явным намерением выдраться из своего гнезда. Командир принял решение вернуться обратно. Еще часа полтора возни с воздухом и облаками – и мы снова вблизи воинских бараков. Обещают отпустить сначала через час, потом через два, – а затем неожиданно выясняется, что самолет наш отлетался, кажется, навсегда и надо ждать нового из Нью-Йорка. Ах, эти Ильф и Петров!.. С их легкой руки я, признаться, всегда верил в американскую деловитость, а главное – в сервис. А на деле оказывается, что даже такая богатая и хорошо оснащенная компания, как «Америкен Айр Лайн», эксплоатирует на заокеанских линиях самолеты, давно вышедшие «в тираж погашения». Командир самолета, впрочем, приписывал аварию с мотором присутствию на борту корабля трех пасторов, – дурная примета, говорил он всерьез.
Администрация разместила дам в крохотном отеле, а большинство мужчин – в одном из военных бараков. Асбестовые перегородки делили барак на несколько комнат, человек на пятьдесят каждая. Окон не было. Печей тоже. Обогревала барак какая-то шумная электрическая машина. Она мгновенно надувала столько жару, что делала комнату похожей на баню, но стоило машину остановить, как температура спокойно снижалась до температуры наружного воздуха. Узкие разборные койки были застланы, очевидно, давно. В бараке стоял затхлый, давно не проветриваемый воздух, хотя ветер посвистывал в щелях железной, составленной из нескольких секций стено-крыши.
Десятка два иллюстрированных журналов валялось на одной из коек. Ни столов, ни стульев. Бараки эти не для житья – для ночевки. И, конечно, предназначались они не для пассажиров аварийного самолета, а для солдат, пролетающих в подведомственные Трумэну страны Западной Европы.
Исландия в этом смысле прекрасная база. Остров обитаем лишь у морских берегов, да и вообще всех исландцев с женами и детьми только сто тридцать пять тысяч, так что практически глубь этого вулканического острова можно считать безлюдной. Отсюда до Копенгагена шесть часов лету, а до Осло и того меньше. Место удобное.
В Рейкьявик нам попасть, к сожалению, не удалось. Сутки провели мы на солдатских койках, три раза в день развлекая свои желудки беконом довоенной давности и бобовым супом, должно быть приготовленным еще в дни американской войны за независимость.
В Америке, кстати, питаются дурно и очень невкусно. Этому, вероятно, трудно поверить, но это так. Основа питания – консервы. В неизвестно когда запаянных банках вы получаете и капусту, и фасоль, и спаржу. Мясо, из которого выжат сок, к тому же еще заморожено. Вкуса в нем нет никакого. Хлеб белее ваты и так же, как она, пружинит под нажимом руки, но им лучше всего затыкать уши в ветреную погоду, а есть невкусно. Это что-то вроде пористой бумаги. Сосиски, которые можно получить в любой «забегаловке», тоже в жестяных банках.
Лежа в бараке на исландско-американском аэродроме, подводил я итог виденному в Соединенных Штатах.
Мы видели мало, но увидели много. Для того чтобы представить жизнь города, изучение уличной толпы может быть очень полезным. Мы почувствовали стиль и характер общественной жизни. Побывали в концертах, в кино. В театре быть не могли, за отсутствием таковых. Ни в Нью-Йорке, ни в Вашингтоне нет театров в нашем понимании. Есть театральные здания, но постоянного играющего коллектива не существует. Мы побывали в Вашингтонской национальной галлерее, «самом большом мраморном здании на свете», как сказано в путеводителе, и видели много замечательных полотен – старых итальянских, испанских и голландских мастеров. В залах, где размещены самые дорогие картины, обязательно дежурят вооруженные полицейские. Картины, видно, довольно часто крадут. Я уж потом и не заглядывал в путеводитель, а искал полисмена. Если толчется у двери – значит, тут что-то есть знаменитое, надо смотреть. Музей пустоват, – не то что наша Третьяковка. Пуст и ботанический сад. Наблюдал я и за торговой жизнью книжно-газетного киоска. Имел счастье лицезреть в журнале фотографию президента Трумэна в купальных трусах. Видел и другую его фотографию – с индюшкой в руках. Оказывается, есть в США праздник индюшек. Когда-то первые поселенцы находились на краю смерти от голода. Местные жители, индейцы, сжалились над несчастными, приволокли им индюшек. С той поры и учрежден праздник, но не в честь спасителей-индейцев, а в честь спасительниц-индюшек. Но фото в трусах так никто и не мог объяснить. Впрочем, чего требовать от человека с небольшим художественным вкусом, если сам «Мистер Папа», глава американских литературных снобов, писатель Э. Хемингуэй фотографируется в журнале полуголым, в час утреннего кормления своих пяти или шести кошек. Жирное, обрюзгшее от алкоголя тело. Жирное, нетрезвое, равнодушное ко всему на свете лицо. Чего ради он сфотографировался, как в бане? Делается невольно стыдно за писателя, который мог бы проявить больше уважения если не к своей особе, то по крайней мере к своей профессии.
Я видел старый Бруклинский мост и новый, построенный по проекту инженера, русского по происхождению. Видел город Вашингтон, созданный по плану архитектора-француза под заокеанский Париж. Кое-что в действительности напоминает столицу Франции, ее лучшие ансамбли, но все вместе искусственно, потому что нарочито.
Слышал я оркестр под управлением поляка Стоковского и не слышал оркестр, – говорят, еще лучший, – под управлением итальянца Тосканини. Я перелистал в книжном киоске «Анну Каренину», доведенную до размеров сдвоенной книжечки библиотеки «Огонька», Утверждают, что в результате сокращения «роман стал более удобочитаем».
Я заходил в «аптеки», где едят сосиски, пьют пиво, покупают жевательную резину, и видел, как торопливо и неуютно питается американец. Сосиски, бекон, поджаренный, как ломтик сухаря, чашка кофейной бурды – и уже бежит, дожевывая на ходу.
Я не видел, как живут миллионеры, – не приглашали; не видел, как живут безработные, хотя имел приглашение. Вот одно из писем, полученных нашей делегацией:
«СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
КОНГРЕССА В ЗАЩИТУ МИРА»
Джентльмены!
Политические деятели США утверждают, что в Америке высокий жизненный уровень. Они лгут. Высокий уровень жизни существует далеко не для всех. Как живут миллионы безработных? Как живут старики? Как живу я сам?
Я безработный индустриальный рабочий, вполне работоспособный. До июня 1948 года я работал сборщиком радиоприемников и усилителей. В июне прошлого года фабрика закрылась. Я стал искать работу на других фабриках, но из этого ничего не вышло. Тогда я поехал по другим городам, стараясь найти хоть какую-нибудь работу, но везде было одно и то же: либо рабочие не нужны, либо я оказывался слишком старым (мне за пятьдесят).
Кроме радио и электротехники, я работал в текстильной и обувной промышленности и делал разную другую работу. Я получал пособие по безработице, теперь уже не получаю. Все свои сбережения я истратил на поездки по городам и на поиски работы. Впереди у меня нужда и голод. Вот каков высокий уровень жизни в Соединенных Штатах.
Пожалуйста, не сидите только в «Вальдорф-Астории», а посетите безработных рабочих, посетите меня, и вы увидите настоящую Америку.
Джозеф Бэдрик
384, Квинси-стрит, Бруклин, Нью-Йорк».
Я регулярно просматривал иллюстрированные журналы и, если находил в них нечто мало-мальски похожее на будничную американскую жизнь, запоминал все: убийства полисменов, ограбление, шантаж, чьи-то свадьбы, группы голодных актеров на Бродвее.
Я побывал в Нью-Йорке у врача-фтизиатра. Вероятно, очень хороший и знающий свое дело врач, но я сравнил его со своими ялтинскими фтизиатрами – и сравнение оказалось не в его пользу. Наши и знают больше и лечат без дураков. Здесь же, в частной клинике, лечение начинается не с болезни, а с прейскуранта. Можно поддуть легкое за пятерку, но можно и за двадцатку, хотя все дело заключается в том, чтобы сделать укол иглой между ребер.
Я бродил по улицам маленького городка Глен-Коу, в восьмидесяти милях от Нью-Йорка, застроенного однообразно-стандартными коттеджами. Не улица, а частокол из одинаковых строений, безличных, надоедливых и унизительных отсутствием индивидуальности.
Наконец я видел негров. Никогда раньше не представлял я ужаса, в который со дня рождения и до смерти погружена жизнь человека черной кожи. Сказать, что это рабство, – значит ничего не сказать. Нельзя назвать жизнь негра и каторгой. Она что-то гораздо худшее. Это мучение, ежечасное мучение в течение десятилетий. Это бесконечная пытка. Будь я негром, ни за что не жил бы в Америке. Впрочем, я не хотел бы жить в ней и белым. Советскому человеку многое здесь настолько непонятно и чуждо, что он никогда бы не мог примириться со здешним ходом вещей и принять их как должное.
Порядки и нравы капиталистического общества, даже в тех мелких дозах, которыми мы невольно пользовались, будучи в США, портят настроение, не говоря уже о пищеварении. Они старят. Они вызывают бессонницу. Это все настолько неправильно и нелепо, что с утра от раздражения немилосердно начинает ныть печень и хочется говорить одни грубости.
Американская интеллигенция помаленьку начинает разбираться в условиях своего существования. Даже людям, далеким от политики, становится, наконец, ясно, что жить так, как до сих пор они жили, уже немыслимо. Не понимая и от непонимания этого боясь социализма, они не могут тем не менее не видеть и не чувствовать, что социалистическая система настолько превосходит капиталистическую, что США уже никак не могут претендовать на звание самой передовой страны в мире ни в технике, ни в экономике, ни даже в коммерции.
США – страна без цели и надежд. Она живет вслепую. Но как долго это может продолжаться? Народы развиваются и растут только тогда, когда видят перед собой широкие горизонты. Но что хорошего принесет Америке завтрашний день, когда введение механического хлопкоуборочного комбайна на юге сгонит с земли еще пять миллионов людей? И это дополнение к тем пяти миллионам безработных, которые уже зарегистрированы сегодня.
Что принесет завтрашний день тринадцати миллионам негров и сорока миллионам белых рабочих, членов профсоюзов, после того как издевательский закон Тафта – Хартли войдет в силу и профессиональные союзы, давно уже взрываемые изнутри провокаторами, превратятся в институты дополнительного закабаления рабочих? Промышленники не знают, что делать со своими товарами. Конгрессмены кричат об опасности коммунизма, а американский народ чувствует, что он накануне экономической депрессии, в сравнении с которой катастрофа 1931 года покажется чепухой. Страх бродит над Америкой, как туман, он обволакивает мозги пессимизмом и ожиданием бед.
И поэтому так доступны были сердцу каждого простого американца те слова правды, которые прозвучали с трибуны конгресса в защиту мира. Мира жаждет все человечество, и за мир оно будет бороться твердо, решительно, непоколебимо в любой точке земного шара.
В любой – да, а в Америке, пожалуй что и не будет, – говорил между тем внутренний голос. Не умеют здесь бороться, верят еще, что беду и так как-нибудь пронесет стороной, нет опыта, нет традиций.
Так размышлял я, и веря и не веря в здешних людей, – и все же пришел к тому выводу, что простые люди Америки безусловно будут защищать дело мира.
Так оно и есть. Иначе не могло быть. Несмотря на все старания реакции, американский народ не мог оказаться в стороне от борьбы за мир. Эта борьба приняла активные формы после начала кампании по сбору подписей под Стокгольмским Воззванием, а потом после трумэновской агрессии в Корее.
Летом 1950 года свыше одного миллиона американцев подписали Стокгольмское Воззвание.
Поджигатели войны начали открытое преследование сторонников мира. Херстовская печать призывала бросать в тюрьмы каждого присоединившегося к Стокгольмскому Воззванию, и что же? в Пенсильвании, Иллинойсе, Оклахоме начали арестовывать сборщиков подписей под Стокгольмским Воззванием и агитаторов за мир.
Но о том, что сторонников мира сажают в тюрьмы, реакция помалкивает. Она выдумывает иные мотивы.
Многочисленные профашистские организации США взяли на себя добровольные полицейские функции и объявили войну сторонникам мира, но ни террор, ни провокационная пропаганда не могут остановить, как мы видим, движение за мир в США.
В Нью-Йорке с населением в шесть миллионов человек Стокгольмское Воззвание подписал каждый десятый. Сбор подписей широко развернулся в сорока восьми штатах, и хотя не следует ожидать ошеломляющих цифр, тем не менее самый факт кампании уже чрезвычайно показателен. События в Корее подстегивают даже самых пассивных сторонников мира, а откровенно враждебное отношение американского правительства к вопросам мира раскрывает глаза даже слепцам.
Движение за мир в США уже имеет своих героев. Имена Говарда Фаста – талантливого писателя и мужественного общественного деятеля, певца Поля Робсона, епископа Моултона, историка Дюбуа, доктора Клементины Паолоне – председательницы «Женского комитета защиты мира», организации, чрезвычайно много сделавшей для популяризации Стокгольмского Воззвания, известны сейчас уже далеко за пределами Америки.
И, наконец, американцам сейчас стало уже безусловно ясно, что не Советский Союз хочет войны и ищет, как бы поскорее развязать ее, а США, руководимые своими недальновидными политиками.







