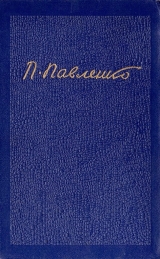
Текст книги "Собрание сочинений. Том 5"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 36 страниц)
Бой шел к концу. Усталость была уж давно забыта. Да, кроме того, вид отступающего, бегущего немца способен поднять даже тяжело раненного бойца. Наконец есть в каждом воинском коллективе, если он дружен, единая душа, когда приказ командира как бы только выражает вслух общую мысль. Иной раз еще нет приказа, но все его уже ожидают и готовятся к нему безошибочно. Когда стрелковые батальоны ушли на насыпь и ворвались в город, в батальонных обозах началась тревожная суета. А тут еще вдали показался соседний полк. Каждый ездовой знал, что это означает: это означает ни больше ни меньше, что Климов ворвался в город, а для дальнейшего преследования противника выделены свежие силы. Медлить было нельзя. Обозы на рысях пошли под огнем к городу.
Отстать от своих батальонов, а то, чего доброго, еще допустить до себя полковой обоз – было бы бедою; и батальонные обозники ринулись вперед, обгоняя артиллерию и саперов.
Климов, уже перенесший свой наблюдательный пункт на городскую окраину, издали услышал топот сытых упряжек и скрип перегруженных повозок у моста.
– Вот до чего бесстрашные ребята! – сказал он, смеясь. – Им бы только теперь свои батальоны догнать, а то они так хоть до самой Вены на рысях пронесутся.
Обозы вкатились в узкие улицы и быстро укрылись во дворах. К обозам стали сходиться раненые, – обозники стали санитарами. Кирпичный завод был уже взят. Штурмовые группы углублялись в центральные улицы города.
Климов почесал висок.
– Слушай, – сказал он замполиту, не то советуясь, не то продумывая собственное предложение, – не посадить ли нам сейчас полк на колеса – на что придется: на лафеты, на самоходки, на танки, на фаэтоны и велосипеды, – да в преследование? За час мы не меньше двадцати километров сделаем, а?
Рука его потянулась к телефону, чтобы вызвать начальника штаба, но тот позвонил сам.
– Приказ, Николай Иванович, Выйти на северо-западную окраину и закрепиться.
– Опять рыть? Вот не везет нам!.. Вот судьба!
На длительную стоянку надежд, однако, теперь уже ни у кого не было.
Вспомнили, как на одной из центральных улиц из окна третьего этажа вдруг высунулась лошадиная морда и лениво стала наблюдать за боем внизу, а рядом с нею висел белый флаг, будто лошадь сама его вывесила на всякий случай.
– Как ее, чертяку, туда подняли?..
И хохотали до упаду, перебирая все возможные варианты.
– Кони и те уж стали белые флаги выкидывать… Ну, дальше некуда!
Офицеры сгрудились вокруг Кочегарова.
– Пенясов – молодец, – сказал Коган, ища глазами агитатора и не находя его. – Если бы он не заметил трубы под полотном и не позвал за собой бойцов, пришлось бы мне помутиться часа два…
– Пенясов геройский офицер, ей-богу героический! Замечательно воюет! – Макалатия выкрикнул свое мнение одним духом.
– У вас, Макалатия, тоже хорошо вышло, – сказал Кочегаров, – правильно сделали, что повернули на выстрелы. Я только хотел было послать к вам связного с приказанием на этот счет – смотрю, а вы уже сами повернули.
– Кто сам повернул? Макалатия? – Пенясов поднялся с земли, где он, никем не замеченный, лежа записывал в толстую клеенчатую тетрадь впечатления ночи. – Ты что же молчал, Шота? А я на капитана Кочегарова этот маневр записал. Придется, значит, переделывать.
– Ну, давайте, однако, устраивать батальоны, – заметил молчаливый Коган, – а то… война перерывов но любит.
Батальонные засмеялись, переглянувшись. Коган напомнил им любимую фразу Климова.
И они разошлись по батальонам, чтобы успеть к рассвету дать бойцам отдохнуть.
А Климов, о котором сейчас вспомнили комбаты, в это время пропускал мимо себя батальонные и полковые обозы.
– Цыгане! – кричал он, краснея от раздражения. – Капитан Горелик, это что такое, я тебя спрашиваю?
За обозными повозками шли разнузданные немецкие кони, торопились, загораживая все улицы, какие-то коровы, быки, овцы.
– Что я могу поделать, товарищ гвардии подполковник, скотина любит бежать за человеком, куда же ей деваться…
– А вы чего смотрите? Надо сбить гурт, вести особо. Трофеи подсчитаны?
– Подсчитаны, – оказал начальник штаба. – Уничтожено нами четыре танка, девять орудий, одиннадцать пулеметов да захвачено восемнадцать пулеметов. Двести немецких трупов на поле боя. А пленных всего шестеро.
– А надо бы все-таки уточнить, с кем дрались, – сказал Климов.
Позвонил Кочегаров.
– Приведи людей в порядок, – сказал он, – подполковник сегодня будет, наверно, смотреть батальон. А ты его знаешь – все проверит, в портянках станет копаться.
– Товарищ капитан, где угодно, пожалуйста, пускай копается, чистота до конца будет, – залпом ответил Макалатия, уже отдавший приказ стричь и брить людей и пославший ординарца разыскать помещение, где бы можно было помыться.
В это самое время командир полка и позвонил Кочегарову.
Кочегаров сидел над схемой кишберского сражения.
– Капитан Кочегаров, вот что я тебе скажу, – война перерывов не любит, брат ты мой, – сказал Климов.
Он, вероятно, очень удивился бы, если бы мог видеть, как заулыбался его всегда строгий и подтянутый комбат.
– Так точно, товарищ гвардии подполковник. Война не любит перерывов.
– Ну вот, приготовься к разбору Кишберской операции. Понятно? А завтра в тринадцать ноль-ноль выстрой батальон – приду посмотреть, на кого похожи.
…Спустя шесть дней передовые части гвардейской армии генерал-лейтенанта, ныне Героя Советского Союза, Захватаева были уже в семнадцати километрах от Вены. Невозможное осуществилось, уставшая армия теперь не уступала первого места в потоке неудержимого наступления. Люди делали километров по сорок пешком в течение суток, да к тому же с боями, тылы отставали, связь часто не успевала за передвижениями частей, и штабы бывали на некоторое время оторваны от своих головных подразделений. Однако та слаженная и на удивление героическая работа всех звеньев управления армией, от которой зависит конечный успех, ни разу не нарушалась.
Через четыре дня Захватаев был на южной окраине города. Венская крепость из сорока тысяч каменных зданий, прикрытая с одной стороны широким Дунаем, а с другой – лесистыми горами, была, однако, твердым орехом. Опыт многодневных уличных и подземных боев в Будапеште говорил о том, что немцы наловчились обороняться в городах и что, стало быть, необходимо взять Вену с хода. Поэтому темпы движения были еще усилены. Поэтому маршал Толбухин требовал донесений о ходе венских боев положительно через каждый час, а командарм Захватаев вместе с членом Военного Совета дневал и ночевал в корпусах.
Нет ничего тяжелее, замысловатее и запутаннее уличного сражения: в каменных траншеях-улицах армия растекается на группы… Гвардейцы Захватаева ворвались в город с хода и, не ослабляя энергии и натиска, к полуночи 12 апреля целиком покончили с венским гарнизоном. 13 апреля приказ Верховного Главнокомандующего отметил взятие столицы Австрии.
Шестая танковая армия СС была разгромлена, с 16 марта по 13 апреля взято в плен сто тридцать тысяч немецких солдат и офицеров, уничтожено и захвачено тысяча триста сорок пять танков и самоходных орудий, две тысячи двести пятьдесят полевых орудий.
И бывает же так – даже в Вене не удалось постоять бойцам, которые брали город!
В конце апреля полк был уже далеко на западе от Вены. Погода стояла ненастная, как всегда весною в гористой местности. То наносило дождь, то жидкий снег, то проглядывало робкое солнце, а там опять завьюживало. Из-за погоды невеселым предполагался Первомайский праздник. Ночью в штаб полка зазвонили со всех сторон. Новость ворвалась, как пламя, которому нет никакого удержу: подполковнику Климову в числе других командиров гвардейской присвоено звание Героя Советского Союза.
Самого Климова не было в это время в штабе, он обходил батальоны. Его нашли. Злуницын, изловчившись, подскочил к нему сзади, обхватил за пояс, крикнул: «Борис, хватай!» Подбежал Холопов и кто-то еще и подбросили командира вверх.
Климов не понял как следует, в чем дело, когда его качали. Он не понял всего и в то время, когда ему позвонил командир дивизии гвардии генерал-майор Цветков, а он, Климов, слушал его, и слеза катилась по бурой щеке. Он как-то все еще не верил тому, что слышал. Даже поутру, когда пришлось ему читать первомайский приказ товарища Сталина.
Климов шел по ярко-зеленому клеверному полю к опушке реденького леса, к трибуне. Полк стоял как нарисованный, только знамя в руках Сидорова слегка вздрагивало и покачивалось. Климов поздравил полк с праздником и только хотел начать приказ, как Кистенев своим оглушительным голосом крикнул:
– Да здравствует Герой Советского Союза подполковник Климов! Ура нашему командиру!
И он услышал, что раздалось «ура», и он будто бы уже не был командиром, без слова которого ничего не делалось в полку, а, растерявшись, стоял и слушал и никак не мог водворить спокойствие. Потом он начал читать приказ и заволновался, словно читал что-то о себе, и несколько раз досадливо кашлянул и переступил с ноги на ногу…
После чтения приказа и выступлений солдат и офицеров в связи с приказом он сказал о себе:
– Высокое звание Героя Советского Союза неразрывно связано, товарищи, с вами. Мы заслужили его вместе, живые и мертвые. Я буду иметь честь носить на груди Золотую Звезду, добытую всеми нами на славном пути от Кишинева до Вены.
Мы добывали ее тяжелыми подвигами. От Москвы, через донские степи, через Украину, к Молдавии, к Кишиневу, от него – к Будапешту и, через Дунай, к Вене идет путь нашего полка, путь нашей славы. Я даю вам торжественное обещание, товарищи, в том, что обязуюсь в будущих боях воевать вместе с вами еще лучше, еще решительней, чтобы оправдать перед правительством высокую награду и не осрамить себя в ваших глазах, в глазах моих старых боевых товарищей, в глазах тех, «то навсегда стал моею родною семьей…
Тут Климов до того сузил свои и так прищуренные глаза степняка, что казалось, ему запорошило взгляд, но заметили это немногие, потому что большинство тоже что-то возилось с глазами, хотя погода была в общем спокойная.
Да чего там говорить – у многих навернулись слезы. И многое, многое вспомнилось тут накоротке. Вспомнили погибших товарищей – и майора Жировова, Илью Васильевича, погибшего в прошлом году под Яссами, и казаха-пулеметчика Юсупа Несембаева, погибшего под Сталинградом, навеки вошедшего в историю полка, и подвиг старшего политрука Подерина, получившего восемнадцать ран, но так и не ушедшего с поля боя, и старшего лейтенанта Раевского, отдавшего жизнь в боях за Секешфехервар, и многих других, навеки неотделимых от каждого, кто остался жив. Пройдут года, изменится состав полка, придут в него новые люди, но и они будут вспоминать о героях. Для тех, кто вместе дрался и выжил, – для тех нет смерти. Умрет один, но другой навсегда сохранит память о погибшем, как о живом, – ведь жизнь одного была в то же время частью жизни другого…
Вечером, на праздничном ужине, капитан Веселов, негласный, но общепризнанный историк полка, стал вспоминать о пройденном пути.
Заговорили о Вене. Она промелькнула странным видением. Одним она помнилась дымящейся, вздрагивающей от минных взрывов, другим показалась уютнейшим городом зеленых, тенистых улиц, городом музыки и старины. Одни вспомнили кладбище в Земмеринге и как они возлагали цветы на могилу Иоганна Штрауса или разыскивали в центре старой Вены домик Бетховена.
А другие рассказывали, что как раз в эти дни конские трупы валялись в Дунайском канале за Пратером рядом с разбитыми понтонами и взорванными мостами таким плотным слоем, что представляли собой как бы плотину, и стрелки перебегали по коням, как по сплошному настилу.
А Климов помнил какой-то бедный рабочий квартал, стайки ребят у кухонь и тихие, без слов и резких движений, танцы детворы под «Дунайские волны» полкового оркестра.
– Кишбер? Кишбер кто-нибудь помнит?..
Все рассмеялись. Действительно, в таком, как нынешнее наступление, все, что произошло неделю назад, может быть отнесено к древней истории и на этом основании забыто.
Но нет, нельзя забыть маленького боя за маленький Кишбер!
Климов шутя грозит Веселову:
– Ты в истории полка отведи ему настоящее место! Определенно! Что было замечательного под Кишбером, помнишь? Я тебе скажу, что было. Мы ведь сражались прямо, можно сказать, сонные, без памяти уставшие. Я тогда говорю что-то майору Артошенко, а он меня так удивленно спрашивает: «А почему вы, Николай Иванович, шопотом мне говорите?» Это я – то шопотом! Голос отнялся от усталости.
– Кишберскому сражению, – продолжал Климов, – надо отвести должное место. Тут я за всю войну впервые увидел, как родина ведет вперед человека, как толкает его сила наступления. И вот что замечательно: знаешь, что силы у тебя иссякли, а в то же время чувствуешь, что от других ни за что не отстанешь, может быть даже и перегонишь! Знаешь, что, когда понадобится, силы будут. Как говорится в старинных песнях: капле не отстать от потока, ручью реки не переспорить. Река вскачь – и капля с ней…
1945
Возрождение
(Письмо из Крыма)
Кажется, еще только вчера на склонах гор все рдело, пылало и до самого берега моря мчалось с холма на холм раскаленным, ярким ало-желто-багряным потоком гранатников, тополей, диких груш и виноградников, а потом с разбегу вливалось в море, так что у берегов оно даже как бы теряло свою непочатую синь и становилось розовее. Но так было еще в ноябре. А затем сразу все как-то побронзовело, только синие от ягод кусты дикого терна да ярко-красные, точно обрызганные свежей кровью, заросли шиповника одни еще оживляли зимний пейзаж Южного Крыма. Вскоре норд-осты пооббивали кусты терна, осыпался шиповник, – но горы ни за что не хотели становиться зимними.
Зеленый цвет, цвет весны и жизни, всегда пробивался хоть бы вскользь в их общей черно-рыжей окраске. То это был куст лавра, то аккуратная метелочка туи, то распушившийся на ветру зеленый самшитовый шар, крымская, похожая на пинию, сосенка, кедр или змейка плюща, пересекающая темно-зеленым ручейком какой-нибудь теплый южный склон.
Весна как бы то и дело заглядывала человеку в лицо, весело напоминая, что она рядом. И в самом деле, в паузах между норд-остами с моря веяло чем-то утомляюще-нежным, как в апреле, и, что ни день, теплым голубым огнем сияло море. Это был, однако, еще только январь.
Но в марте, в этом самом студеном и нервном месяце нашего юга, о котором давно сложилась нелестная поговорка, что в марте тридцать один день и тридцать две бури, – в марте весна давно уже была в сборе, как театральная группа перед поднятием занавеса.
Уже прилетели из Африки и молчаливо засуетились в кустах, больше бегая, чем летая, дрозды, уже раз или два воздух нежно вздрогнул жаворонками, настраивавшими голоса, и коротко, точно забывшись, защелкал еще не успевший отдохнуть от дальнего перелета соловей. Так бывает в театре, когда вот-вот бесшумно, с легкой прохладой должен раздвинуться занавес и вспыхнет музыка. Весна у нас так и началась – бесшумно и почти незаметно.
Однажды после сильного ночного ветра, с грохотом кувыркавшегося по крышам и, судя по всему, обещавшего снег, поутру мы увидели, что на горах зажелтели цветами кусты кизила и, розовея, раскрылись почки на миндальных деревьях. И вперегонки все, что только могло цвести, зацвело.
Если бы с такою же непритязательной простотой можно было бы рассказать о движении не только природы, а и всей жизни, то получилось бы нечто очень схожее с рассказанным.
Крым, измученный, истерзанный, почти умерщвленный немцами, казалось вначале, долго еще не очнется, не придет в себя, не встанет на ноги.
Да, Крым был почти мертв, когда войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии сбросили немцев в море у Херсонесского маяка. Керчь лежала в развалинах. Ее знаменитый металлургический завод был разбит так же беспощадно, как Сталинградский тракторный. Ее кварталы напоминали руины города, раскопанного археологами, один лишь обелиск на гребне Митридатовой горы во славу павших героев говорил, что город жив. Знаменитые каменоломни были забиты телами погибших женщин и детей. Всемирно известные курганы, где когда-то найдены были великолепные памятники древней скифской жизни, были минированы, склепы разбиты или загажены немецкими трупами.
В руинах же лежал и Севастополь – город, самым именем своим связанный со Славой и Величием.
Дымилась маленькая уютная Ялта, никогда не бывшая крепостью. Дымилась многострадальная Феодосия. Привольный Коктебель лежал, подобно Помпее наутро после извержения Везувия. В нем не осталось ни одного здания, кроме дома покойного поэта Волошина. В аллеях Никитского сада, созданного трудами нескольких поколений русских ученых, бродили брошенные немцами и румынами кони, валялись автомобили, деревья были обглоданы, кусты потоптаны, здания загажены и разрушены.
Не лучше было и в глухих крымских степях, дававших нам до войны знаменитую пшеницу-крымку. Редкий колхоз, редкое селение остались целы, но что еще страшнее – погибли от немецких рук гораздо более ценные вещи, чем хаты, – погибли артезианские и копаные колодцы, подлинные кормильцы степи. Степь была обречена на умирание. Жители ели макуху.
До войны разве мы думали в Крыму о еде? Мы только об одном тогда печалились, что в Крыму еще мало цветов, что почему-то в парках недооценены магнолии и фейхои, и здешние садовники с ног сбились, выводя экзотов и позабыв, что на свете существуют редька, репа, свекла и капуста. И вдруг в мае 1944 года все это сразу понадобилось от Евпатории до Керчи.
Мне случилось ненадолго заглянуть в Крым в декабре 1944 года и несколько дней пробыть в Ялте. Ее исковерканная набережная была пустынна, но чиста, прибрана: чьи-то невидимые руки убрали щебень, балки и кирпичи, подмели асфальт, посадили молодые саженцы вместо срубленных столетних акаций.
И, помню, тогда уже спорили, готовились к строительным боям патриоты, энтузиасты Крыма. Мечтали о будущей Керчи. О ее замечательной нефти. О ее газах. Уже стояла перед глазами идея газификации Крыма. В разбитых степных колхозах мечтали о будущей воде, о канале с Днепра или о подводном туннеле с устьев реки Кубани, пока что очищая заваленные колодцы, – и план сдачи хлеба был уже выполнен.
Стук молотков и скрежет пил уже и тогда оживлял воздух Крыма.
Событие накапливается прежде, чем свершиться. Еще шатаясь от незаживших ран, еще кровоточа, еще не поднимая от земли своей веселой, буйной головы, Крым уже оживал душою. Надо было чему-то произойти, пролиться последней капле, прозвучать заключительной ноте, чтобы из всего, что имелось налицо, родилась песня.
В январе этого года, в разгар предвыборной кампании, ранним ветреным утром я приближался к Севастополю со стороны Орлиных ворот (раньше – Байдарских). Склоны Сапун-горы с полузаросшими травой воронками, траншеями и блиндажами, а потом, поближе к вершине, с многочисленными братскими могилами и памятниками героям 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии, были густо, как металлическим гравием, усыпаны винтовочными гильзами.
Город не обманывал подъезжающего к нему, не рядился в лучшее платье – он сразу открывался развалинами и ими же продолжался. На протяжении нескольких километров глаз мой не мог найти ни одного целого здания, и, однако, отсутствие привычного городского ландшафта – зданий, улиц, фонарей, вывесок – не смущало народ. Бежали в школу дети, хозяйки торопились в магазины, шли рабочие с инструментами, проезжал, ухая на уличных колдобинах, грузовик с материалами, откуда-то со двора выбивался какой-то производственный дым, пахло горячей смолой – видно, вблизи собирались что-то асфальтировать, – и трамвайные провода, свисающие с железных столбов, как лианы, производили впечатление не сорванных взрывной волной, а еще не протянутых как следует.
По когда-то безукоризненно чистым севастопольским улицам ветер нес клубы мусора, обрывки газет и тряпичную дрянь, и казалось, что вот-вот под колеса машины выкатится выдутая ветром из подворотни какая-нибудь высохшая немецкая голова. Все сохранившиеся по бокам улиц здания просвечивали насквозь. Едучи по одной улице, отлично можно было видеть другую, соседнюю. Сквозь дырявую стену дома я видел собор Трех Адмиралов, пустой ребристый купол которого напоминал разоренное гнездо. С высоты Исторического бульвара, там, где с оторванной головой упорно простоял всю войну великий сапер Тотлебен, окруженный бронзовыми русскими солдатами, посмертно простреленными по многу раз, город в первое мгновение казался неживым. Он производил впечатление недостроенного. Памятник над братской могилой на Малаховом кургане – и тот был более похож на жилище, чем бывшие жилища нарядного, любившего принарядиться, как подобает истинному моряку, Севастополя.
Но ветер, дувший с берега в сторону моря, вдруг на несколько мгновений затих – и многозвучный, разноголосый, певуче-дробный звук тысяч молотов и молотков, ударов металла о металл, визг электрических сверл и мерное скрежетанье, медлительная грызня каких-то гигантских напильников наполнили воздух такою сладостной, такой гордой радостью, что слезы показались у меня на глазах. Какое счастье, какое великое счастье услышать биение сердца в существе, которое в растерянности и скорби уже посчитал неживым. Воздух над Севастополем стучал, скрежетал, тарахтел, повизгивал и шуршал с такою деятельной энергией, что оставалось только найти людей, производивших этот живительный грохот.
Кто их знает, где они ютились. Очевидно, везде. И отовсюду, из всех развалин, из всех осыпей зданий, от всех корабельных коробок, выглядывающих из воды Южной бухты, а тем более с кораблей, гордо возвышающихся над водою, исходило это нетерпеливое, нервное звучание жизни, которая не хочет ни на секунду замереть ни для отдыха, ни для воспоминаний.
В январе 1940 года в Севастополе народ еще бегал в кинотеатр, помещавшийся в бывшем бомбоубежище, под землей. Еще рассказывали о человеке, живущем в сейфе бывшей сберкассы. Но уже были люди, имеющие две-три комнаты. Уже вошел в обиход глагол «достраиваться». Уже можно было, идя по Приморскому бульвару, припомнить, каким он был до войны.
Приближалось то внезапно-бесшумное и как бы неожиданное наступление весны, о каком я говорил вначале. Восстановление, если говорить о нем, как о весне, уже началось и победоносно шло, все усиливаясь, но цветения, неожиданно общего подъема все еще как-то не было.
Но однажды мы почувствовали, что все ярким цветом вспыхнуло и здесь и уж бурлит, перекипает красками, чувствами и дерзаниями.
Когда же это произошло? Подготовка к выборам, самые выборы, сессия Верховного Совета, высказывание товарища Сталина в связи с речью Черчилля и, наконец, закон о пятилетием плане – от этой волны событий, следовавших одно за другим, и началось.
Нет ничего сильнее, активнее и производительнее в нашей стране, чем закон. Для советского человека он – не статья какого-то там уложения, – да и собственно не создано в мире еще такое уложение, в которое поместился бы тот изумительный закон о будущем, что только что принят. До сих пор были известны законы о том, чего не надо делать, и относились они к свершившимся деяниям. Но вот создан закон о том, что надлежит делать в будущем, и относится он не к уже содеянному, а к только намеченному. И, однако, это не предположение или рекомендация, а просто-напросто закон, обыкновенный закон, который надлежит всем выполнять и незнанием которого нельзя оправдаться.
И этот закон был тем самым первым цветом, который, подобно цветению кизилового куста, оживившего зимующие горы, сразу провозгласил подлинную весну.
Сразу оживились воскресники по восстановлению городов, зашевелились начальники хозяйственных предприятий, до сих пор все больше занимавшиеся грамматикой русского языка, чем делом, и всуе спрягавшие глагол «восстанавливать», вместо того чтобы работать по-будничному, то есть отлично и образцово. Долго говорили, будто хамса заблудилась, ушла будто бы не к нашим берегам и, стало быть, рыбы ныне не будет, но вдруг те же самые люди, вместо того чтобы клеветать на рыбу зря, ушли на баркасах в море и вернулись с богатым уловом.
На Керченском металлургическом заводе имени Войкова, на коксохимическом заводе имени Кирова, на Камыш-Бурунском железнорудном комбинате стало сразу значительно оживленнее. Закон, милые мои, ничего не поделаешь! Закон велит торопиться.
Крымские энергетики сдали в промышленную эксплоатацию мощную турбину на Севастопольской ГРЭС № 1. Это означает, что хозяйства Севастополя, Симферополя, Евпатории и Ялты получают живительную поддержку. Боевыми темпами завершается восстановление Перекопского и Сакского заводов. Закон идет, великий закон наших планов! Он всех торопит и расшевеливает.
Начинает разворачиваться промышленность крымских стройматериалов. О них можно было бы подобрать материалы чуть не со дня сотворения мира. Еще древние эллины знали, что в Тавриде водится хороший камень и мрамор, и древние Афины, древняя Византия, не говоря уже о Херсонесе, Суроже или Неаполисе Скифском (Симферополе), знали цену местным мраморам.
Число восстановленных санаториев и домов отдыха вместе с уцелевшими от немецких рук перешагнуло сотню, хотя, надо сказать, строители работают тут еще не очень хорошо. Но все-таки – более сотни здравниц!
В знаменитых на весь мир подвалах Массандры выдерживаются неподражаемые мускаты и токаи, и поэты вина размышляют уже о винах будущих лет, о возрождении исчезнувших вин Хиоса и Эллады – вин, которые были известны Гомеру.
Ничего нельзя откладывать та вторую очередь, и обо всем сразу хочет позаботиться душа – и о хлебе, и о рыбе, о нефти и вине, о розах, сотни сортов которых с тщанием и любовью разведены в «Никите», как запросто называют тут Никитский ботанический сад.
Сегодняшняя весна напоминает мне первую большевистскую весну 1930 года, когда народ наш поднялся с таким же юношеским вдохновением, с таким же горячим азартом, с несокрушимой верой в свой успех.
В прошлом году из Узбекистана в Крым перегнали десять тысяч каракулевых овец. Три месяца продолжалось это труднейшее путешествие огромной отары, сначала железной дорогой до Красноводска, затем морем в один из портов Астраханской области и отсюда сальскими и украинскими степями в Крым.
В этом году сто десять степных и тридцать пять предгорных колхозов Крыма начнут выкармливать тутовых и дубовых червей-шелкопрядов и дадут стране больше пятнадцати тонн коконов. В этом году семь инкубаторных станций дадут к первому июля полмиллиона цыплят. В этом году в колхозах только одного Нижнегорского района будет высажено на приусадебных участках и на улицах деревень двадцать пять тысяч саженцев фруктовых и декоративных растений. В этом году будут восстановлены почти все до единого степные колхозы, и степь не замрет, не зачахнет, не превратится в безжизненную и бесплодную пустыню.
Самым безжизненным в Крыму было море. Оно долго не подавало признаков возрождения, пока с ним не произошло то же, что и с горами, и с заводами, и с санаториями.
Однажды вечером густая, низкая октава пароходного гудка раскатом грома прошла над городом. Все выскочили узнать, в чем дело, и не поверили своим глазам: в порт входила элегантная «Украина». На набережной были уже толпы народа, на молу кричали «ура!»
Это был первый пассажирский пароход с 1941 года. Он принес с собой как бы окончательное и бесповоротное возвращение к мирным дням и мирным мыслям. И будто этой бархатной октавы только и ждали морские пространства, – на утро застрекотали моторные рыбачьи баркасы, прошли на горизонте парусники, пробежали с каким-то грузом быстроходные баржи, пришвартовался к разбитому молу танкер, и на единственном уцелевшем причале появились многочисленные любители с удочками. Некоторые приехали со своими удочками из-за Урала.
И это было уже своеобразной морокой весной.
Парус на Черном море будит многое множество воспоминаний. Первый парус на этом море был поднят первыми хозяевами Крыма – может быть, еще скифами. Недаром Гомер одним из героев своей «Илиады» сделал быстроногого Ахиллеса, тавро-скифского князя, вероятнее всего из района Пантикапеи (Керчи), как предполагали осторожные в своих догадках русские ученые. Флот Олега был, должно быть, уже могуч, если князь сумел добраться до Босфора и прибить свой щит к цепям, запирающим пролив, к этим своеобразным вратам Цареграда. А потом, при Владимире, киевские ладьи при червленых стягах высадили первый русский десант у Херсонеса и взяли эту крепость.
То был второй выход российского флота за пределы земли своей, сразу определивший, за кем быть морю. И еще Геродот наименовал его Русским.
Таким оно навсегда и осталось. Ни одному морю не повезло так в наших песнях, как морю Черному, потому что никакое другое из русских морей не сыграло такой огромной роли в жизни Руси, как это самое, так называемое Черное.
До сих пор еще спорят, почему оно названо Черным, и никак не придумают толкового объяснения.
Черным оно прозвано турками, но Кара-Дениз можно перевести не только как Черное море, но еще и как «злое море», «неприветливое» или «негостеприимное».
А в самом деле, с чего же ему быть приветливым и как вообще турки могли иначе назвать его, как не «злым морем», если столетия подряд запорожцы на своих «двуглавых чайках» хозяйничали от Гезлева (Евпатории) до Кафы (Феодосии) и от Кафы до Трапезунда и Синопа? Да, недобрым, неласковым, чужим, черным морем было оно в самом деле для турок. Судите сами. В октябре 1575 года запорожский гетман Богданко Ружинский ворвался с казаками за Перекоп, пробился сухопутьем к Евпатории, оттуда на кожаных лодках переплыл море, взял Трапезунд, овладел Синопом и угрожал самому Стамбулу.
В 1589 году запорожцы с кошевым атаманом Кулагой на малых стругах атаковали турецкие кочермы (парусные корабли) у Евпатории и пожгли их. Спустя двадцать пять лет запорожцы на своих утлых ладьях, не заходя в Крым, одним духом перевалили море, взяли и опустошили Синоп, сожгли суда у его пристани и освободили множество пленных христиан, а через год осмелели, подожгли на Босфоре, в окрестностях Стамбула, две султанские пристани. Проходит еще год, и двести запорожских «чаек», ведомые лихим Сагайдачным, разбивают у Евпатории эскадру Али-паши, обходят Крым с юга, берут десантом Феодосию и, выведя из нее более тридцати тысяч невольников – украинцев, поляков и русских, – добираются до Синопа и Трапезунда и, сравняв оба города с землей, возвращаются к родному Днепру.
Да разве мыслимо так себя вести в чужом, злом, нерадостном, черном каком-то море? Да никогда же! Да ни за что!







