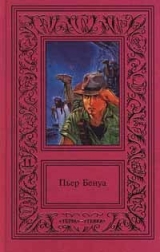
Текст книги "Атлантида. Забытый. Прокаженный король. Владелица ливанского замка. Кенигсмарк. Дорога гигантов. Соленое озеро"
Автор книги: Пьер Бенуа
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 78 страниц)
X. КРАСНЫЙ МРАМОРНЫЙ ЗАЛ
Ле-Меж снова повел нас по бесконечным коридорам и лестницам.
– В этом лабиринте теряешь всякую способность ориентироваться, – тихо сказал я Моранжу.
– Прежде всего, тут потеряешь голову, – ответил вполголоса мой спутник. – Этот старый безумец, без сомнения, очень ученый человек. Но черт его знает, куда он гнет. Впрочем, он сказал, что мы сейчас все узнаем.
Ле-Меж остановился перед тяжелой темной дверью, покрытой сверху донизу инкрустацией из каких-то странных, непонятных знаков. Повернув ключ в замке, он произнес:
– Пожалуйста, господа, проходите!
Резкий порыв холодного ветра ударил нам в лицо.
В новом зале, куда мы вступили, царила температура настоящего погреба.
Сначала вследствие темноты я не мог определить его размеры. Освещение, умышленно ослабленное, состояло из двенадцати больших, горевших ярким красным пламенем, светильников на высоких медных постаментах в виде колонн, врытых прямо в землю. Когда мы вошли в зал, ветер из коридора заколебал эти огни, заставив в течение минуты танцевать вокруг нас наши сильно выросшие и странно обезображенные тени. Но затем воздушное течение улеглось, и вновь застывшее пламя огромных лампад снова засверкало во мраке своими неподвижными алыми языками.
Эти двенадцать гигантских лампионов (каждый из них уходил метра на три в вышину) были расположены короной, по меньшей мере, пятидесяти футов в диаметре. Посредине этой короны я заметил темную массу, отсвечивавшую красноватыми дрожащими полосами. Подойдя поближе, я различил текучий родник. Эта холодная вода и поддерживала в зале ту низкую температуру, о которой я говорил.
Обширные сидения были высечены прямо в центральной скале, откуда бил темный, тихо журчавший ключ. Они были устланы шелковыми подушками.
Внутри короны из красных светильников смутно виднелись двенадцать курильниц, составлявших как бы вторую корону, диаметром наполовину меньше. Темнота мешала видеть их поднимавшийся к своду дым, но вызываемая им истома, сливаясь со свежестью и приятным шумом воды, подавляла в душе всякое иное желание, кроме одного: остаться в этом месте навсегда.
Ле-Меж усадил нас на находившиеся посредине зала циклопические кресла. Сам он поместился между нами.
– Через несколько минут, – сказал он, – вы освоитесь с этим полумраком.
Я заметил, что он говорил тихим голосом, как в храме.
Мало-помалу глаза наши, действительно, приспособились к красноватому свету, освещавшему, впрочем, только нижнюю часть беспредельного зала.
Весь свод оставался во тьме, и не было никакой возможности судить о его высоте. Смутно, над самыми нашими головами, я различал большую люстру, на позолоту которой, как и на все другие ее части, беспрестанно ложился темными пятными красный свет. Но ничто не позволяло определить длину цепи, державшей эту люстру на окутанном мраком потолке.
Мраморный пол был отполирован так гладко, что в нем ярко отражались огни громадных светочей.
Весь зал, повторяю, представлял собою правильный круг, имея в центре родник, к которому мы сидели спиной.
Лица наши были, таким образом, обращены к круглой стене зала. Скоро наши глаза, все время на нее устремленные, уже не могли от нее оторваться. Была одна вещь, делавшая эту стену замечательной: она разделялась на множество мрачных ниш, черную линию которых разрезала, как раз перед нами, дверь, откуда мы вошли; позади нас, в виде темной дыры, чувствовалась вторая дверь, и я угадал ее во мраке, повернувшись к ней лицом. На пространстве от одной двери к другой я насчитал шестьдесят ниш, – итого, сто двадцать. Все они имели по три метра в вышину и по одному – в ширину. В каждой из них находилось нечто вроде футляра, больше расширявшегося кверху, чем книзу, и закрытого только в своей нижней части. В каждом из этих футляров, за исключением двух, стоявших прямо против меня, мне чудились блестящие очертания каких-то предметов, имевших, без сомнения, человеческую форму, – что-то вроде статуй из светлой бронзы. По той дуге окружности, что шла как раз передо мной, я отчетливо насчитал тридцать таких странных статуй.
Что это были за статуи? Мне захотелось на них взглянуть, и я поднялся с своего места.
Ле-Меж удержал меня за руку.
– Подождите, – сказал он все тем же тихим голосом, – подождите одну минуту.
Взгляд профессора был устремлен на дверь, через которую мы проникли в зал и из-за которой слышались постепенно приближавшиеся шаги.
Через несколько секунд она бесшумно раскрылась, пропустив трех белых туарегов. Двое из них несли на плечах длинный сверток, а третий, как мне показалось, ими руководил.
По его указанию, они положили свою ношу на землю и извлекли из одной из ниш, о которых я говорил, продолговатый футляр, стоявший в каждом из стенных углублений.
– Можете подойти, господа, – сказал нам тогда ЛеМеж.
По его знаку, трое туарегов отступили на несколько шагов назад.
– Вы только что просили меня, – обратился он к Моранжу, – дать вам доказательство влияния Египта на эту страну. Что вы скажете, для начала, об этом ящике? – С этими словами он протянул руку по направлению к футляру, который слуги положили на землю, после того как вытащили его из ниши.
Моранж издал глухое восклицание.
Перед нами находился один из тех ящиков, котоые употреблялись для хранения мумий. Такое же блестящее дерево, такие же пестрые рисунки, с той только разницей, что здесь иероглифы были заменены буквами тифина. Уже одна форма этого гроба, суженного кинзу и более широкого кверху, должна была бы сразу напомнить нам о его назначений.
Я уже говорил, что нижняя часть этого футляра была закрыта, производя впечатление прямоугольного деревянного башмака.
Ле-Меж стал на колени и прикрепил к нижней части ящика четырехугольник из белого картона, нечто вроде большого ярлыка, который он взял с своего стола за несколько минут до того, как выйти из библиотеки.
– Можете прочитать, – сказал он все тем же тихим голосом.
Я тоже опустился на колени, так как света огромных канделябров было недостаточно, чтобы разобрать надпись на ярлыке, в которой я узнал почерк профессора.
Крупными круглыми буквами на ней были начертаны следующие простые слова:
«Номер 53. Майор сэр Арчибальд Ресль. Родился в Ричмонде 5 июля 1860 года. Умер в Хоггере 3 декабря 1896 года».
Одним прыжком я вскочил на ноги.
– Майор Ресль! – воскликнул я.
– Тише, тише! – остановил меня Ле-Меж. – Никто не имеет права возвышать здесь голос.
– Майор Ресль, – тихо повторил я, невольно повинуясь его приказанию, – тот самый, который отправился в прошлом году из Хартума для исследования Сокото?
– Тот самый, – ответил профессор.
– И… где же майор Ресль?
– Он тут, – ответил Ле-Меж.
Профессор сделал знак. Белые туареги подошли ближе.
В зале царила напряженная таинственная тишина, нарушаемая лишь бульканьем прохладного родника.
Трое чернокожих принялись развязывать сверток, который они положили, когда вошли, возле разрисованного ящика.
Склонившись под тяжестью невыразимого ужаса, смотрели мы, – Моранж и я, – на их работу.
Вскоре показались очертания человеческого тела, твердого, слрвно окостенелого. Несколько красных лучей скользнули по его членам. Перед нами лежала, вытянувшись на земле, под покрывалом из белой кисеи, статуя из светлой бронзы, в точности напоминавшая те, которые неподвижно стояли вокруг нас в нишах и, казалось, не спускали с нас своих непроницаемых взглядов.
– Сэр Арчибальд Ресль, – медленно и тихо произнес Ле-Меж.
Моранж безмолвно приблизился к телу. У него хватило силы приподнять кисейное покрывало. Долго-долго всматривался он в страшную бронзовую статую.
– Мумия… мумия… – задумчиво произнес он, наконец. – Нет, вы ошибаетесь, это не мумия.
– Строго говоря, – возразил Ле-Меж, – это, конечно, не мумия. Но, тем не менее, перед вами бренные останки сэра Арчибальда Ресля. Должен вам заметить по этому поводу, что способы бальзамирования, применяемые для Антинеи, отличаются от тех, которые были в ходу в древнем Египте. Мы не пользуемся ни натрием, ни повязками, ни ароматическими веществами. Хоггарским бальзамировщикам удалось сразу же добиться результата, которого европейское искусство достигло лишь после долгих опытов и трудов. Когда я прибыл сюда, я был чрезвычайно удивлен, увидев, что здесь употребляют метод, известный, как я думал, только цивилизованным народам.
И ЛеМеж, согнув свой указательный палец, слегка стукнул по матовому лбу сэра Арчибальда Ресля. Раздался металлический звон.
– Это бронза, – прошептал я. – Это не человеческий лоб. Это – бронза.
Ле-Меж пожал плечами.
– Говорю вам, что это лоб человеческий, а не бронзовый, – отрезал он. – Бронза, милостивый государь, гораздо темнее. А этот металл – тот самый, тот великий таинственный металл, о котором Платон говорит в «Критии» и который занимает середину между золотом и серебром. Его находят только в горах Атлантиды. Это – орихалк[35]35
Таинственный, нам неизвестный металл, о котором упоминает Платон в своем описании Атлантиды. (Прим. перев.).
[Закрыть].
Нагнувшись еще ниже я убедился, что этим же металлом были выложены и стены библиотеки.
– Это орихалк, – продолжал Ле-Меж. – Вы, кажется, не понимаете, как можно превратить человеческое тело в орихалковую статую? Послушайте, капитан Моранж: вы производите на меня впечатление человека с большими знаниями, – неужели же вам не приходилось слышать о способе доктора Варио[36]36
Варио: "Гальваническая антропология: ". Париж, 1890. (Прим. советника Леру)
[Закрыть] сохранять трупы не только путем их бальзамирования? Разве вы никогда не читали книгу этого врача? Он описывает в ней метод, известный под названием гальванопластики. Кожную ткань, чтобы сделать ее более проводимой, смазывают слегка кислотным раствором серебра. Вслед затем тело погружают в воду, насыщенную медным купоросом, после чего начинается процесс поляризации.
Способ, при помощи которого труп этого почтенного английского майора был покрыт металлической амальгамой, ничем, в сущности, не отличается от описанного. Вся разница в том, что в данном случае для ванны мы употребили не медный купорос, а сернокислый орихалк, т. е. вещество чрезвычайно редкое. Таким образом, вместо простой и грубой медной статуи, вы получаете человеческую фигуру из металла, который гораздо ценнее золота и серебра, – одним словом, памятник, вполне достойный дочери Нептуна.
Ле-Меж сделал знак. Черные рабы схватили тело. В несколько мгновений они просунули орихалковый призрак в футляр из разрисованного дерева, поставили его стоймя и отнесли в нишу, рядом с другой, уже заключавшей в себе точно такой же ящик с ярлыком номер 52.
Выполнив свое дело, они молча удалились. Ворвавшийся через дверь холодный воздух закачал еще раз Пламя медных светильников и опять вызвал вокруг нас пляску огромных теней. Несколько минут Моранж и я стояли двумя неподвижными привидениями, мало чем отличаясь от окружавших нас призраков из бледного металла. Наконец, мне удалось сделать на собой усилие и подойти неверными шагами к нише, находившейся по соседству с той, куда только что поставили бренные останки английского майора. Мои глаза стали искать ярлык с номером 52.
Упираясь в красный мрамор стены, я прочел вслух: – «Номер 52. Капитан Лаврентий Делинь. Родился в Париже 22 июля 1861 года. Умер в Хоггаре 20 октября 1896 года».
– Капитан Делинь! – тихо воскликнул Моранж. – Тот самый, который отправился в 1895 году из Колон-Бешара в Тимимун и пропал с тех пор без вести!
– Правильно! – сказал Ле-Меж, утвердительно кивнув головой.
– «Номер 51, – прочитал Моранж, и было слышно, как он стучал зубами. – Полковник фон-Витман. Родился в Иене в 1855 году. Умер в Хоггаре 1 мая 1896 года». Полковник фон-Фитман, пропавший на пути в Агадес?
– Правильно! – сказал еще раз Ле-Меж.
– «Номер 50, – стал читать я, в свою очередь, уцепившись руками за стену, чтобы не упасть. – Маркиз Алонзо д'Оливейра. Родился в Кадиксе 21 февраля 1868 года. Умер в Хоггаре 1 февраля 1896 года». Оливейра, который хотел пробраться в Аруан?
– Правильно! – продолжал подтверждать Ле-Меж. – Этот испанец обладал замечательными познаниями. У меня были с ним интересные беседы о точном географическом положении царства атлантов.
– «Номер 49, – произнес Моранж голосом, который я едва расслышал. – Лейтенант Вудхауз. Родился в Ливерпуле 16 сентября 1870 года. Умер в Хоггаре 4 октября 1895 года».
– Почти дитя, – сказал Ле-Меж.
– «Номер 48, – прочитал я. – Подпоручик Луи де Майфе. Родился в…» Я не докончил… Страшное волнение сдавило мне горло.
Луи де Майфе, мой друг детства, мой лучший товарищ в Сен-Сире… везде, всегда!.. Я впился в него глазами, я узнавал его под металлической оболочкой, крепко сковывавшей его тело. Луи де Майфе!..
И, прижавшись лбом к холодной стене, я заплакал навзрыд, вздрагивая всем телом.
Я услышал, как Моранж сказал сдавленным голосом, обращаясь к профессору:
– Надо положить конец этой сцене! Довольно!
– Ведь он хотел знать, – ответил Ле-Меж. – Я не виноват.
Я накинулся на старикашку и схватил его за плечи.
– Как он очутился здесь? От чего он умер?
– От того же, от чего умерли и все другие, – сказал профессор. – Он умер такой же смертью, как лейтенант Вудхауз, как капитан Делинь, как майор Ресль, как полковник фон Витман, как все остальные сорок семь человек и как те, которым еще суждено сюда попасть.
– От чего они умерли? – спросил, в свою очередь, повелительным тоном Моранж.
Профессор посмотрел на моего спутника, и я увидел, что тот побледнел.
– От чего они умерли? Они умерли от любви, – и прибавил очень тихо и очень серьезно:
– Теперь вы все знаете.
Осторожно, с заботливым вниманием, которого мы в нем даже не предполагали, он оторвал нас от созерцания металлических статуй. Минуту спустя мы снова сидели или, вернее, упали, – Моранж и я, – на шелковые подушки каменных сидений, высеченных в центре зала. Невидимая струя воды жалобно пела у наших ног.
Ле-Меж опять занял место между нами.
– Теперь вы все знаете, – повторил он. – Вы все знаете, но еще не все понимаете.
И медленно, напирая на каждое слово, он произнес:
– Как они, каждый в свое время, как и вы теперь – пленники Антинеи… Ибо Антинея должна мстить.
– Должна мстить? – спросил Моранж, к которому снова вернулось все его самообладание. – За что, скажите, пожалуйста? Что сделали мы, – поручик и я, – дочери атлантов? Чем навлекли мы на себя ее ненависть?
– Это старый, очень старый спор, – ответил серьезно профессор. – Спор, которого вы никогда не поймете, господин Моранж.
– Объяснитесь, пожалуйста, господин профессор.
– Вы – мужчины, она – женщина, – произнес задумчивым голосом Ле-Меж. – Этим все сказано.
– Уверяю вас, я не понимаю…
– Вы сейчас поймете… Разве вы не помните, сколько прекрасные царицы и царевны экзотической древности имели причин для жалоб на чужеземцев, которых судьба приводила к их берегам. Поэт Виктор Гюго довольно хорошо изобразил их отвратительное поведение в своей «колониальной» поэме «La Fiiie d'Otahiti»[37]37
По-французски-, вместо fie Tahiti (остров Таити), иногда пишут ile Otahiti. (Прим. перев.)
[Закрыть]. В какую бы эпоху далекого прошлого мы ки заглянули, везде мы видим, что эти субъекты вели себя по отношению к этим женщинам с непростительным легкомыслием и неблагодарностью. Они широко пользовались их красотой и богатством, а затем, в одно прекрасное утро, исчезали. И счастливыми должны были почитать себя жертвы; если эти молодцы, обработав их как следует, не возвращались еще с кораблями и солдатами для захвата их владений.
– Ваша эрудиция, сударь, приводит меня в восторг, сказал Моранж. – Продолжайте.
– Хотите примеров? Увы! Ими хоть пруд пруди. Вспомните, каким рыцарем вел себя Улисс с Калипсо, Диомед с Каллироэ. Что скажите вы об Ариадне и Теззе? А Язон – какую непонятную фривольность проявил он по отношению к Медее! Римляне продолжали эту традицию с еще большей грубостью. Эней, у которого так много сходства с досточтимым отцом Спардеком, поступил самым недостойным образом с Дидоной. Цезарь показал себя в своей истории с божественной Клеопатрой увенчанным лаврами хамом. Наконец, Тит, просидевший целый год в Идумее у пяльцев печальной Бериники, увез ее с собою в Рим только для того, чтобы лучше там над нею издеваться. Давно уже пробил час, чтобы сыны Яфета заплатили дочерям Сима прочитающуюся с них огромную недоимку за нанесенные ими обиды.
И вот нашлась женщина, сумевшая восстановить в интересах своего пола великий закон колебаний Гегеля. Изолированная от арийского мира необычайными мерами предосторожности Нептуна, она завлекает теперь к себе самых молодых и смелых мужчин. Уступчива ее плоть, но неумолима ее душа. У этих юных храбрецов она берет то, что они могут дать. Она предоставляет им свое тело, но господствует над ними своим духом. Это – первая в мире царица, которая никогда, ни на одну минуту, не превращалась в рабыню своих страстей. Ей ни разу не случилось забыться, потому что она никогда не отдавалась. Она – первая из женщин, сумевшая разъединить две столь тесно сплетенные между собою вещи, как любовь и наслаждение.
Ле-Меж на мгновение умолк, затем продолжал: – Раз в день она приходит в этот подземный зал. Она останавливается перед нишами. Она размышляет перед этими неподвижными статуями. Она касается рукой их холодных тел, пламенный жар которых она когда-то испытала.
Потом, помечтав около пустой ниши, где скоро уснет вечным сном, в своем холодном орихалковом футляре, тот, кто ее ждет, она возвращается своей небрежной походкой в свои покои.
Профессор умолк. Снова в темноте послышалось журчанье родника. Мой пульс бился с необыкновенной силой, Голова моя пылала. Меня пожирал огонь лихорадки.
– И все они, – закричал я, не думая о том, где народился, – все они соглашались! Все покорялись! О, пусть оНа только придет! Я ей покажу!
Моранж хранил молчание.
– Мой друг, – сказал мне Ле-Меж мягким голосом, вы рассуждаете, как ребенок. Вы ничего не знаете. Вы не видели Антинею. Поймите одну вещь, ведь между ними, и движением руки он показал на весь круг немых статуй, – ведь между ними были такие же, как и вы, мужественные люди и, может быть, не такие нервные. Один из них, – тот, который покоится под номером 32, – был, как мне помнится, флегматичный англичанин. Он предстал перед Антинеей, не выпуская изо рта сигары. Но и он, мой дорогой, но и он склонил голову под взглядом моей повелительницы. Не говорите так, пока вы ее не увидите. Профессорского знания еще недостаточно, чтобы спорить о вопросах страсти, и я чувствую, что не в силах сказать вам, чтб такое Антинея. Но я утверждаю только одно: с того момента, как вы ее видите, вы забываете обо всем. Вы отрекаетесь, от всего – от семьи, родных, чести.
– От всего, говорите вы? – спокойно спросил Моранж.
– От всего, – с силою повторил Ле-Меж. – Вы забудете все, вы отречетесь от всего.
Снова послышался легкий шум. Ле-Меж взглянул на часы.
– Впрочем, вы сами в этом убедитесь.
Дверь открылась. Огромного роста белый туарег, самый высокий из всех, которых мы успели заметить в этой страшной обители, вошел в зал и направился к нам.
Поклонившись, он слегка коснулся моей руки.
– Следуйте за ним, – сказал Ле-Меж.
Я молча повиновался.
ХI. АНТИНЕЯ
Мой проводник снова повел меня по длинному коридору. Мое крайне возбужденное состояние все усиливалось.
Я с нетерпением ждал момента, когда увижу загадочную женщину, когда смогу ей сказать… Я знал теперь, что иду навстречу смерти, и твердо решил собою пожертвовать.
Но я ошибся, надеясь, что ожидаемое приключение сразу же облечется в героическую форму. В жизни все ее разнообразные стороны тесно между собою соприкасаются.
Мне следовало бы вспомнить, по множеству предшествовавших событий, что в нашем безрассудном предприятии смешное довольно правильно чередовалось все время с трагическим.
Дойдя до низкой двери из светлого дерева, белый туарег отстранился и пропустил меня вперед.
Я очутился в чрезвычайно уютной и комфортабельно обставленной туалетной комнате. Потолок из матового стекла лил на мраморные плиты пола веселый розоватый свет.
Первым предметом, который бросился мне в глаза, были стенные часы с циферблатом, изображавшим знаки Зодиака.
Ближайшим на пути маленькой стрелки был Овен.
Стало быть, три часа, только три часа.
Этот день уже казался мне веком… А между тем, я прожил лишь несколько больше его половины.
Вдруг мой мозг осветила новая мысль, и меня потряс конвульсивный смех.
«Антинея хочет, чтобы я предстал перед ней в своем наиболее презентабельном виде!» Громадное зеркало в орихалковой раме занимало значительную часть помещения. Взглянув на себя, я понял, что, с точки зрения благопристойности, в желании Антинеи не было ничего чрезмерного.
Моя спутанная борода; густой слой грязи, нависший над глазами и застывший длинными струйками на моих щеках; мой костюм, измазанный всеми сортами глинистой почвы Сахары и истерзанный всеми терниями Хоггара, превратили меня, в самом деле, в весьма жалкого кавалера.
Я моментально разделся и погрузился в порфировую ванну, занимавшую всю середину туалетной комнаты. Теплая и ароматная вода сковала мои члены тяжелой негой.
Передо мной, на чудном, покрытом резьбой, зеркальном столике, мелькало множество всяких размеров и цветов баночек, высеченных из чрезвычайно прозрачного нефрита.
Приятная влажная атмосфера умиротворила мое нервное возбуждение.
«К черту Атлантиду, подземное кладбище и Ле-Межа», – успел я еще подумать и – заснул в своей купальне.
Когда я открыл глаза, маленькая стрелка на часах была уже почти у Тельца. Передо мной, упираясь своими черными ладонями в края ванны, стоял рослый негр с открытым лицом, голыми руками и головой, повязанной огромным тюрбаном оранжевого цвета. Он смотрел на меня, молча смеясь и показывая все свои зубы.
– Это что еще за фрукт? – подумал я вслух.
Негр засмеялся громче. Не говоря ни слова, он схватил меня и извлек, как перышко, из душистой воды, которая приобрела, после моего пребывания в ней, такой цвет, что лучше об этом и не говорить.
Через секунду я увидел себя лежащим на мраморном, с наклоном вниз, столе. Негр принялся меня массировать с необычайной силой.
– Эй, ты, животное, потише!
Мой массажист вместо всякого ответа снова засмеялся и удвоил свои усилия.
– Откуда ты? Из Канема? Из Борку? Для туарега ты слишком смешлив.
Молчание. Этот негр был столь же молчалив, как и весел.
«Вконце концов, не все ли мне равно, – подумал я, не добившись от него толку. – Каков бы он ни был, он все же симпатичнее Ле-Межа с его кошмарной эрудицией».
– «Папиросу, сиди[38]38
Сиди, по-арабски, господин. (Прим, перев.)
[Закрыть]?
И, не дожидаясь моего ответа, черномазый сунул мне в рот папиросу, подал мне огня и снова принялся рвать меня по всем швам.
«Он говорит мало, но он очень услужив», – подумал я.
И я послал ему прямо в лицо огромный клуб дыма.
Эта шутка пришлась ему необычайно по вкусу. Он немедленно выразил свое удовольстие, надавав мне с дюжину добрых шлепков.
Основательно намяв мне бока, негр взял с зеркального столика одну из маленьких баночек и начал смазывать мое тело какою-то розовой пастой. Чувство усталости моментально улетучилось из моих помолодевших мускулов.
Прозвучал удар молотка по медному колоколу. Мой массажист исчез. В комнату вошла старая низкорослая негритянка, одетая в необыкновенно пестрый наряд. Она была болтлива, как сорока, хотя сначала я не понимал ни звука из ни того бесконечного потока слов, который летел с ее языка, в то время как она, завладев моими руками, а потом ногами, принялась полировать мои ногти, сопровождая эту операцию привычными гримасами.
Новый удар колокола. Старуха уступила место другому негру, весьма важного вида, одетому во все белое, с ермолкой из вязаной шерсти на продолговатом черепе. То был парикмахер, работавший с необычайной легкостью и поразительной ловкостью. Он быстро срезал мне волосы, соорудив из того, что осталось, весьма приличную прическу. Затем, даже не осведомившись о том, носил ли я бороду или обходился без оной, он дочиста меня обрил.
Я с удовольствием взглянул на свое гладкое, словно возрожденное лицо.
«Антинея любит, должно быть, американский тип, подумал я. – Какое оскорбление для памяти ее достойного деда Нептуна!» В эту минуту снова вошел веселый негр и положил на диван довольно увесистый узел. Цырюльник исчез. Я с удивлением смотрел, как из свертка, который осторожно разворачивал мой новый камердинер, постепенно появлялся полный костюм из белой фланели, в точности походивший на те, которые носят в Африке, в летнее время, французские офицеры.
Просторные и мягкие брюки казались сшитыми словно по мерке. Куртка сидела на мне безукоризненно и даже была украшена (эта подробность заставила меня ахнуть от изумления) двумя присвоенными моему чину подвижными золотыми нашивками, которые держались на рукавах при помощи петличных шнурков. В качестве обуви я получил пару высоких туфель из красного сафьяна с золотыми суташами, а белье, все из шелка казалось присланным прямо с улицы Мира, в Париже.
– Завтрак был чудесный, – пробормотал я, оглядывая себя с довольным видом в зеркало, – помещение вполне благоустроенное… посмотрим остальное…
Я не смог подавить легкую дрожь, припомнив вдруг статуи красного мраморного зала.
В эту минуту стенные часы пробили половину пятого.
В дверь тихо постучали. На пороге комнаты появился высокий белый туарег, уже служивший мне проводником.
Я снова последовал за ним.
Опять потянулись, один за другим, длинные коридоры.
Я все еще был взволнован, но соприкосновение с водой вернуло мне некоторое самообладание. Кроме того, – хотя я не хотел себе в этом сознаваться, – я чувствовал, как во мне быстро нарастало безграничное любопытство. В эту минуту, если бы мне вдруг предложили отвезти меня обратно на дорогу белой равнины, у Ших-Салы, я, наверное, ответил бы отказом. Я почти не сомневаюсь в этом.
Я пытался пристыдить себя за это любопытство. И подумал о Майфе.
«Он тоже шел по этому коридору. А теперь он – там, в красном мраморном зале».
Но я не успел углубиться в это воспоминание. Совершенно неожиданно, словно на меня налетел болид, что-то сильно меня толкнуло и опрокинуло на землю. В проходе было темно. Я ничего не видел. До меня донесся лишь чей-то насмешливый вой.
Белый туарег отскочил в сторону, плотно прижавшись спиной к стене.
– Ну, вот, – пробормотал я, поднимаясь на ноги. Опять начинается чертовщина!
Мы продолжали наш путь. Вскоре коридор стал» светлеть, озаряясь постепенно каким-то сиянием, исходившим на этот раз не из размещенных в проходе розовых светильников.
Мы дошли, таким образом, до высокого бронзового входа в виде ворот, покрытого сверху донизу ажурной резьбой, которая ярко просвечивала и напоминала странное кружево. До меня донеслись чистые звуки колокольчика.
Обе половинки двери отворились. Туарег, оставшийся в коридоре, закрыл их за мной.
Машинально я сделал несколько шагов и пошел, было, вперед, как вдруг остановился, словно вкопанный, защищая глаза рукой.
Я был ослеплен внезапно открывшимся передо мной широким лазурным просветом.
В продолжение нескольких часов я не выходил из полумрака и отвык от яркого дйевного света. Теперь же широкими волнами он лился мне навстречу с одной стороны обширного зала.
Последний находился в нижней части горы, изрезанной проходами и галлереями не хуже египетской пирамиды.
Будучи расположен на одном уровне с садом, который я видел утром с балкона библиотеки, он казался его продолжением. Переход почти не чувствовался: если под высокими пальмами сада были разостланы ковры, то в лесу колонн, поддерживавших своды зала, порхали птицы.
Вся часть зала, которая не находилась под непосредственным действием светового потока, лившегося прямо из оазиса, тонула вследствие резкого контраста в полумраке.
Солнце, медленно угасавшее за горой, скрашивало в розовый цвет гравий садовых дорожек и в кроваво-красный – перья священного фламинго, стоявшего, подняв одну ногу, на краю маленького озера, сверкавшего, как темно-алый сапфир.
Вдруг, еще раз, я полетел на землю. Какая-то масса внезапно обрушилась на мои плечи. Я почувствовал на своей шее чье-то теплое шелковистое прикосновение, а на затылке – горячее дыхание какого-то живого существа. В то же мгновение повторился насмешливый вой, уже раз смутивший меня в коридоре.
Сильным движением всего тела, я освободился от навалившейся на меня тяжести, нанеся, вместе с тем, наудачу могучий удар кулаком в сторону противника. Снова раздался вой, но на этот раз болезненный и гневный.
В ответ на него до меня донесся громкий и продолжительный смех. Вне себя от ярости, я выпрямился во весь рост, отыскивая глазами наглеца с намерением учинить над ним жестокую расправу. Но в ту же секунду мой взор застыл и остался неподвижным.
Я увидел Антинею…
В наиболее темной части зала, под отдельным сводом, искусно и необыкновенно ярко освещенным мальвовым светом двенадцати громадных широких окон, на груде пестрых подушек и драгоценнейших персидских ковров белого цвета, – полулежали четыре женщины.
В трех из них я признал представительниц, туарегского племени, блиставших бесподобной и строгой красотой и одетых в великолепные, окаймленные золотым шитьем, блузы из белого шелка. Четвертая, самая молодая из них, необычайно смуглая, почти что негритянка, была в платье из красного шелка, резко оттенявшего темный цвет ее лица, рук и обнаженных ног. Все четыре женищны окружали гору белоснежных ковров, прикрытых шкурой гигантского льва, а на ней, опираясь на локоть, возлежала Антинея…
Антинея!.. Каждый раз, когда я видел ее вновь, я спрашивал себя, хорошо ли я разглядел ее в этот первый, миг, когда меня охватило такое волнение, – ибо с каждым разом я находил ее все прекраснее… Все прекраснее! Жалкое слово, жалкий язык! Но кто виноват в его бедности: сам ли он или те, которые профанируют это слово?
Нельзя было смотреть на эту женщину, не думая о тех, из-за которых Евфракт одолел Атласа, Сапор похитил скипетр Осимандия, Мамил подчинил Сузы, а Антоний обратился в бегство…
О, сердце, если ты забьешся с силой вдруг, То лишь в объятиях ее горячих рук!
Египетский клафт осенял ее густые кудри, необыкновенная чернота которых придавала им синий оттенок. Оба конца этой тяжелой, вышитой золотом, ткани ниспадали на ее упругую грудь. Вокруг небольшого, выпуклого и упрямого лба извивался золотой уреус[39]39
Так назывались в древнем Египте украшения в виде змеи, которая считалась символом господства и власти. (Прим. перев.)
[Закрыть] с изумрудными глазами, раскачивая над головой молодой женщины своим раздвоенным рубиновым жалом.
На ней была туника из черного крепа, подбитая золотой тафтой, очень легкая, просторная и слегка перетянутая белым кисейным шарфом, украшенным цветами ириса из черного жемчуга.
Таков был наряд Антинеи. Но кого скрывала под собою вся эта очаровательная мишура? Худенькую молодую девушку с продолговатыми зелеными глазами, с маленьким профилем хищной птицы. Адонис, – но более нервный. Царица Савская, – но совсем еще ребенок, со взглядом, с улыбкой, которых я никогда еще не встречал у восточных женщин. Чудесное воплощение насмешливой непринужденности.








