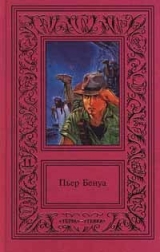
Текст книги "Атлантида. Забытый. Прокаженный король. Владелица ливанского замка. Кенигсмарк. Дорога гигантов. Соленое озеро"
Автор книги: Пьер Бенуа
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 78 страниц)
Глава I
ДО ЧЕГО ДОВОДИТ МИНГРЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК
28 августа 1914 года я, благодаря событиям, которые всем хорошо памятны, находился близ небольшой деревушки в Эн, хотя четыре недели назад мечтал провести этот август в Бретани.
Чтобы облегчить воспоминания, напомню, что операции, развернувшиеся в этот и следующий день, получили затем название боя под Гибом.
Говоря конкретно, вот как приблизительно развертывались события для меня лично и ближайших моих соседей.
Было десять часов утра. Наш взвод залег вдоль откоса. Я был занят тем, что походной лопаткой рубил свекловицу для раненной в шею несчастной лошади. Вдруг команда: "Стрелки, рассыпься". Поначалу было так странно слышать на войне команду, которую без конца повторяли при обучении. Нужно заявить откровенно: никто во Франции серьезно не представлял себе, что придет день, когда все это понадобится. Позднее это называли нашей подготовкой.
В поле, где мы развернулись (на обыкновенных маневрах мы развертывались бы раза три-четыре), были васильки, маки, широкие полосы потоптанной травы. Вылетел перепел. Три дня назад это было бы началом охоты. Перед нами, вдали, метрах в пятистах, была обсаженная тополями дорога, и по ней бешено несся французский мотоциклист. Припоминаю, я подумал: "Тут какая-то ошибка, наверное, ошибка. Чего ради гнать нас к дороге, на которой – французский мотоциклист?.."
Потом три последовательных урагана шрапнели доказали мне, что бывшие где-то там, у нас в тылу, наши невидимые командиры имели все-таки основание двинуть нас в эту сторону.
Несомненно, война – после монастыря самая большая школа смирения. Прибавлю, что эта мысль пришла мне лишь много позднее, на госпитальной койке. А в тот момент я лежал без чувств, уткнувшись носом в сырую, черную землю.
* * *
Очнувшись, я приподнял немного голову, но очень скоро опять приник к земле. Кругом гремела хриплая команда. По полю двигались немцы. Несколько раз меня задевали. Резкие звуки выстрелов раздавались над самым ухом. Я рискнул открыть глаза и увидал подле себя двух «feldgrau». В первый раз видел я их так близко. Большой и маленький. Светлая кожа на их висках была измазана потом и пылью. Они тяжело дышали. Каждый сделал по выстрелу, почти не целясь, прижав приклад к груди. Потом новый рикошет повлек их дальше. Больше я их не видел. Затем что-то сильно ударило меня в затылок. Должно быть, кто-нибудь пихнул сапогом. Я опять лишился чувств.
Пришел я в себя лишь много позднее, уже ночью, во французской санитарной повозке. Тут я узнал, что мой полк произвел контратаку, и тогда меня подобрали, что, должно быть, пуля засела в шее и что меня везут на ближайший эвакуационный пункт. Так свершилось.
Рана мучила меня сравнительно мало, и потому я с удивлением узнал в Лионском госпитале, куда попал по прихоти санитарного поезда, что рана серьезная. Шрапнельная пуля засела глубоко, около шейных позвонков, и извлечь ее нельзя. Эго вызвало частичный паралич шеи; и я еще и сейчас должен весь повернуться, если хочу посмотреть, что у меня за спиной. В январе 1915 года я был переведен в тыловую службу и в качестве военного чиновника обречен на таинственную работу в штабной канцелярии Четырнадцатого округа.
В Лионе не найдется никакого общества для тылового солдата, если он не хочет довольствоваться обществом своей казармы. После нескольких робких попыток я решил отдать довольно большой досуг, какой оставляла мне служба, работе. Хорошо сказать: работе. Но над чем работать? К счастью, на этот счет были у меня некоторые мысли, смею сказать – довольно здравые.
Один современный писатель, оказавший особенно сильное влияние на образ мыслей моего поколения, где-то великолепно сказал: "Ничего вы не сделаете, молодые люди, покуда каждый из вас не выберет себе какую-нибудь специальность".
Итак, чтобы защитить себя от скуки, навеваемой мыслями о моей инвалидности и о недружелюбии чужого города, чтобы использовать в интересах будущего эти преходящие черные минуты, мне нужно создать себе специальность. Но какую? Подумал я было о сигиллографии, так как купил у букиниста хороший учебник Лекуа де ла Марша; но немножко пыльный характер этой науки отпугнул меня. Я плохо понимал, что может она дать в смысле практическом или романтическом. Наконец, в субботу, 13 марта, сердце радостно забилось. Я нашел.
Этот день я провел в библиотеке словесного факультета, неуверенно перелистывая каталог. Часов около четырех, когда дождь превратился в ливень, выбор мой был решен. В пять я ушел с тремя томами под шинелью: "Вступлением в науку о языке" Поцца, "Лингвистикой" Овелака и "Филологией шести главных кавказских диалектов" моего знаменитого однофамильца Фердинанда Жерара, профессора College de France.
Решение мое было теперь принято: я специализируюсь на изучении мингрельского языка.
Совсем стемнело. Холодный ветер гнал по Роне серый туман. Через площадь Кордельеров я дошел до улицы Республики, чтобы, прежде, чем забраться в свою унылую комнату, доставить себе маленькое развлечение. Я сел на террасе одного кафе. Кроме меня, никого не было. Лакей сердито подал мне рюмку с каким-то ликером. В мокром тротуаре отражался желтый свет фонарей. Улица была полна; по ней двигалась взад и вперед толпа под лесом зонтиков, точно сталкивавшихся между собою безобразных, черных грибов. Какой это был зловещий вечер, и какое полнейшее одиночество! По куда меньшим причинам… люди кончают самоубийством. Ах, благодаря трем книгам, темные переплеты которых я нащупывал под шинелью, – я был счастлив.
* * *
Общеизвестно (утром в субботу, 13 марта, 1915 года, я этого еще не знал), что человеческие языки можно разделить на три группы: языки односложные или изолирующие; языки флективные, подразделяющиеся на языки арийские или индоевропейские, и языки семитские; наконец, языки агглютинативные.
На этих последних, агглютинативных языках, говорят в Африке, в Америке, в Океании и в некоторых наименее цивилизованных местностях Европы, ближайших к Азии. Я a priori решил, что займусь изучением языка агглютинативного. Были у меня – все в тот же день 13 марта – некоторые колебания: юкагирский язык, на котором говорят в Сибири, привлекал меня своею звучностью, равно как и язык икнуит, на котором говорят эскимосы. Но, конечно, все это было слишком эксцентрично. Специализация вовсе не должна сочетаться с невозможностью извлечь из нее пользу. Напротив, она предполагает возможность максимальной пользы, когда к вам обратятся как к специалисту. И, конечно, в той политической обстановке, в которой мы жили в начале весны 1915 года, я не мог ждать решительно ничего от инкуитского или от юкагирского языка. Напротив, с диалектами кавказскими, образующими, как все это знают, одну из важнейших групп языков – агглютинативных, были связаны надежды. Кавказ соприкасается с Россией, с Турцией и Персией. Россия была нашей союзницей, Турция – нашим врагом, Персия оставалась нейтральной… Вот хорошая, практичная специальность.
Кавказские диалекты, числом шесть, географически делятся на две группы; на севере – лезгинский и черкесский, на юге грузинский, сванский, лазский и мингрельский. У этих шести диалектов общее – двадцатиричный счет, фонетика, столь же богатая согласными, как бедная гласными, и, если я выбрал из этих шести диалектов именно мингрельский, то из-за благозвучности самого этого наименования, а также в результате справки в атласе античной географии, показавшей мне, что современная Мингрелия – это древняя Колхида. Все выгоды такого моего выбора очевидны. Романтизм и классицизм. Аргонавты и янычары; а главным образом – почему не сказать откровенно? – этот несравненный диалог:
Фарнас. В Колхиде вы могли бы объясняться так!
Ксифарес. Могу в Колхиде я, могу и здесь.
Но все это была бы лишь литература, если бы в библиотеке словесного факультета я не разыскал труд, посвященный мингрельскому языку. Сначала я потратил на поиски целый час. Я слышал про прекрасные работы по кельтскому языку, сделавшие Фердинанда Жерара славным соперником Арбуа де Жюбенвилля, Жозефа Лосса Доттена; но я не знал, что он изучал и азиатские языки. Эту подробность мне любезно сообщил библиотекарь факультета и дал названное мною выше сочинение, а равно и труды Поцца и Овелака, которые своими полезными обобщениями могли облегчить мне подход к пугающей техническими трудностями работе.
Позднее я за собственный счет приобрел сочинения на английском и немецком языках (пожалуй, нелишне отметить, что я свободно говорю на этих двух языках), и они позволили мне углубиться в изучение мингрельского. Словом, благодаря упорной работе, меньше чем через год я основательно освоился с этим диалектом. Не хватало мне лишь – и до сих пор не хватает – случая проверить свои знания. Если бы сейчас какой-нибудь злой шутник вздумал мне доказывать, что мингрельский язык – только выдумка филологов и лингвистов, – я был бы бессилен противопоставить этой шутке какой-нибудь фактический довод. Во всяком случае, лично я цели своей достиг. Последующий рассказ покажет, что даже в некотором смысле я шагнул дальше этой цели.
* * *
Как-то в феврале 1916 года, когда я по обыкновению собирался засесть за свою работу в факультетской библиотеке, вошел туда мой друг-библиотекарь. Он беседовал с каким-то черноусым господином. Он представил меня ему. Это был г-н Жермен Мартен, профессор юридического факультета в Монпелье. Очень милый человек.
– Мингрельский! Здорово! – сказал он, узнав, над чем я работаю. – И вы думаете как-нибудь использовать его, этот ваш мингрельский язык? – прибавил он, выдавая тот практический дух, который все более становится характерным для французских университетских ученых.
– Когда я приступил к работе, с год назад, я совсем об этом не думал, – ответил я. – Но теперь, при том обороте, какой принимают события, я уже не скажу этого. Русские только что взяли Эрзерум. Скоро и Трапезунд будет в их руках. Предстоит пересмотреть всю политику на Черном море. И мой мингрельский язык больше уже не кажется мне смешным.
– Конечно, – сказал г-н Жермен Мартен, – конечно.
Он задумчиво поглаживал себе подбородок.
– Вы мобилизованы в Лионе? – спросил он.
– При четырнадцатой секции секретариата главного штаба, – скромно ответил я.
– Предпочитаете вы остаться здесь? Я хочу сказать: удерживает вас что-нибудь в Лионе?
– О абсолютно ничего! – вырвалось у меня, но я сейчас же об этом пожалел: в добрых близоруких глазах моего друга-библиотекаря я мог разглядеть оттенок укора.
– В таком случае, – продолжал г-н Жермен Мартен, – вам, может быть, было бы приятно получить перевод в Париж?
– В Париж!
– Господин Жерар трижды просил о переводе в Париж, – сказал мой друг-библиотекарь, – но каждый раз безуспешно. Ах, господин Жермен Мартен, если бы вы могли!
– Могу, – сказал профессор. – Может быть, вы слышали, господа, о Доме печати?
– Как же, – сказал библиотекарь.
– Дом печати недавно образован Министерством иностранных дел, чтобы сосредоточить в Париже все дело информации и пропаганды, имеющее целью убедить не участвующие в войне нации, что мы боремся за права и свободу народов.
– А они все еще не убедились в этом? – сказал я.
– Нет еще.
– В конце концов, тем лучше, если этой недостаточности убеждения я буду обязан возможностью переехать в Париж. Вы, в самом деле, полагаете, господин профессор, что у меня есть какие-нибудь шансы?
– Вы перестанете сомневаться, когда я объясню вам в общих чертах организацию этого учреждения, – сказал профессор. – Лично я принадлежу к службе дипломатических информации; эта часть носит такое название потому, что ей поручено собирать документы, могущие просветить тех, на ком лежит тяжкая обязанность направлять нашу внешнюю политику. Кроме агентов этой службы, которые изучают указанные документы, вроде, например, меня, занимающегося тут вопросами экономическими, имеются еще и такие, на обязанности которых лежит их перевод. Улавливаете?
– Начинаю.
– Дом этот организован всего две недели назад. Сами понимаете, у нас нет недостатка в переводчиках с наиболее распространенных языков, с английского, немецкого и т. д. Для русского языка у нас имеется господин Легра, профессор Дижонского словесного факультета. Но вот, что касается кавказских диалектов, в частности мингрельского, – право, я был бы весьма удивлен, если бы…
– И я также, – не мог я удержаться, чтобы не вставить.
– Очень рекомендую вам господина Жерара, – сказал мой друг-библиотекарь, – ему так нужно переехать в Париж.
– Я буду там завтра вечером, – сказал Жермен Мартен. – Послезавтра я увижусь с господами из Министерства иностранных дел. Они возбудят нужное ходатайство перед военными властями. И через неделю, если все пойдет благополучно, на что я очень надеюсь, вас переведут, дорогой мой, из секции четырнадцатой в секцию двадцать вторую, и я буду иметь великое удовольствие считать вас своим коллегой.
На этом мы расстались.
– Ну что! – сказал библиотекарь, как только дверь за ушедшим закрылась. – Можно сказать, повезло… Видите, трудом достигается все.
– Все, – ответил я мечтательно.
Я посмотрел в бедные, измученные ночною работою глаза моего скромного друга.
"Да, все, – повторил я про себя, – при условии, что сумеешь этим воспользоваться".
* * *
Юный Венсан Лабульбен, избалованный сын владельца одной из наших самых крупных автомобильных фирм, исполнял при Доме печати обязанности курьера. Я знал его с 1911 года, когда он вместе со мною отбывал четырехнедельный поверочный сбор в Сиссонском лагере. Потом мне случалось встречаться с ним в Париже. Каждый раз он брал меня в свой пыхтящий автомобиль и любезно избавлял от метрополитена или автобуса, которыми я обычно пользовался.
Когда я явился на службу, он, узнав меня, радостно закричал:
– Господин Франсуа Жерар!
Я мог тотчас же вполне убедиться в его тактичности. В качестве исполняющего функции якобы дипломатического характера, я имел право ночевать дома и носить штатское платье. Напротив, юный Лабульбен как простой курьер носил бесславную форму двадцать второй секции. Нет нужды прибавлять, что его светло-голубая блуза была куда лучшего покроя, чем мой пиджак.
Венсан Лабульбен был прелестный юноша, но отличался совершенно сказочным неведением во всем том, что принято называть общей культурой. Мне он сразу оказал громадную помощь. Когда хорошо знаешь, как распределены по этажам различные части какого-нибудь управления, то уже почти знаешь и самое это управление. Форма здесь очень тесно связана с содержанием. Дом печати, на улице Франциска I, представлял громадное роскошное здание в шесть этажей. Отделение дипломатических информаций, к которому я был прикомандирован, помещалось в третьем. Не имея, так сказать, никаких связей, я всегда приходил первым, раньше моих коллег, всё – людей известных в литературе, в науке или в высшей журналистике. И тогда юный Лабульбен приходил побеседовать со мной.
– Как вы постарели с Сиссона, – как-то сказал он мне с искренностью человека, которому его богатство с детства позволяло не стесняться в выражении своих мыслей.
Впрочем, это было верно. В ту пору я, в самом деле, порядком постарел как от скуки и забот, так и от раны. Волосы у меня на висках побелели. Мне можно было дать лет сорок пять… даже больше.
И все-таки его замечание подействовало на меня неприятно.
– Я был ранен, – ответил я не без досады.
Лабульбен посмотрел на меня такими кроткими глазами, которые могли бы обезоружить даже члена военной проверочной комиссии. Чтобы загладить свою резкость, я стал говорить с ним о хорошеньких машинистках Дома, – эта тема была ему особенно близка, и здесь он был неистощим в красочных подробностях.
– А все-таки, – прибавил он, после того как долго открывал мне свои глубокие познания по этой части, – а все-таки это шик – знать одному во всем учреждении, и в ваши годы, мингрельский язык, и, кроме того, вы написали столько великолепных вещей.
Меня это очень поразило. Конечно, тут говорило желание курьера загладить свою маленькую неловкость. Но все-таки факт оставался фактом. Каким образом такой круглый неуч, как Венсан Лабульбен, мог знать о моих литературных работах? Прибавлю, что в 1914 году эти работы исчерпывались двумя книжечками стихов, выпущенными без расчета на сбыт, да самым случайным сотрудничеством в одном молодом журнале кубистского направления, "Неправильные шестиугольники", – и вы вполне поймете мое удивление. Мне показалось, что в эту комнату проникла какая-то великая тайна. Я чувствовал, как она молчаливо витает тут, вьется вокруг мебели темного дуба, шелестит папками, касается пишущих машинок, еще дремлющих под железными футлярами.
Но уже подходил кое-кто из работников дипломатической информации. Лабульбен скромно удалился.
Несколько дней он не заговаривал со мной. Вид у него был смущенный, точно ему хотелось о чем-то меня спросить, но он не осмеливался.
Наконец он не выдержал. Когда я собирался войти в лифт, он подошел и с робкой почтительностью дотронулся до моего локтя.
– Мне нужно вам сказать, господин Жерар…
– Так поднимемся вместе. В канцелярии еще никого нет.
– Да, но… нижние чины не имеют права пользоваться подъемной машиной.
– Хорошо, пойдемте по лестнице.
В канцелярии я небрежно перебирал какие-то бумаги. Он стоял передо мной.
"Да решится ли, наконец, это животное!" – подумал я нетерпеливо.
Наконец он заговорил.
– Я должен вам передать приглашение, господин Жерар.
– Приглашение?
– Да, приглашение позавтракать.
"Такие приготовления – и из-за такого пустяка. Ладно, – подумал я. – Но нет надобности ради такой простой вещи прибегать к таким приемам".
Я переживал еще ту пору, когда подобного рода приглашение было всегда и неизменно кстати, потому что давало маленькую экономию в весьма тощем бюджете.
"Приглашает меня к себе", – подумал я.
Завтрак у г-на Алера Лабульбена, на Фридландском авеню, не заключал в себе ничего неприятного для меня.
– Да с большим удовольствием, – сказал я. – Поблагодарите вашего отца…
– Это не к отцу, – к одному другу или, так сказать, клиенту.
– А! – пробормотал я с некоторым недоумением.
Юный Лабульбен сжег свои корабли. Ему почудился в моем удивленном возгласе оттенок холодности.
– Да, к другу. С тех пор как он узнал, что вы здесь и что я с вами знаком, он уже не раз поручал мне пригласить вас. Он так ценит то, что вы пишете.
– Вон как! Ценит то, что я пишу?
Теперь я, наконец, понял, но это не уменьшало моего недоумения.
"А, впрочем, в конце концов, что же тут удивительного? – подумал я. – Было продано семь экземпляров первой моей книжки, десять – второй. И потом, к 1 июня 1914 года у "Неправильных шестиугольников" было уже около двухсот подписчиков… Конечно, что тут удивительного!"
И все-таки я был очень озадачен. Я попробовал, было расспросить курьера. Но видно было, что лично он не имел никакого представления о моих эстетических достижениях.
– Не знаю, следует ли мне… – сказал я, твердо решив разгадать эту загадку.
– О господин Жерар! – сказал молодой человек. – Если вы откажетесь, я подумаю, что это потому, что вы не желаете завтракать с курьером.
– Что за вздор! А на когда он приглашает?
– На следующую среду. Я отпрошусь у офицера после полудня.
* * *
Среда наступила, а я никак не мог получить от Венсана Лабульбена никаких точных сведений о нашем амфитрионе. Я знал только, что он говорит обо мне с почтением, что в прошлом месяце он купил у фирмы Лабульбен великолепный автомобиль в 20 HP и весьма скоро выучился им управлять, хотя он стар и левая рука у него почти совсем парализована.
Первые уроки давал ему сам Венсан Лабульбен. За чаем в одном вновь открывшемся кафе в Булонском лесу они говорили обо мне. И старик сейчас же пришел в восторг от возможности познакомиться с таким человеком, как я.
– Право, этот господин слишком добр, – сказал я (и все-таки был счастлив констатировать тот факт, что даже наперекор всем неблагоприятным условиям, в которых мы теперь живем, подлинный талант, в конце концов, все-таки пробивается вперед).
Всю ночь шел снег. То были черные, полные муки дни немецкого наступления на Верден. На церкви Монруж било полдень, когда мимо нее промчался автомобиль, управляемый юным Лабульбеном. Из улицы Франциска I мы выехали без десяти двенадцать.
– В самом деле, он слишком добр, – сказал я. – Вы должны же, наконец, назвать его имя.
Странно, – каждый раз, как я задавал этот столь естественный вопрос, мой собеседник старался от него уклониться. Теперь он понял, что молчать больше нельзя.
– Господин Теранс. Его зовут господин Теранс.
– Господин Теранс?
– Да, – сказал Венсан и как раз в это мгновение сделал очень удачный поворот, чтобы не наскочить на громадный военный фургон.
Когда мы обогнали фургон, он таинственно прибавил:
– Должен вам сказать, мне кажется, он – иностранец.
Бульваром Журдан автомобиль выехал в парк Монстра. С черных ветвей, сердито качаемых ветром, падала снежная пыль. Бедные нахохлившиеся воробьи чернели пятнышками на бледном небе.
Венсан свернул направо на улицу Нансути и остановил машину у переулка того же имени.
– Приехали.
Он спросил у девушки, сметавшей снег у порога:
– Здесь живет господин Теранс?
Значит, молодой Лабульбен сам еще ни разу не был у своего близкого друга. Но не так меня изумило это, как то, что человек, покупающий у Лабульбенов автомобиль в 20 HP (55 тысяч франков!), живет в таком скромном квартале.
Не ответив моему спутнику, девушка ушла в дом. Минуты через две вышла старуха.
– Это вы спрашиваете господина Теранса?
– Да, я.
– Он велел перед господами извиниться и сказать им, когда они приедут, что они застанут его в ресторане "Золотого льва", № 66, на улице Виллье.
Автомобиль поехал назад, той же дорогой. Когда мы подъезжали к улице Латур-Мобур, Венсан, вероятно, думавший, что я сержусь на него, – он думал это не совсем уже неосновательно, – собрался с духом и сказал:
– Он приглашает нас в ресторан. Наверное, он решил, что живет слишком некомфортабельно, чтобы принять вас у себя дома.
– Это совершенно безразлично.
– Конечно, – уверенно подхватил Лабульбен. – Об одном только я жалею. Он говорил мне, что у него есть отличная марка Бургонского, и он угостит нас. Этого удовольствия мы лишились, потому что не думаю, чтобы он захватил вино с собой в ресторан. Я знаю "Золотого льва": туда не ходят со своим вином.
Когда мы вошли в ресторан на улице Виллье, мой спутник, я заметил, слегка нервничал.
– Его еще нет, – сказал я с иронической усмешкой.
– Да, и я совершенно не понимаю… Метрдотель, заказан вам столик для господина Теранса?
– Господина Теранса! Нет, сударь, насколько мне известно, нет.
Венсан обратился к кассирше.
– Вам не заказан столик на имя господина Теранса?
Она отрицательно качнула головой.
Венсан был готов заплакать.
– Ну что же, займем все-таки стол, – сказал я. – А если он не приедет, позавтракаем и без него… Мне уже хочется есть.
– Это непостижимо, непостижимо, – повторял бедняга, вертя в руках свою фуражку.
Призывая в свидетели весь персонал ресторана, он еще раз страдальчески повторил:
– Вы уверены, вполне уверены, что нет столика, заказанного для господина Теранса?
В ответ донесся чей-то голос:
– Господина Теранса! Кто это спрашивает господина Теранса?
В то же время дверь из буфетной отворилась, и на пороге показался маленький грум в зеленом. Он повторил:
– Кто спрашивает господина Теранса?
– Я, я! – воскликнул мой спутник.
– Как вас зовут? – недоверчиво спросил грум.
– Венсан Лабульбен, господин Венсан Лабульбен.
– Значит, это вам, – сказал зеленый мальчуган и вытащил из кармана письмо.
Он с достоинством вручил его юному Лабульбену.
– Ну ты, мальчишка, – говорил между тем метрдотель, – вместо того чтобы торчать в кухне, ты бы должен быть здесь, к услугам гостей. Вот уже пять минут этот господин спрашивает.
– Оставьте, оставьте, – сказал Венсан, прочитав письмо. – Вот тебе, – и он протянул груму монету.
Венсан слегка покраснел и как-то растерянно смотрел на меня.
– В чем дело? – спросил я. – Он не может явиться? Просит нас подождать?
– Не то, совсем не то. Он просит нас его извинить… извинить и быть столь любезными, чтобы сейчас же ехать туда, где он находится.
– Куда?
– Улица Гамбетта, 41.
И Лабульбен скороговоркой прибавил, точно хотел сбросить с себя тяжелое бремя:
– Улица Гамбетта, в Нуази-ле-Сэк.
– В Нуази-ле-Сэк, – выкрикнул я. – В Нуази-ле-Сэк! В такую погоду… А теперь уже час.
– Еще без двадцати, – сказал Венсан.
– Если господа мне верят, – начал метрдотель, – такое расстояние…
– Мы проедем в четверть часа, даже меньше, в моем автомобиле, – закричал Венсан. – Только взгляните – и скажите, часто останавливаются у вашего подъезда такие машины?
– Я согласен вас сопровождать, – сказал я Лабульбену, чтобы положить этому конец, – но не в Китай же. Если мы не застанем этого господина в Нуази-ле-Сэк, предупреждаю вас, я там вас брошу и вернусь в город на трамвае.
* * *
Нуази-ле-Сэк! Много ли среди принадлежащих к искупительным поколениям, пришедшим в жизнь между 1870 и 1900 годами, много ли среди них таких, в чьем сердце имя зловещей узловой станции не отдалось бы таким страшным эхом? Нуази-ле-Сэк! Сколько французов, шедших на смерть, направлялись к такой незаслуженной судьбе через этот черный шлюз! Когда они были мальчиками, сидели на школьной скамье, – им обещали эру счастья и мира. И все это – для того чтобы кончить тобою, Нуази-ле-Сэк! Нет, не поля смертоубийства – там ужас слишком велик, чтобы оставалась возможность рассуждать, там воля, необходимая для установления ответственностей, растворяется в слезах, – но именно ты, Нуази-ле-Сэк, должна стать тем местом паломничества, куда нужно привести всех мечтателей, больших и маленьких, грезящих о братстве, подлинных виновников избиения… «Будьте любезны, господа, последуйте за мною по этим мосткам над вокзалом, прислонитесь к перилам. Метров двадцать в длину, может быть – даже меньше. Ну, так вот, под ними в продолжение четырех лет прошли десять миллионов человек. Из этих десяти миллионов два миллиона изувечены, миллион восемьсот тысяч убиты. „Долой войну!“ – говорите вы. О, конечно!.. Но скажите честно, уверены вы, что одним этим криком „долой войну!“ вы избавите миллионы розовых мальчуганов, подрастающих сейчас в нашей милой Франции, от ужаса через десять, может быть, через пять лет, пройти под мостками Нуази-ле-Сэк, без надежды вернуться? Скажите честно, что уверены в этом, – и тогда я сам, клянусь вам, прокричу вместе с вами это „долой войну!“, прокричу еще громче, – слышите вы? – еще громче чем вы!.. Но, дорогие мои друзья, мне кажется, что вы молчите». Автомобиль, управляемый все более нервничавшим Лабульбеном, ехал вдоль вокзала. Через балюстраду виднелись черные пути с вереницами вагонов. На платформе вырисовывались чудовищные силуэты пушек. На темных чехлах лежал снег и быстро таял. Сверкала мокрая медь. Платформы были набиты войсками.
Лабульбен не произнес ни слова. Я чувствовал, что его маленькая душа тылового солдата, подстерегаемого проверочными комиссиями, цепенеет в ужасе перед этим зрелищем.
– А где же улица Гамбетты? – спросил я, чтобы нарушить молчание.
Наконец-то ее разыскали. Это была одна из улиц грязного предместья, где грязные постройки чередовались с пустырями. В каком-то кафе фонограф пел:
И скоро наш черед настанет,
Когда все старшие уйдут…
– А ты говоришь! – сказал какой-то капрал, выходя с солдатом из этого кафе.
Они злобно поглядели на наш автомобиль.
– Наконец-то! – сказал Лабульбен, останавливая машину у дома с номером 41.
И, утирая пот, прибавил:
– Не рано.
– Войдите, – сказал я ему, – и спросите, здесь ли он. Я не тронусь с места, пока вы не узнаете наверное.
Он повиновался и вскоре затем вернулся, сияя:
– Здесь! Он ждет нас.
* * *
№ 41 на улице Гамбетты – громадный небоскреб, высящийся над железной дорогой. На темной лестнице уже зажгли газ.
– На пятом этаже, – шепнул мне Лабульбен.
– Так я и думал, – ответил я сердито.
Из комнаты, куда нас ввели, открывался далекий вид на снежный пейзаж, белый с черным. Прямо под нами был вокзал со всем его хаосом людей и материалов. Виднелись громадные темные купола сараев для локомотивов, – никогда его не забудут прошедшие через Нуази-ле-Сэк.
– Как все это безобразно! – сказал Венсан Лабульбен.
– Да, Фридландское авеню лучше.
Мы сразу замолкли. Маленькая дверь приотворилась. Вошел г-н Теранс.
– Тысяча извинений, господа!
Он повторил:
– Тысяча извинений!
– Право, мы думали, что уж никогда вас не разыщем, – сказал Венсан.
Голос у него стал снова веселый и счастливый. Злой призрак исчез.
Он представил нас друг другу.
– Господин Жерар. Господин Теранс.
Господин Теранс долго пожимал мне руку.
В обычное время комната была, вероятно, светлая. Но в этот темный зимний день уже почти ничего не было видно. К тому же, г-н Теранс стоял спиной к окну. Я только видел, что он высокого роста, что у него седые волосы и темные очки.
– Еще раз простите, господин Жерар. Только мое желание познакомиться с вами может оправдать, что я завлек вас в эту западню.
Он говорил по-французски вполне правильно, но с заметным иностранным акцентом.
– Вы, наверное, умираете с голоду, господа. Будьте добры, пожалуйте сюда.
Он отворил дверь, в которую вошел. Юный Лабульбен не мог сдержать радостного возгласа: мы были в столовой, и вид стола обещал большое пиршество.
– Не скрою от вас, – сказал Венсан, расстегивая портупею, – я уже начинал беспокоиться. Но теперь все великолепно.
Старик улыбнулся.
– Садитесь, господин Жерар, пожалуйста.
И он стал наливать нам портвейн.
Я быстрым взглядом окинул столовую.
Разнокалиберная мебель, впрочем – новая. На столе самая обыкновенная сервировка. Все это являло резкий контраст с видом нашего хозяина. Я старался найти какую-нибудь связь между квартирой и ее владельцем и не находил. За исключением одной гравюры на стене, которую я со своего места не мог разглядеть сколько-нибудь подробно, – на всем лежала печать самой угнетающей пошлости.
– Еще немножко портвейна? – сказал старик.
– Не откажусь, – воскликнул Венсан. – Мы совсем замерзли в дороге, господин Теранс. Знаете, мы ехали в открытом автомобиле. Кстати, довольны вы своей машиной?
– Восхищен, в восторге, – ответил старик.
Было видно, что он обращает мало внимания на привезшего меня к нему. Его глаза следили за моими.
– Не правда ли, любопытная гравюра, господин Жерар?
Он встал, снял раму со стены и поставил передо мною на стуле.
– Узнаете, вероятно? – спросил он с улыбкой.
Это была старая-престарая гравюра, изображающая разгром города Дрогеды наемниками Кромвеля. На первом плане – лорд-протектор в тяжелом панцире и в куртке из буйволовой кожи. Одним сапогом он наступил на грудь убитой женщины. Под картиной была в качестве надписи фраза из письма, отправленного по этому поводу Кромвелем английскому парламенту и извещающего о победе над врагами религии.








