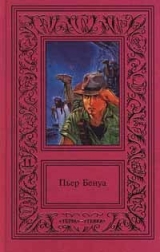
Текст книги "Атлантида. Забытый. Прокаженный король. Владелица ливанского замка. Кенигсмарк. Дорога гигантов. Соленое озеро"
Автор книги: Пьер Бенуа
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 78 страниц)
Я передал вам по возможности кратко историю Филиппа Кенигсмарка и Софии-Доротеи. Нечего вам объяснять, что многое в этой драме остаётся до сих пор тёмным. Меньше всего известны подробности убийства графа. Все свидетельские показания сходятся на том, что граф погиб в западне, которую ему устроила графиня фон Платен. Десять наёмных убийц закололи его шпагами, а злодейка-графиня нанесла ему последний удар. Но куда девалось тело? Здесь-то и начинается таинственность. Мнения на этот счёт расходятся. Одни говорят, что тело было зарыто в яме, выкопанной в парке. По другой версии, которую я имею основание считать вероятной, тело графа, обложенное известью, было опущено под одну из каменных плит в так называемой "Рыцарской зале" замка. А может быть, это произошло так, как утверждает автор "Таинственной истории", т. е. что тело графа было брошено в сточную канаву, которая при посредстве трубы сообщается с Лейной, протекающей у основания замка. Но может быть это был тот труп, который лет через двадцать был обнаружен под полом уборной в Герренгаузене, как утверждает Горас Уэлпол? Я ставлю эти вопросы только для того, чтобы объяснить вам, с каким лихорадочным любопытством я старался проникнуть в эту тайну, хотя причину такого любопытства я и сам не мог бы объяснить. Вы, конечно, поймёте, что я взялся за раскрытие этой загадочной истории с большею страстностью, чем проявил бы всякий другой исследователь; примите во внимание атмосферу, в которой я тогда находился, – схожую с обстановкой, послужившей ареной для развития той драмы, и не забудьте, какие неоценимые документы предоставляла в моё распоряжение герцогская библиотека. Самым ценным источником для истории того времени является переписка Кенигсмарка и Софии-Доротеи, которая в настоящее время находится в архивах библиотеки де Ла Гарди, в Ле "Histoire secrete de la duchesse de Hanovre", брошюра, опубликованная в Лондоне в 1732 г., без имени автора, и приписываемая барону Билефельду, дипломатическому представителю Пруссии в Ганновере. Это библиографическое указание, равно как и следующие, заимствованы мною из статей Блаза де Бюри, появившихся в "Revue des deux Mondes" и собранных в 1855 г. в одном томе, озаглавленном: "Episode de L'Histoire du Hanovre – Les Koenigsmark", Бероде, в Швеции. Эта переписка была открыта профессором Пальмбладом, опубликовавшим некоторые места из неё в Упсале в 1851 г. На Пальмблада указал мне, перед моим отъездом, профессор Тьерри; он надеялся, что мне, быть может, удастся напасть на часть этой переписки, которая долгое время странствовала по Германии, прежде чем успокоиться в Лебероде. По этой части я не нашёл ничего, но за эту неудачу я был вознаграждён открытием, ценным в другом отношении.
Дочь Софии-Доротеи вышла замуж за наследного принца прусского, будущего "короля-капрала" Фридриха I. "Как только он вступил на престол, – говорит Блаз де Бюри, – первым актом этого государя, оказавшегося супругом суровым и деспотичным, было запретить своей жене всякое общение с заключённой в Альде узницей. И только после того, как София-Доротея получила в наследство от своей матери доход в двадцать восемь тысяч талеров, сумму довольно кругленькую для того времени, скупой властелин стал проявлять к жене дружелюбное отношение, подсказанное, впрочем, корыстными мотивами. Права его жены на наследство после своей матери длительно устанавливались и обсуждались на консультациях с знаменитым юристом Томазиусом"[84]84
Блаз де Бюри. «Episode de L'Histoire du Hanovre». Оправдательные записки и документы, стр. 378.
[Закрыть].
Эта скромная женщина, сделавшаяся королевой прусской, тайно побуждаемая своим духовником, часто упрекала себя в недостатке смелости для открытого выступления в защиту своей заточенной матери, в невинности которой она была убеждена. Она воспользовалась переменою к лучшему в чувствах своего грозного супруга и принялась за собирание документов, необходимых для возбуждения дела о реабилитации своей матери. К несчастью, в 1726 г. София-Доротея скончалась. Тем не менее её царственная дочь с прежним усердием продолжала свою благочестивую задачу. Благодаря её заботам и просвещённому содействию того же самого юриста Томазиуса, составилось огромное дело, заключающее в себе около тысячи двухсот документов. Этот материал с точностью установил невинность Софии-Доротеи и коварство графини фон Платен.
Этот памятник благоговейной любви не дал, однако, никаких результатов. Анонимная заметка, сделанная на заглавной странице этого досье, указывает, что, по представлению Георга II, короля английского, переданному его зятю Фридриху I, королю прусскому, через посредство великобританского посланника, делу о восстановлении доброго имени Софии-Доротеи не было дано ходу. Король английский обратил внимание своей сестры, не без основания, что всё, служащее к реабилитации принцессы, их матери, послужит к вящему осуждению их отца, короля.
Слабовольной королеве прусской ничего не оставалось, как склониться перед интересами государства. Это досье, ставшее теперь ненужным, в конце концов, после ряда приключений, упоминаемых в этой заметке, попало в 1783 г. в руки великой герцогини Шарлотты-Августы Лаутенбургской, племянницы королевы.
Это именно то досье, которое в конце января 1914 г. я имел счастье открыть среди рукописей, ещё не занесённых в каталог герцогской библиотеки.
Начиная с подлинного протокола допроса девицы Кнезебек, доверенной фрейлины Софии-Доротеи, и кончая подлинной записью исповеди графини фон Платен, в этом досье было достаточно материала для полной переработки истории таинственной драмы в Герренгаузене.
С беззастенчивостью, которую позволяют себе учёные в отношении документов, ещё не зарегистрированных, я перенёс в свою комнату шесть папок, in folio, в которых таинственная история развертывается перед нами во всех своих деталях.
Сколько любви и рыцарства, сколько преступлений и любовных историй; какая роскошь, какое безумие жизни и смерти находят себе отражение в этих пожелтевших листах, в этих многоязычных протоколах! Ночью, когда в замке всё засыпало, я придвигал мой рабочий стол к камину, в котором так уютно тлели дрова, и работал с каким-то лихорадочным усердием. Я соприкасался с историей, с живой историей, не с той, которая через вторые или третьи руки сообщалась мне, в определённых дозах, согласно определённой программе, Сорбоннской библиотекой. По правде сказать, к сухой эрудиции в моём мозгу примешивался странный аромат романтизма. Перед глазами моими плясал фантастический и жестокий ганноверский двор: Эрнест-Август – Силен-политик, Георг-Людвиг – ограниченный и беспутный, графиня фон Платен – страшная Мессалина, которая, несмотря на все свои пороки, должно быть, была прекрасна и обольстительна; красавец-брюнет Кенигсмарк – искатель приключений, в своём затканном золотом оранжевом камзоле, выпачканном кровью. Но чаще всего возникала предо мной София-Доротея, светловолосая, пылкая и целомудренная, одетая в серебряную парчу, которую она носила в день своей свадьбы.
В серебряную парчу? Это история, книжное описание. Но нет! Куда прекраснее и куда жизненнее я представлял себе её в другом наряде, в платье, которое я видел, в зелёном бархате.
Это было в конце зимы. Уже веяло весною. В окно, открытое лишь наполовину, для усиления тяги в камине, входил свежий воздух, в струях которого уже чувствовались испарения земли. Я чувствовал, как на оголённых ветвях деревьев, черневших во мраке, уже готовы сквозь размякшую кору показаться почки.
И вот, много раз подстрекаемый воспоминанием об убитом красавце-кондотьере и покойной прекрасной королеве, движимый инстинктом, верность которого я понял лишь много позже, с бьющимся сердцем, я открывал дверь моей комнаты. Старинная лестница скрипела под моими шагами. Часто мне приходилось видеть в парадной зале потухший фонарь караула. Что бы я ответил, если бы меня остановили и стали допрашивать?
Дверь, открытая в парк, зияла большим четырёхугольником ярко-синего цвета, на фоне которого, посредине, трепетала полная таинственности Кассиопея. Миновав освещённые бледной луной газоны и прячась в ромбовидной тени тиссовых деревьев, я шёл вперёд. В средней части парка светилось окно: как поздно, однако, работает великий герцог Фридрих-Август!
Всюду было темно в левом крыле дворца. Но когда, подойдя к самому концу здания, я прильнул к стене, я знал, что и там ещё никто не спит.
Весны ещё не было, но чувствовалось, что вскоре запоёт соловей. Длинная и узенькая, тянулась по гладкому гравию блестящая розовая полоска. Мне стало ясно, что и здесь, за наглухо закрытым портьерами и занавешенным гардинами окном, есть свет.
Не пел ещё соловей во французском парке, разбитом в этой Германии, куда меня занесла судьба. Но из-за окна слышалась, дрожа в воздухе, другая песня, жалобная, хватающая за душу песня, временами прерываемая паузами, ничем не объяснимыми, терзавшими мои нервы и рождавшими в душе моей самые странные подозрения; медленная и нежная жалоба, лилась она из дворцового окна, проникая мне в самое сердце.
Эту жалобу изливала скрипка девицы Мелузины фон Граффенфрид, игравшей для своей повелительницы полные неисцелимой тоски шумановские колыбельные песни.
Глава пятая
«Petermanns Mittheilungen» – самая грандиозная в мире компиляция по географии и, надо признаться, самая ценная.
Наша "Annales de Geographic" – лишь бледная тень этого колосса. У русских есть замечательный географ Воейков. Мы, французы, имеем Видаля де ла Блаша, предисловие которого к истории Франции Лависса – шедевр. Но это всё – изолированные труды, которые не охватывают всей географической науки. "Известия Петерманна" прямо ошеломляют вас содержащимися в них всеобъемлющими сведениями. Мои учителя из Сорбонны, – я не назову их имён, в настоящее время это показалось бы им обидным, – сто раз мне повторяли, что ничего серьёзного нельзя создать по географии без помощи этой мощной немецкой махины. Я не собираюсь утверждать, что каждая моя лекция по географии, которую я читал наследному герцогу, опиралась на упомянутые "Mittheilungen". Я не хочу переоценивать значение или объём тех сведений, которые получал от меня мой ученик. Но каждый раз, когда я имел основание настаивать на том или ином обстоятельстве или факте, я непременно справлялся с этим бесценным сборником.
Так вот, к посредству этого географического сборника я обратился и тогда, когда мне пришлось излагать наследному принцу злободневный в то время и острый вопрос о Камеруне и новых приобретениях Германии в Конго. Прошло ровно два года с тех пор, как нашумевший по всему миру трактат, явившийся результатом переговоров Камбона с Киндерлен-Вехтером, отдал в руки Германии знаменитый "утиный нос" и область Того. Мне казалось вполне естественным остановиться несколько обстоятельнее на области, из-за которой кайзер с таким треском ударил кулаком по дипломатическому столу.
Никогда в жизни не забуду этого дня. Это было в понедельник, 2 марта, почти восемь месяцев назад.
Просмотрев оглавление "Mittheilungen", я записал названия и номера шести статей о Камеруне и Конго. Вторая статья, которую я отметил, подписанная профессором Берлинского университета Гейдшютцем, была посвящена путям, как естественным, так и искусственным, по которым путешественник проникает в эти страны.
Положив на рабочий стол библиотеки соответствующий том, я собирался делать заметки и выписки и, когда я раскрыл том в месте, где находилась нужная мне статья, из книги упала на пол какая-то бумажка.
Это был давно уже пожелтевший листок, сложенный вчетверо. Он был исписан крупным, убористым, решительным почерком. Слова были немецкие, буквы латинские, подписи не было, но она мне и не была нужна: я сразу же понял, кто это написал и о чём шла речь.
Записка заключала в себе целый план путешествия в одну из наиболее пустынных областей Конго, вдоль прославленной реки Сангха. В ней был указан самый подробный маршрут, начиная с высадки в Либревиле и кончая обратной поездкой. Маршрут был основан на сведениях, заимствованных из статьи профессора Гейдшютца, который, – и я в этом не ошибся, – даёт касательно этой области самые новейшие сведения: там имеются указания на проходимые пути, броды, на способы организации экспедиций для исследования страны, отмечены все остановки: Квессо – два дня, французская почта, вода, носильщики; Манна – один день, носильщики; Глегле, на реке Н. Сангха, – пироги и пр.
Я втайне ликовал. Итак, случай дал мне в руки составленный самим великим герцогом Рудольфом план предпринятого им с научной целью путешествия в ту область, в которой он заболел и умер. Радость моя, я чувствовал, вовсе не была радостью историка, который открыл любопытный документ о происках немцев в Конго и имеет в своих руках доказательство, и притом бесспорное, если принять во внимание личность путешественника, предумышленности нанесённого нам в Агадире удара. Ах, как далеки были от меня в эту минуту мои исторические интересы. Ведь все мои научные работы, выполненные мною со дня знаменитого празднества, когда я получил от великой герцогини такой афронт, замеченный, как мне казалось, всеми, я взвалил на свои плечи только с досады и огорчения. И я это хорошо понимал.
Чтобы вы как следует поняли чувства, обуревавшие меня в то время, когда я, деталь за деталью, рассматривал попавший в мои руки драгоценный листок, я должен рассказать вам все хитросплетения, которые моё воображение не переставало создавать с того самого дня. Я старался возненавидеть великую герцогиню, но напрасно: это было выше моих сил. Чем больше я к этому стремился, тем более я жаждал сближения с нею, тем более хотел обратить на себя её внимание, хотел представить ей доказательства моей преданности и страстной жажды пожертвовать собою для неё. Самопожертвование! Смешно! В самом деле, какие основания были у меня думать, что эта женщина, столь обольстительная и гордая, могла нуждаться в самопожертвовании какой-то мелкой сошки? И тем не менее, друг мой, на этом именно пункте разыгрывалась вовсю моя фантазия. Нельзя, однако, сказать, чтобы для этого не было абсолютно никаких данных. В бессонные ночи, в уединении моей комнаты, я не только не забывал разоблачений, услышанных из уст столь солидного и положительного человека, как профессор Тьерри, но, напротив, они принимали в моём воображении ещё более грандиозные размеры. Мне смутно казалось, что я живу в обстановке таинственного. Во мраке ночи я чувствовал, как чувствую вас вот тут, рядом со мною, что какая-то драма уже зарождается одновременно с глухой душевной тревогой, которая порой меня охватывала. А по мере того, как я рылся в архивах, по мере того, как я по ночам всё больше и больше думал о тёмной истории Кенигсмарка, эта тревога и какая-то подозрительность стали всё более и более нарастать. Роман, скажете вы, химеры, порождение мозга, экзальтированного уединением и работой, а, быть может, ещё каким-то другим более властным чувством. Вы были бы правы, думая так, если бы не произошли события, которые оправдали мою экзальтацию.
Как бы то ни было, мой друг, но ещё прежде, чем я открыл план великого герцога Рудольфа, я уже стал создавать буквально из ничего роман, удовлетворявший моей чувствительности. Великого герцога Фридриха-Августа, столь корректного и столь ко мне благоволившего, я рисовал себе палачом жены, этой прелестной великой герцогини; её красота делала меня глубоко несправедливым. Человеку, которому я обязан был теперешним моим положением, и у которого, несомненно, были свои достоинства, я стал приписывать в своём больном воображении какие-то преступления; и рядом с этим я возводил на пьедестал ту женщину, которая однажды публично выказала мне всё своё презрение, а затем, каждый раз, когда мне удавалось вскользь её увидеть, как будто бы меня вовсе и не замечала. И только в минуты душевного просветления, когда я мог хладнокровно рассуждать, я видел пред собой холодную эгоистку, с лицом мученицы, которая по ночам музицирует со своей Мелузиной, а днём ездит верхом на охоту со своим маленьким красным гусаром. О, этот Гаген! "Боже мой, – говорил я себе, – нужно быть слепым, чтобы не видеть, что не она, а герцог заслуживает сожаления и симпатий… О, у меня не было бы столько терпения, как у него".
Но, увы, тщетны были все мои попытки успокоиться и забыть её… Через какую-нибудь секунду я снова отдавался во власть своих химер, и болезненное воображение начинало рисовать мне Аврору фон Лаутенбург пытающейся во всём – в верховой езде, в охоте, в музыке – найти облегчение страданиям, которые причинило ей исчезновение её первого супруга, прекрасного, мужественного Рудольфа, того, кто так её любил, и кого она обожала; в душе моей зарождалась ревность, и мои грёзы становились мне ещё дороже.
Многие разговоры и встречи доказывали мне вздорность моих грёз, но напрасно. Тщётно мадам Вендель, с её глухою ненавистью к великой герцогине, вздыхая, рассказывала мне об этом бедном дорогом великом герцоге Рудольфе, который был так несчастен. Я решительно отвергал всё то, что нарушало равновесие конструкций, созданных моим воображением. Считайте меня сумасшедшим, но, во всяком случае, – раз я уже создал себе этот пункт помешательства, – вы поймёте, в каком лихорадочном состоянии я находился, когда, поставив на место том "Mittheilungen" и положив в портфель драгоценный документ, я поднимался к себе в комнату.
Сезам, отворись! Я имел теперь в своих руках таинственный ключ, который должен открыть мне доступ к великой герцогине и сломить её нерасположение ко мне. При взгляде на эти строки, начертанные рукой её возлюбленного супруга, она поймёт, что тот, кто открыл эту драгоценную реликвию и сложил к её ногам, не заслуживает безразличия, с которым она до сих пор к нему относилась. Быть может, она даже попросит у меня прощения?.. А тогда, о, я сумею сказать ей нечто решительное, что остановит слова извинений, готовые сорваться с её прекрасных уст, и ей ничего не останется, как только ещё более недоумевать, как это она до сих пор могла так ко мне относиться.
Дважды я принимался писать ей и дважды бросал в камин уже начатое письмо, которое хотел отправить ей вместе с документом. Первое казалось мне недостаточно почтительным, во втором слишком подчёркивалась важность моей находки. Наконец, я остановился на редакции, которая показалась мне самой простой:
Ваше высочество!
Случайно я открыл документ, который не может Вас не растрогать. Беру на себя смелость препроводить его Вам при сём. Примите его как знак благоговейной преданности вам вашего покорнейшего слуги.
Я имел намерение вручить письмо и документ, вместе с краткой объяснительной запиской, Мелузине фон Граффенфрид, которая всегда относилась ко мне с особенно лестной любезностью. Но, к сожалению, Мелузина уехала в город, и мне ничего не оставалось, как передать пакет русской горничной, какой-то полуидиотке. Она недоверчиво на меня посмотрела, взяла письмо и исчезла, пробормотав несколько непонятных слов.
Я тотчас же ушёл к себе. Моей экзальтации как не бывало. Я стал чуть ли не бранить себя за свой поступок. К чему это? Зачем я суюсь в чужие дела? Я, кажется, даже желал от души, чтобы старуха оказалась ещё более тупоумной и затеряла моё письмо.
В коридоре послышались шаги. Раздался стук в дверь. Вошёл Людвиг.
– Прошу извинения у господина профессора. Господина профессора спрашивают.
Он посторонился и пропустил лакея. Я думал, что провалюсь сквозь землю, когда я увидел на нём синюю с золотом ливрею великой герцогини.
– Не угодно ли господину профессору пожаловать за мной?
Ошеломлённый столь быстрым результатом моего поступка, я последовал за лакеем, забыв даже взять шляпу.
Мы вкось пересекли парк. Куда он меня ведёт? Вошли в английский сад и спустились вниз; мы шли вдоль Мельны; окаймлённая ивами речка казалась розовой при заходящем солнце.
Из группы каштанов раздался выстрел, и в ветвях что-то зашуршало, как от падения птицы.
– Прошу господина профессора войти.
Я очутился в какой-то беседке, сплошь из зелени; я увидел пред собой великую герцогиню с ещё дымящимся ружьём в руке.
– Извините, сударь, я забавлялась охотой на дроздов, – просто сказала она.
И жестом она отослала лакея.
И вот я один на один с царицей моих грёз. Я знал, что эта встреча состоится, но я никак не мог предвидеть, что она произойдёт в этой зелёной беседке, о существовании которой я не подозревал, хотя часто, гуляя, проходил мимо.
Несколько секунд она безмолвно глядела на меня. Смущение моё дошло до крайних пределов. Только позже, много позже я понял, какую услугу оно мне
оказало: собеседник, столь трепетавший перед нею, не мог быть противником.
Наконец, голосом сладостно нежным, столь нежным, что я даже не узнавал его, она заговорила.
– Благодарю вас, господин Виньерт, за ваше сообщение. Вы были правы, считая, что нет такой памяти о покойном великом герцоге, которая была бы для меня безразличной.
И после некоторой паузы:
– Можете ли вы мне сказать, каким образом этот листок бумаги попал к вам?
Я рассказал ей во всех мелочах, как это случилось; в моей повести чувствовалось, очевидно, так много волнения и искренности, что великая герцогиня явно была растрогана.
– Господин Виньерт, – сказала она, и неизъяснимо сладостно звучали её слова, – если, как я надеюсь, мы познакомимся ближе, я уверена, что вы перестанете сердиться на меня за некоторую резкость, с которой я, быть может, до сих пор к вам относилась. Пожалуйста, не протестуйте! Это было проделано мною сознательно. Безразличие у женщин всегда бывает притворным. Знайте, что для того, чтобы понять меня, требуются данные, которыми вы не располагаете.
Куда девались заготовленные мною прекрасные слова протеста, которыми я решил ответить на эту фразу, мною всё-таки предвиденную!
– Что же, вы по-прежнему всё работаете, господин Виньерт? – спросила Аврора с улыбкой, не лишённой мягкой иронии.
– Ваше высочество, – прошептал я, смущённый.
– О, я не имею ни малейшего намерения отрывать вас от вашего ученика. Но я хорошо помню, что, приглашая вас сюда, великий герцог любезно желал, чтобы и я время от времени могла пользоваться вашими услугами. Могу лишь пенять на себя самое, что до сих пор я не воспользовалась герцогскою любезностью и вниманием.
Я стоял безмолвно, словно пригвождённый, не зная, говорит ли она серьёзно или нет. Она спросила:
– Умеете вы играть в бридж?
– Немного, – пролепетал я, благословляя в душе Кесселя и старого полковника фон Венделя, которым я был обязан этим новым приобретением.
– Так вот, мы каждый вечер играем в бридж: Мелузина фон Граффенфрид, лейтенант фон Гаген и я. Вы будете четвёртым. Вы окажете нам этим большую услугу, чем вы думаете, – сказала она улыбаясь. – Нечего и говорить, что вы будете приходить, когда вам захочется.
Она продолжала:
– Мне сказали, кроме того, что у вас имеются очень интересные французские книги. Я читаю довольно много, и мне очень приятно было бы с ними ознакомиться, если только это не будет сопряжено с большими лишениями для милой госпожи Вендель.
Я сильно покраснел.
– Итак, это решено, – сказала она, не замечая моего смущения, – вы будете приходить, когда вам будет угодно. Но, если это может послужить для вас доказательством моей признательности, я обращаюсь к вам с просьбой: я буду очень рада видеть вас у себя сегодня вечером, часов в девять с половиной.
Я поклонился и собрался было уходить. Она сделала мне знак, чтобы я подошёл к ней.
– Господин Виньерт, – сказала она тихо и важно, – само собой разумеется, что всё, касающееся этого, – она вынула моё письмо из кармана своего широкополого чёрного жакета, – должно остаться между нами.
Я снова поклонился.
– Итак, до вечера, господин Виньерт. И, будьте милы, уходя отсюда, старайтесь производить как можно меньше шуму, чтобы не спугнуть дроздов.
Я пошёл во дворец кружным путём, вдоль Мельны. Почти касаясь крылом лиловой воды, взад и вперёд носился мартын-рыболов; он был изумрудного цвета, как кольцо на бледном пальчике Авроры Лаутенбург-Детмольдской.
Оригинальная маленькая гостиная в стиле Людовика XV в апартаментах великой герцогини, во втором этаже. Уже поставлен специальный стол для бриджа. Два полотна Буше, одно Ларжильера и замечательная картина Ватто были лучшими украшениями этой комнаты. И всюду цветы, масса цветов.
Зная, что здесь будет и Гаген, я сделал вопросом чести не явиться первым. Было уже без четверти десять, когда я постучался в апартаменты Авроры Лаутенбург.
Мне открыла Мелузина.
– Как я счастлива, – проговорила милая девушка, протягивая мне руку.
Великая герцогиня встретила меня улыбкой и указала мне на место за столом, за которым она уже сидела с Гагеном. Мне показалось, что красный гусар был очень не в духе. Я был этим крайне доволен, и во всё время игры я относился к нему с самой изысканной предупредительностью.
На Авроре Лаутенбург было нечто вроде туники чёрного шёлка с большим декольте, отделанной шиншиллами и вышитой сплошь золотым сутажом; филигранная золотая сеточка сдерживала её пышные рыжие волосы.
Она играла небрежно и смело, и тем не менее каждый раз выигрывала. Мелузина тоже хорошо играла. Я делал промах за промахом, тем не менее, в конце концов, тоже выигрывал.
С каким удовольствием я видел, что только присутствие великой герцогини не раз удерживало Гагена от того, чтобы швырнуть мне карты прямо в лицо.
Когда пробило одиннадцать часов, робер кончился. Великая герцогиня поднялась.
– Мой мальчик, – фамильярно обратилась она к Гагену, – карты вас погубят. Я хорошо помню, что завтра у вас будет производить смотр генерал-инспектор Гинденштейн, и что уже в шесть часов утра вам нужно быть на ногах. Вам нечего больше бояться, что мы останемся одни, Мелузина и я; господин Виньерт любезно соглашается составить нам компанию. Ну-с, идите спать.
С материнской заботливостью она подала ему саблю. Пристёгивая её, он бросил на меня взгляд, полный ненависти; я сделал вид, будто ничего не замечаю.
На лице Мелузины фон Граффенфрид играла её вечная неопределённая улыбка.
– Пройдёмте ко мне, хотите? – сказала Аврора. – Господин Виньерт, возьмите с собой книги, которые вы мне принесли.
Комната великой герцогини была почти круглая: такую форму рекомендует Эдгар По в своей «Психологии меблировки». Большой лилового цвета шар, вделанный в потолок, разливал в ней туманный свет, без теней. По стенам висели несколько гравюр Берн Джонса, Констэбля и Густава Моро.
В этой комнате было много цветов, мехов и драгоценных камней, – три вещи, которые я больше всего люблю на свете.
Всюду цветы; их было так много, что прошло добрых пять минут прежде, чем я привык к их запаху, потом приятное успокоение снизошло на меня и я в состоянии был разобраться в них.
Само собой разумеется, больше всего было роз и лилий. Но на этом великолепном фоне флора Крыма и Кавказа нарисовала самые неожиданные вариации.
Со стен свешивались крупные, длиною чуть ли не в метр, гроздья монгольской молены. По столам рассыпаны были издававшие запах мускуса чайные розы. Синие пассифлоры, приводящие весной в изумление путешественника на пустынных берегах Аральского моря; эриванские туберозы; малиново-красные скабионы; гигантские многоцветные гвоздики; дикие льнянки и амаранты; бальзамины и чернушки; белые буковицы Казбека; большие красные маргаритки Дарьяльского ущелья; иммортели Колхиды, дающие в своих чашечках приют сказочной зелёной птичке асфир, – все эти цветы, как ведомые, так и неведомые у нас, создают во влажной атмосфере этой комнаты вечную весну.
Но больше всего я любовался исчерна-фиолетовыми и почти совсем чёрными ирисами, издававшими безумно опьяняющий аромат.
Великая герцогиня заметила это и улыбнулась:
– Я люблю их больше всего.
Она села на кровать, огромную и низкую, покрытую двумя шкурами белых медведей, и сняла сетку со своих волос. Золотая волна рассыпалась по белому меху.
У её ног, усевшись на тигровой шкуре и опершись на гигантскую голову чучела, Мелузина настраивала какой-то инструмент вроде гузлы и брала под сурдинку жалобные аккорды.
Снимая с себя свои украшения одно за другим, великая герцогиня клала их на разные столики. На комоде, похожем на разрисованную персидскую шкатулку, на доске из зелёного оникса, я заметил знакомую мне восточную диадему, которую я видел на ней в день праздника 7 – го гусарского полка. Рядом с ней лежала другая такая же, но ещё более массивная, украшенная сапфирами.
На полу, устланном мехами, кишели, словно червецы и скарабеи, маленькие розовые и зелёные безделушки армянской работы. У изголовья кровати висело ожерелье из янтаря и бирюзы, похожее на чётки, а над ним, в тёмной нише, стояла золотая, с синей эмалью, икона; перед ней теплилась лампадка.
Рядом с кроватью стояли две большие серебряные чаши божественной чеканки. В одной были увядшие лепестки цветов; в другой – бесконечное множество самоцветных камней. Аврора погружала в них руку, и словно песок, собранный на морском берегу, в чашу падал обратно целый дождь из огненно-красных и матово-белых жемчугов и кориндонов, халцедонов и бериллов, сардоников и хризопразов.
О, маркграфиня Лаутенбургская! Вы превратились передо мной опять в татарскую принцессу, фею востока…
Она попросила меня рассказать ей об обстоятельствах, приведших меня в Лаутенбург. Кое-какие подробности она уже слышала от Марсе, но по улыбке, сопровождавшей эту фразу, я понял, что она знала настоящую цель проницательности этого дипломата.
Она захотела узнать мою биографию. Я по возможности просто рассказал ей её. Она, казалось, заинтересовалась моим рассказом, и, когда я почувствовал, что она настроена ко мне особенно благосклонно, я не мог не поддаться своему душевному волнению и объяснил ей, какие муки причинила мне наша первая
встреча, как я с первого же взгляда на неё охвачен был страстным решением быть ей приятным.
Закрыв глаза и пуская к потолку колечки дыма из своей папиросы, Мелузина фон Граффенфрид одобрительно кивала головой.
– Забудем всё это, господин Виньерт, – сказала великая герцогиня, – хорошо? Дайте мне вашу руку…
И, обратившись к Мелузине по-русски (она, конечно, не могла знать, что я немного знаком с этим языком), сказала ей:
– Как видно, я пока ещё и на этого не могу рассчитывать, чтобы попасть в Kirchhaus.
Та лишь покачала головой, как бы желая сказать: что я вам говорила?
– Мелузина, – скомандовала великая герцогиня, – подай нам самовар.
И в то время, как молодая девушка расставляла чайные чашки возле шипящего медно-красного самовара, Аврора встала и, открыв маленький секретный шкафик, сделала мне знак подойти.








