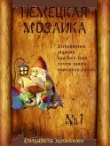Текст книги "Немецкая трагедия. Повесть о Карле Либкнехте"
Автор книги: Осип Черный
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
– Вы счастливым образом, государь, возглавляете наши армии, и вам равно доступно обозрение фронта и тыла. Тут и там жертвуют собой во имя блага империи ваши преданные сыны.
Вильгельм разгладил усы и прищурился: куда клонит этот хитрый старик? Но он не из тех, кто позволит обвести себя вокруг пальца.
– Одним словом, я хотел бы, чтобы в декларации нашли свое выражение высшие идеалы нации. Народ, проявивший такой героизм, имеет право на возмещение понесенных им жертв.
Канцлер покинул дворец подавленный. Требования ставки были еще жестче, он знал. Нажим правых партий он испытывал ежечасно, а с социалистами приходилось ладить.
Поэтому переговоры с Шейдеманом и Эбертом велись с большой осторожностью. Кое-что лучше было припрятать до поры до времени.
Когда в мае собрался рейхстаг и пришло время огласить декларацию, канцлер, утомленный, но подтянутый, как всегда, приступил к своему щекотливому делу. Лишь по тому, как он перекладывал листы на кафедре, можно было догадаться о его беспокойстве.
Атмосфера заседаний за последние месяцы изменилась. Трудно было скрыть налет скуки на лицах, а многие и не скрывали. Ясно было, что все диктуется положением на фронтах. Но странно: благоприятное положение не приближало развязки. Приходилось все чаще и все педантичнее подсчитывать ресурсы страны.
Когда Бетман-Гольвег заявил, что Германия не требует ни земельных приобретений, ни возмещения всех своих потерь, Шейдеман с удовлетворением оглянулся, ища взглядом Гаазе и его неугомонного союзника, старого Ледебура. Как? Теперь успокоились? Но, продолжал канцлер, нация, ввергнутая в испытания не по своей вине, вправе вернуть хотя бы в малой степени то, что она потеряла.
Депутаты насторожились, задвигались в креслах: так все-таки, с аннексиями или без? Станет Бельгия вновь самостоятельной? Эльзас придется отдать Франции?
Правые, ловившие каждое слово декларации, откинулись назад, явно неудовлетворенные. Социалисты переглядывались, не решив, оставить ли эти скользкие формулы без внимания или нет.
Шейдеман послал записку Эберту и, поглядывая на него, ждал ответа. Во взгляде Эберта были недоумение и подозрительность. Он не любил давать ответы сразу, не подумав как следует. Вообще-то он согласился бы с любой декларацией: самое важное сохранить блок, превративший социалистов из партии оппозиции в конструктивную часть рейхстага.
Но Шейдеман настойчиво ждал ответа.
Эберт неровно нацарапал: «Не вижу оснований для беспокойства; по-моему, все обстоит нормально».
Шейдеман долго изучал записку, вопросительно подняв брови, затем методично разорвал ее на мелкие кусочки. Нет, подумал он, требованиям момента Эберт не отвечает: негибок, слишком, если хотите, простоват. А между тем сегодняшняя декларация рано или поздно взорвет единство социал-демократов. Такие последствия умный политик обязан предвидеть.
Он вздохнул и уставился на оратора. Главное было сказано, и то, что говорил канцлер теперь, значения не имело.
Как-то незаметно в зал проник слух о демонстрации перед рейхстагом. Узнав об этом, некоторые скучно кивнули, словно привыкли, что берлинцы выражают свое недовольство. На то они и чернь, чтобы протестовать и чего-то требовать.
Позже по рядам депутатов словно шелест прошел: толпа собралась очень большая, и народ все прибывает. Шум на площади усиливался. Надо было выслать кого-нибудь с успокоительным заявлением. Эберта? Нет, лучше, пожалуй, Шейдемана.
К нему поползла по рукам записка. Коллеги просили его выйти и обратиться с балкона к демонстрантам. «Ты ведь это умеешь, тебя слушают хорошо».
Он только повел бровями, будто хотел сказать: прямой надобности нет, но что поделаешь, он слуга партии и от неприятных поручений не уходит.
Но Шейдеман не торопился. Только когда председатель рейхстага переправил ему записку с такой же просьбой, он, качнув с укором головой, стал пробираться к выходу.
В фойе гул толпы стал слышен явственно. Особенно резко доносились высокие женские голоса, повторявшие одно и то же.
Шейдеман подошел к двери и отодвинул немного штору.
Толпа стояла густой, словно спекшейся массой и в то же время вся находилась в движении: ее клонило то влево, то вправо. Сколько же тут человек – тысячи две? А может, и больше? Возбужденные лица, на которых написана жажда действия. Из толпы поднималось множество рук: женщины готовы были, казалось, подпрыгнуть, достать до высоких окон, чтобы на них обратили внимание. Но что они выкрикивали?
Он дотянулся до форточки и приоткрыл ее. Крики ворвались сюда, точно для них распахнули широкий проход.
Толпа, оказывается, требовала Либкнехта: «Пускай выйдет к нам! Дайте нам Либкнехта!» Хорошо, что он отсутствовал.
Шейдеман словно попал под действие некоего магнитного поля: голова его была повернута навстречу голосам, но всем своим существом он сопротивлялся тому, что сюда доходило.
На короткое время пошатнулось высокомерное отношение к Либкнехту: сила, вознесшая его, показалась слишком серьезной. Она особенно выросла после того, как социалисты помогли властям избавиться от него, услать из Берлина и подставить под пули. А толпа перенесла на него свои ожидания и надежды: имя Либкнехта стало ее знаменем.
Наконец Шейдеман захлопнул форточку. Ярость уличных выкриков стала глуше. О том, чтобы после такой встряски вернуться в зал, не могло быть и речи. Шейдеман дошел по фойе до широкой лестницы и спустился вниз. Швейцар предупредительно протянул ему шляпу. По привычке Шейдеман насадил ее на кулак, подровнял и надел. Затем поспешно направился к боковому выходу. Он ни за что не согласился бы оказаться лицом к лицу с этими крикунами.
Необходимо было обсудить все с Эбертом. Главари партии и без того чувствовали себя без вины виноватыми, а после сегодняшней декларации Бетмана к ним привесят, пожалуй, еще один ярлычок.
Эберт пришел к нему вспотевший и раздраженный.
– Жарко, совсем как летом… – Тяжело дыша, он вытер лоб и прошел с Шейдеманом в кабинет. – Что тебе попритчилось, Филипп? – недовольно спросил он.
– Ты эти толпы видел?
– А, пустое! Я не из тех, кто впадает в истерику.
– Если намек на меня, – сухо, но с фальцетными нотками в голосе произнес Шейдеман, – то он бьет мимо цели.
– Нет, тебя я в виду не имел. – Усаживаясь, он снова отер невысокий лоб. – Декларация Бетмана меня в общем удовлетворила, не скрою.
Глаза его, помещавшиеся в глубине слишком крупного лица, вели оттуда сторожкое наблюдение. Шейдеман нередко чувствовал, что этот взгляд ему неприятен.
– Речь вовсе не о том, согласны ли мы с декларацией. Заявление канцлера дает право заподозрить, что Германия воюет во имя аннексий. Социалисты не могут этого поддержать.
– А я тут вижу, Филипп, одно только политиканство, – хмуро ответил Эберт. – Армия отважно дерется, страна терпит лишения… Какой патриот осмелится требовать, чтобы она сама отдала плоды своих побед?!
– Пойми же, декларация дает противникам лишние козыри в руки!
Переубедить Эберта надо было во что бы то ни стало.
Поговорив по телефону кое с кем из коллег, они, в конце концов, решили потребовать от канцлера разъяснений: имел он в виду аннексии или не имел?
Бетман-Гольвег принял руководителей социал-демократов и дал те самые, пускай и расплывчатые, разъяснения, которые так нужны были Шейдеману.
Когда покинули его кабинет и плотной группой зашагали по коридору, Шейдеман обратился ко всем:
– Как вы считаете, а? Выходит, нападать на правительство у нас нет пока оснований?
Да, согласились они, оснований в настоящее время нет.
– Именно это я и утверждал! – произнес Эберт. – От того, что мы будем ставить палки в колеса, ничего хорошего не получится.
– Вы же были согласны с канцлером, еще когда шли сюда! – заметил язвительно Гаазе. – Прямо жаждали, чтобы он вас убедил.
– А вас он не убедил?
– Разумеется, нет.
– Тогда надо было так и заявить!
– Нет, я слишком хорошо знаю механику нашей работы, чтобы засовывать руку в жернов.
– Такую демагогию пора прекратить, – произнес в раздражении Эберт. – Надо поставить все точки над «И».
– Неужто же возобновим дискуссию здесь?! – вполголоса сказал Шейдеман. – Ведь все согласились: повода для возражений пока нет… А тебе, Фридрих, следовало бы выступить.
– Да, да, – подхватил депутат Давид, – я тоже хотел предложить: пускай Фридрих выскажет свое мнение с трибуны рейхстага. Оно у него наиболее последовательное и цельное.
– И выскажу, с удовольствием выскажу! Вовсе я но намерен скрывать свое мнение!
На том и порешили.
XIV
В некотором отношении фигура Эберта устраивала в партии всех. То есть всех тех, кто предпочитал умеренность и полюбовное соглашение политике крайностей. Разве что в эластичности можно было ему отказать или в оригинальных идеях. Но как олицетворение твердости и лояльности он подходил вполне. Он неплохо проводил до сих пор равнодействующую между разными течениями в партии. Хотя в последнее время заметно поправел.
Когда Эберт направился к трибуне, Шейдеман подумал, что сумел бы изложить позицию социалистов осмотрительнее и осторожнее, чем Фридрих. Тут важны оттенки, тончайшие блики, а Фридрих в тонкостях не силен.
На трибуне Эберт не выглядел представительным. Налет бюргерского плебейства лежал на его облике. Не случайно лидеры других партий тянулись к нему, Шейдеману, больше, чем, скажем, к Эберту или Носке.
В сущности, социал-демократы вели теперь большую игру. Кто-кто, а Шейдеман понимал это. Война с ее бременем, необходимость единства, зависимость даже правых партий от социалистов – все укрепляло их влияние. Война расшатывала могущество тех, кто стоял у власти, а значение бывшей оппозиции поднимала.
Правые партии рассчитывали перехитрить социал-демократов и после нескольких лет сотрудничества оттолкнуть от себя, вернуть на прежнее место. Но и у тех был свой план: подбираясь все ближе к власти, прибрать ее рано или поздно к рукам.
Иной раз Шейдеману делалось жаль, что коллеги в своей недальновидности не вполне сознают, сколь важная роль предназначена социал-демократии.
Об этом он думал и теперь, слушая Эберта. В какой-то не располагающей к себе манере, напыщенно и в то же время немного угодливо выступал тот. Хотелось поправить его, высказать то же, по несколько по-иному. Увы, что говорилось, то говорилось.
Из слов Эберта вновь вытекало, что рабочие – верные сыны Германии и терпеливо будут нести тяготы, легшие на их плечи.
Подперев рукой голову, Шейдеман слушал. Опять не оберешься хлопот. Опять несогласные подымут вой: посыплются обвинения в угодничестве, пособничестве, отказе от классовых целей… Сколько будет с ними еще возни – с Ледебуром, Гаазе, Каутским!
Хорошо еще, что партия имеет мощную опору в профсоюзах, которые честно проводят политику классового мира.
Со скрытой неприязнью Шейдеман дослушивал малоинтересное и отнюдь не прозорливое выступление своего коллеги.
XV
Хотя немецкий солдат дрался с тем же упорством, что и в начале кампании, моральное состояние войск стало хуже. Скрытое недовольство войной возрастало. То, что прежде было видно немногим, теперь на опыте постигали тысячи.
Листовки, проникавшие на фронт, делали свое дело. Когда солдат читал в них осуждение войне, ему казалось, что кто-то вернул ему его мысли в более энергичном виде.
Листовки прятали под рубаху, в башмак, прочитывали тайком, не догадываясь, кто мог подсунуть их, зато хорошо зная, кто может дознаться и что из этого произойдет.
Своим человеком, к которому легко было обратиться за разъяснениями, был Карл Либкнехт. Так обстояло дело и на участке, куда его забросила судьба.
– Странное, понимаешь ли, дело, – заговорил с ним немолодой солдат Штанц, человек основательный. – Воюешь, воюешь, а тут штафирка, который и ружья сам не держал, пробует тебе доказать, что дерется наш брат понапрасну.
– Дельное что-нибудь в листовке есть?
– В том-то и дело, понимаешь ли…
– У тебя же собственная голова должна быть, – сказал Либкнехт.
Один из сидевших рядом солдат заметил:
– Наше дело драться, а рассуждать поменьше.
– Кто же будет за тебя рассуждать?
– Начальство, а то кто?
– У него свои интересы, – возразил Либкнехт, – жизнь солдата оно нисколько не ценит.
Он пояснил, что дело не в злой или доброй воле начальников: война по сути своей такова, что в жертву ей приносятся миллионы жизней. А толку все равно никакого, и слова о святых целях одна только болтовня.
Выходило, что листовки ближе к истине, чем то, что вдалбливали им командиры.
– Стало быть, – сказал Штанц, – воткнуть ружья в землю и разойтись по домам?!
– Если каждый в отдельности так поступит, – объяснил Либкнехт, – его ожидает расстрел. Если же побросает оружие вся армия, война станет невозможной.
– Но тогда враг захватит немецкие земли? – заметил солдат Холендо, порядочный зубоскал и шутник. – И снимет с нас штаны?
– Не забывай, что на той стороне фронта такие же обманутые, как и мы с тобой. Должен же кто-то начать!
– Эх, лучше бы поскорее добиться победы, тогда и разобрались бы во всем, – сказал Холендо.
– Нет, – возразил Либкнехт, – победа только позволит правительству натянуть вожжи крепче.
– Значит, ты, Карл, за поражение? Или как?
– Такие вещи не зависят от воли одного человека. Но выиграть войну Германия все равно не в силах.
Он стал объяснять, почему игра обречена; рассказал, что еще старый Бисмарк заклинал немцев не начинать войны на западе и на востоке одновременно. Прежние планы военных, при всей их жестокости, были хотя бы разумнее. Теперешние сторонники захватов так близоруки, что заранее обрекли страну на разгром.
– Вы думаете, в ставке не понимают, что средств у противника больше? Сначала на запад кинулись, пока русские были неготовы, теперь ведут наступление на востоке. Русские отступают, но драться способны долго. Что в таких условиях делает ставка? Бросает массы войск то в одном направлении, то в другом, выбирая участок удара. Это всегда приводит к огромным потерям. Для генералов – массированный удар, а для солдат – цепь сплошных смертей. При малейшей надежде на успех генералы не пожалеют сотен тысяч жизней.
– Но это же бойня! – с негодованием сказал Штанц. – Хуже, чем скот, убивают!
– Так и есть, – сказал Либкнехт. – Именно бойня.
– Хорошо, я, допустим, подохну, но семье, детям станет от этого легче?
– Нет, нисколько.
– Тогда какая же сволочь гонит меня на верную смерть?!
– Тот, кто требует от народа жертв, а сам наживается.
Разговор взволновал солдат. Расходясь, они долго еще толковали о том, что делать: не воткнешь же в землю винтовку и не скажешь: «Довольно, я кончил!»
А Либкнехт, видя, как глубоко задевают солдат листовки, с увлечением думал, какие новые мысли надо вложить в очередную свою работу и какие новые лозунги выдвинуть.
XVI
После того как рядового Кнорре выписали из лазарета, он попал в тыловую часть. Раненая нога не позволила отправить его на фронт.
У Кнорре оказался четкий разборчивый почерк, и он умел толково составлять донесения. Когда в части узнали об этом, а Кнорре постарался сам, чтобы узнали, командир решил:
– Оставлю тебя при себе, будешь бумаги разные составлять.
Вскоре, присмотревшись ближе к делам своего начальника, Кнорре убедился, что ворует тот без зазрения совести. Это было на руку писарю, который все чаще Домогался увольнительных записок.
– Почему так часто? – спросил капитан Унгер.
– Надо…
– То есть как «надо»?! Ты в гостях у меня, что ли? Я тебя, в случае чего, ближе к фронту переправлю, к линии огня.
– Вам, господин капитан, невыгодно.
– Как, как? Почему такое?
Привыкнув в условиях подпольной работы к риску, Кнорре хладнокровно объяснил, что перед тем, как от быть на фронт, он успеет вывести на чистую воду проделки своего начальника.
Побушевав сколько нужно, Унгер пришел к выводу, что грех в самом деле придется делить пополам. Парень, толковый: раз уж такая история вышла, лучше оставить его при себе. Только пускай держит язык за зубами.
– Получай увольнительную, черт с тобой! Но помни, в случае чего…
– Можете на меня положиться.
Ведя дела исправнейшим образом, Кнорре получал возможность проводить вечера там, где ему было необходимо. А позже стал прятать гектографические оттиски листовок, часть типографского шрифта и другие, не менее опасные вещи в несгораемом ящике начальника, ключ от которого держал всегда при себе.
Разумеется, риск был немалый. Один раз в батальон явилась комиссия проверять солдатское имущество. Видно, кое-какие подозрения у властей возникли.
Застигнутый врасплох, Кнорре, когда вошли к нему в канцелярию, вскочил, вытянул руки по швам и замер, ожидая, чем кончится история.
Они стали придирчиво осматривать все. Если сейчас направятся влево к несгораемому ящику, он пропал.
Капитан Унгер, видя, что члены комиссии направились влево, сообразил, что надо спасать себя: он знал, что в несгораемом ящике писарь кое-что прячет.
– Там дальше мое личное, не солдатское, – сказал он.
– Тогда не будем просматривать? Или как? – Член комиссии вопросительно посмотрел на коллег.
Обыск был приостановлен. Кнорре, стоявший навытяжку, вздохнул с облегчением. На этот раз пронесло.
Как раз в тот вечер предстояла встреча в трактирчике возле Шпрее, в маленькой пивнушке. У него была надежда увидеть там не простого связного, а товарища повыше.
Когда он опять попросил увольнительную, Унгер метнул в его сторону гневный взгляд.
– Я б тебя застрелил, ей-богу!
– Что поделаешь, господни капитан. Зато постараюсь быть вам еще более полезным.
Унгер ничего не ответил. Он подписал увольнительную и протянул писарю, не глядя на него.
В потрепанной шинели и старых башмаках Кнорре был похож на сотни таких же солдат на берлинских улицах. Они примелькались, никто не обращал на них внимания.
В пивной он спросил кружку пива и, постукивая пальцами по столу, стал ожидать условного знака.
Наконец, сурового вида, невысокий, с очень выразительным, энергичным лицом человек, пробиравшийся между столиками, обратился к нему:
– Пиво сегодня какое? Дерьмо или можно пить?
– Привык, – сказал Кнорре. – На хорошее рассчитывать не приходится.
Тогда человек сел, не обращая внимания на соседа. Разговор завязывался как бы случайно и уж, во всяком случае, был незначителен. Суровый товарищ (это был Иогихес, Кнорре готов был дать голову на отсечение) смотрел рассеянно по сторонам и недовольно щурился. Словно все ему было тут неприятно, в этой приречной пивнушке.
– Теперь еще Италия, черт ее побери, – заметил Иогихес брюзгливо. – Тоже пошла войной против нас.
– Да, стерва порядочная, – согласился Кнорре.
Позже Иогихес, уже попивая свое пиво, спросил, не глядя:
– Говорят, на вас можно положиться?
– Я надеюсь.
– Странный ответ… Что значит «надеюсь»? Нужна уверенность.
Он порылся в кармане и достал мундштук. Затем вынул курительную бумагу, предложил соседу – пускай закурит тоже.
В общем, в руках у Кнорре оказался довольно важный материал, который он не спеша сунул в карман.
– Мне надо иметь тысячу экземпляров, не меньше. Лучше, если больше.
– Постараюсь, – сказал Кнорре.
– Тут насчет стервы Италии. И еще одной стервы.
– Я понимаю, – сказал Кнорре.
При всей нелепости разговора у него осталось ощущение встречи со значительным человеком. Он не мог себе объяснить почему.
Каждый заплатил за свое пиво сам. Покинули пивнушку в разное время, даже не кивнув друг другу. Мало ли кто может сесть за ваш столик…
Ночью, когда в казарме все спали, Кнорре, добившийся права на собственный огарок, переписывал при свече листовку. В случае чего он бы ее сжег. Но нет, все складывалось благоприятно.
Она называлась «Главный враг в собственной стране». Лишь много позже он узнал, что написана она была самим Либкнехтом.
Целью листовки было показать, кто истинный виновник происходящего.
Кнорре читал с увлечением:
«Народные массы воюющих стран начинают освобождаться от сетей официозной лжи… Безумное заблуждение о «священных» целях войны все более и более рассеивается, военный пыл исчезает; как в народе, так и в армии растет, укрепляется воля к миру…
Мы спрашиваем: кого благодарить германскому народу за продолжение кошмарной войны?.. Кого же еще, как не ответственных, но по существу безответственных деятелей в собственной стране!
…Безрассудный лозунг «держаться во что бы то ни стало», который все глубже ввергает народы в пучину взаимного истребления, теперь опозорен. Исторический момент властно диктует социалистическую задачу дня – интернациональная пролетарская классовая борьба против кровавого истребления народов империалистами!
Главный враг каждого народа – в собственной стране.
Главный враг германского народа находится в Германии: это германский империализм, германская военная партия, германская тайная дипломатия».
Всю ночь Кнорре готовил экземпляр листовки, чтобы можно было в следующую ночь ее размножить: писал особыми чернилами, которые он держал в укромном месте.
…Паренек, развозивший белье из прачечной по домам, мог и не подозревать, что в каждую пачку засунута опасная листовка. Ребятишки-смельчаки ухитрялись тайком совать листовки в пивных, харчевнях, где рабочий человек проводил часок-другой в надежде забыться от гнета военного существования. Листки расклеивали на телефонных столбах или засовывали в почтовые ящики. Действовали какие-то тайные группы, и полиция не способна была представить себе, насколько они сильны. То казалось, что пресечь их деятельность невозможно, то после удачно проведенной акции возникала у полиции надежда в недалеком будущем подавить незримое сопротивление в стране.
XVII
Канцлеру доносили, конечно, о подпольной работе левых. Прощаясь с депутатами-социалистами, он после любезных слов как бы невзначай спрашивал: как это совместить с позицией, которую они занимают в рейхстаге?
Эберт резко говорил, что социалисты тут ни при чем: виноваты разные отщепенцы. Ведь он уже заявил недвусмысленно, что социал-демократы верны взятым на себя обязательствам.
Шейдеман старался использовать колкости канцлера в своих интересах. При той политике, которую продолжает правительство несмотря ни на что, говорил он, недовольство не может не расти. Народ, несущий такие тяготы, вправе требовать доверия к себе и забот о своих насущнейших нуждах.
Канцлер понимающе кивал.
– Если бы вы знали, с какими препятствиями приходится сталкиваться даже мне! Но я готов сделать все, что можно.
– А то ведь трудно поручиться за завтрашний день. Оставить такую угрозу без ответа было нельзя.
– Господин Шейдеман, я ценю ваши предостережения, но надо смотреть в завтрашний день с большей верой. Наше внутреннее равновесие достаточно прочно.
После такой пикировки они дружелюбно расходились. Не мог же Шейдеман посвятить канцлера в борьбу, которую руководство выдерживает внутри своей фракции.
Против безоговорочно соглашательской политики руководства выступало все больше депутатов. Опыт говорил им, что с этой политикой надо кончать и, чем скорее, тем лучше. То Гаазе, то Каутский, то Ледебур предостерегали партию от курса, которым она идет: чтобы не потерять доверия масс окончательно, необходим был маневр.
Со строптивыми депутатами пока еще удавалось ладить. Один только Либкнехт, стоило ему появиться в Берлине, доставлял им всякий раз неприятности.
Несколько позже представители фракций решили, впрочем, устные запросы допускать лишь в тех случаях, когда их поддерживают не менее пятнадцати человек. Тем самым они надеялись парализовать открытую деятельность Либкнехта в рейхстаге. Оставались, правда, запросы в письменном виде. Председатель Кемпф не оглашал их и старался даже не приобщать к стенограмме. Зато их можно было напечатать в виде листовок и довести до народа.
Но самим своим присутствием Либкнехт мешал представительности заседаний, нарушал их плавный ход, а случалось, и портил всю игру.
Двадцатого августа статс-секретарь, то есть министр иностранных дел, фон Ягов должен был сделать в рейхстаге очередное заявление о целях Германии в войне. Он подошел к трибуне и собирался начать свою речь. Именно в тот момент, когда тишина достигла высшей точки, Либкнехт вскочил и выкрикнул на весь зал:
– Хватит пустых слов! Страна жаждет мира! Дайте, наконец, мир Германии!
Поднялся страшный шум, со всех концов понеслись протесты. С большим трудом председатель восстановил тишину. Затем строго произнес, что накладывает на депутата Либкнехта взыскание.
Фон Ягов побелел от ярости: эффект его выступления был испорчен, и тени торжественности не осталось в зале. А Либкнехт, выслушав председателя, поклонился с иронической усмешкой.
Через несколько дней он направил фракции социал-демократов письмо и в нем заявил, что так называемые социалистические цели войны, о которых шейдемановцы столько кричат, есть чистейший обман. Не гражданский мир, который они предательски защищают, а борьба рабочих против капиталистов есть настоящая цель каждого честного социалиста.
Так впервые была названа задача, которой посвятили себя революционные силы Германии.
Выполнив множество неотложных дел, Либкнехт возвращался на фронт. В помятой фуражке, в сбитой, насквозь промокавшей обуви, с киркой за плечами опять уходил на работы – чинил дороги, копал рвы и с упорством человека, сломить которого невозможно, продолжал свое дело.
XVIII
В сентябре в швейцарской деревушке Циммервальд, впервые с начала войны, собралась социалистическая конференция представителей ряда европейских стран. Необходимо было сблизить вновь тех, кто не поддался идее мнимого оборончества.
Большевики добивались участия делегатов левых революционных групп. В. И. Ленин обосновал позицию своей партии в работе «Социализм и война». Ближайшее будущее, писал он, покажет, назрели ли условия для создания нового Интернационала. Если созрели, большевики с радостью вступят в очищенный от оппортунизма III Интернационал. Если нет, то для этой очистки потребуется время.
Устроители конференции пригласили, главным образом, центристов из разных стран. В результате лишь немногие из приехавших оказались на позиции полного отрицания войны. Большая же часть, отойдя от правых или порвав с ними, готова была лишь к компромиссам и соглашениям.
Ни Либкнехта, ни Люксембург в германской делегации, разумеется, не было. Она представляла собой довольно пеструю группу, в которой преобладали центристы во главе с Ледебуром; их было семь человек. Левых же всего трое – Берта Тальгеймер, Эрнст Мейер и Юлиан Борхард.
Свои усилия центристы, защищая позицию Каутского, направили главным образом на получение поддержки делегатов других стран. С кем они воевали в Циммервальде? В первую очередь с Либкнехтом. Это он внес раскол в германскую социал-демократию и вместо поисков соглашения с социалистами воюющих стран выдвинул задачу борьбы внутри собственной партии.
– Ну и верно, и правильно! – подал с места голос Владимир Ильич Ленин.
Прищурившись, он до пронзительности остро посмотрел на оратора, как будто просвечивал его нутро. Немец Гофман пытался доказать, что только сплочение внутренних сил может привести народы к примирению.
– Стало быть, вы, товарищи из Германии, против братания солдат на фронтах? – спросил Ленин.
– Мы считаем, что время для этого не пришло. Надо добиваться, чтобы яд шовинизма действовал не так сильно. Но то, что им сегодня отравлены почти все, отрицать невозможно.
– Это предательство! – выкрикнул Борхард, самый левый из немецких делегатов. – Шовинизм – дело ваших рук. И вы заявляете, будто готовы бороться с ним?! Нет, вы и тут предпочтете политику сделок с правительством!
– А вы только тем и занимаетесь, что раскалываете рабочий класс! – запальчиво возразил ему Гофман.
– Мы открываем ему глаза на предателей и ренегатов!
В выступлениях представителей других стран было тоже много путаницы и двойственности. Необходимость совместных действий они признавали, но наличие революционной ситуации отрицали.
– Надо звать к революции, искать конкретные средства борьбы за нее в каждой стране, не теряя ни дня! – убежденно произнес Ленин.
Циммервальд стал местом упорной борьбы большевиков за новый Интернационал. Они старались отвоевать каждый голос, поддерживали каждое сколько-нибудь справедливое мнение. Им удалось сплотить так называемую Циммервальдскую левую группу. Из немцев один только Борхард голосовал с большевиками.
С берегов Двины, издалека, донесся голос Карла Либкнехта. Сам он приехать, конечно, не смог, по приветствие свое и свою программу сумел прислать: не гражданский мир, а гражданская война, повсеместная борьба за мир, против классовой псевдопатриотической гармонии! – Гражданская война, это великолепно! – воскликнул Ленин, когда приветствие было прочитано.
«Я в плену у милитаризма, я в оковах, – писал Либкнехт. – Поэтому я не могу явиться к вам, но мое сердце, мои мысли, все мое существо вместе с вами». Рассчитаться, наконец, с изменниками и перебежчиками Интернационала – вот на чем он настаивал.
Левые на конференции требовали борьбы с социал-империализмом, мобилизации пролетариата для завоевания политической власти. Их резолюция предлагала социалистам всех стран бороться против военных кредитов, разоблачать захватнический характер войны, выходить из состава буржуазных правительств. И конечно, лозунг гражданской войны вместо гражданского мира был господствующим.
Большинство же, центристское большинство предлагало нечто гораздо более расплывчатое, лишенное революционной четкости. Шаг за шагом, внося поправки, Ленин старался улучшить их резолюцию. И он во многом достиг своего.
Обращение участников Циммервальда прозвучало с меньшей силой, чем этого добивались большевики. Но, даже ослабленное оговорками, недостаточно устремленное в завтрашний день, оно вновь «через границы, через дымящиеся поля битв, через разрушенные города и деревни» бросило в мир прежний попранный лозунг: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!»
Как с ним потом ни боролись центристы, обращение проникло и в Германию. За короткое время там было распространено около шестисот тысяч нелегальных листовок: в них рассказывалось, как рабочие повсюду ведут борьбу против войны. Брошюра Ленипа «Социализм и война», переведенная на немецкий язык, тоже проникла в революционное подполье.
XIX
А Либкнехт, притулившись в углу сарая, озябший, при колеблющемся свете огарка, надрываясь от усталости после изнурительного рабочего дня, писал свои гневные обращения.
В письмах к жене он умолял: «Пришли, ради бога, свечи, это важнее даже папирос!»
Все способен был он одолеть, только не кромешную темень осенних ночей. Свечи необходимы были как воздух, без них нельзя было работать. Письма к боевым товарищам, приветствие циммервальдцам, письмо штутгартским левым – не пришло ли время прибегать к забастовкам для борьбы с войной, статья «Антимилитаризм» и многое другое шло из фронтового барака по разным направлениям.