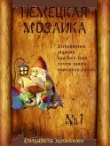Текст книги "Немецкая трагедия. Повесть о Карле Либкнехте"
Автор книги: Осип Черный
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Давно пришло время прибыть поезду, а его не было. Несомненно, его задерживали с умыслом: авось надоест людям ждать и толпа разойдется.
Но никто не уходил. Если бы сверху посмотреть на площадь и вливавшиеся в нее улицы, то поразило бы необъятное море голов. На вокзале распустили слух, будто поезд вообще не прибудет сегодня, но никто этому не поверил.
И вот, подобно току по проводам, пронесся другой слух, достоверный: поезд придет сейчас, с минуты на минуту.
Произошла подвижка, затем все замерло и вновь заволновалось. Ряды слабо колыхались, пока не застыли в напряженнейшей тишине.
Ничего еще не видя, все стали передавать друг другу: «Приехал! Здесь! Либкнехт здесь! Вон там, на ступенях вокзала!»
Старались приподняться, разглядеть его. Те, кто оказался рядом, от избытка чувств подхватили его и подбросили было в воздух, но тут же множество рук бережно, с той нежностью, которая охватывает иной раз толпу, приняло его.
На мгновение показалось, будто он виден всем. Да, и шляпа его, и пенсне, и темные волосы!
Где-то совсем близко ждала машина. Донесли туда Либкнехта или он дошел сам, так и осталось неясно. Усадили в машину… А кто там с ним? Все передавалось по цепи от одних к другим.
Наконец, окружив машину со всех сторон, плотная, зыбкая, почти безбрежная масса людей сплошной цельной процессией с победными, грозными песнями двинулась к центру Берлина.
Книга четвертая. Германская революция. И германская контрреволюция
I
Время, когда Либкнехт отсутствовал, произвело глубокие перемены в немецком народе и сделало его независимым в своих симпатиях и антипатиях. Либкнехт почувствовал это с первых минут своего возвращения. По пути с вокзала, выйдя из машины, – сначала на Потсдамской площади, а потом вблизи советского посольства – он выступал перед демонстрантами. Его призывы: «Долой правительство!», «Да здравствует революция!», «Ура России!» – воспринимались с энтузиазмом. Затихшая толпа слушала с огромным вниманием, и Либкнехт, выступая впервые после такого долгого перерыва, испытывал сверхмыслимое напряжение.
Оно не покинуло его и дома. Обращаясь к Соне, к детям, он даже в этой бесконечно милой ему среде был охвачен ощущением того, что касалось всех, всего мира.
На следующий день Либкнехт был приглашен на прием, устроенный в его честь советским посольством. Меньше всего это была дипломатическая вежливость, – вернее, проявление близости, братства, единства.
– Ты пойдешь со мной, Сонюшка?
– А удобно ли?
– Провести вечер почти на родине, со своими – что может быть естественнее?!
– Но в чем я пойду? – забеспокоилась она. – Ничего у меня нет подходящего, все старое, износилось!
– Разве там с этим считаются?! – с укором заметил он.
Будь на свободе Роза, они пошли бы, конечно, вместе. Он живо вообразил, как они втроем входят в посольский особняк. Но Розу еще держали под замком; предстояли энергичные хлопоты, чтобы вызволить и ее из тюрьмы.
Вообще многое перемешалось и стало еще более противоречивым. Народ, требовавший его освобождения, добился своего, а у власти остались, в сущности, те, кто два с лишним года назад засадил его в тюрьму. Шейдеман и Бауэр в роли министров прикрывали своим участием в кабинете заведомый обман. Вчерашняя демонстрация способна была окрылить, если бы по-прежнему не царило в столице военное положение.
Соня старалась придать себе светский вид, который казался ей необходимым.
– Но, боже мой, ты забываешь куда мы идем: ведь это почти то же самое, что на собрание или в рабочий ферайн, только радостнее и торжественнее.
– А если там будут иностранные представители?
– Поверь, там, куда пригласили твоего мужа, будут только друзья.
Ради такого из ряда вон выходящего случая они даже машину наняли. Либкнехт сидел в машине прямой, подтянутый и задумчиво рассматривал берлинские улицы: что таят они в себе?
Сегодня город выглядел буднично: ни шествий, ни митингов, ни демонстраций. То, что произошло вчера у Ангальтского вокзала, словно потонуло в повседневной нелегкой жизни.
И, только увидев перед собой широкую мраморную лестницу, свое и Сонино отражение в большом стенном зеркале, Либкнехт вновь осознал потрясающую необычность происходящего. Четыре года подряд он боролся за дружбу с русскими, за прекращение бессмысленного братоубийства, и социал-демократы называли его отступником и изменником. А сейчас он и жена – желанные гости тех, кого еще недавно страна клеймила. И это не будет считаться ни отступничеством, ни изменой, а явится, наоборот, жестом высшего дружелюбия. Но на размышления не оставалось времени.
Сначала швейцар, похожий на всех швейцаров мира и вместе с тем ни на кого не похожий, сказал ему:
– Как тут вас ожидают, товарищ Либкнехт, даже описать вам этого не могу!
Либкнехт стал жать ему руку, а Соня повторяла:
– Приятно слышать родную речь, она для меня как музыка!
Швейцар хотел принять у прибывших пальто, а они сами старались повесить свои пальто на вешалку. По лестнице бежали сюда молодые люди и две девушки, и все заключили Либкнехта и Соню в объятия. Затем посол Иоффе, протянув к нему руки, произнес:
– Товарищ, дорогой наш товарищ! Если бы вы только могли представить себе, какой это для нас день: вы на свободе, и вы наш гость!
Как ни растрогала Либкнехта встреча, но, когда он поднялся наверх и среди собравшихся обнаружил старого своего друга – Меринга, это взволновало его едва ли не больше. Шагнув к нему, Меринг полез в карман за носовым платком. Он попробовал было совладать с собой: похлопал Либкнехта по плечу, потряс руку, но не выдержал и чуть не расплакался.
Все, кто стоял близко, в почтительном молчании наблюдали сцену, от которой сжималось сердце.
В большом зале горели все люстры. От яркого освещения Либкнехт совершенно отвык. Накрытый белой скатертью неправдоподобно длинный стол, уставленный блюдами и бокалами, был так необычен и наряден.
Неправдоподобным выглядело все. Пролетарская, изнывающая от лишений страна устраивает прием в его честь! Окруженный множеством русских, Либкнехт чувствовал себя больше самим собой, чем все долгие предыдущие годы.
Впрочем, и немцев было достаточно – друзей, знакомых, радикальных левых. И это происходило в стране, которою продолжал править кайзер и которая не вышла еще из воины!
Возле него снова оказался посол Иоффе.
– Мы получили для вас телеграмму из Москвы. Вас приветствует ЦК РКП (б).
– Она при вас? – живо спросил Либкнехт. – Дайте взглянуть на нее!
– Э-э, нет! Сядем за стол, тогда и оглашу.
С особенной остротой ощутил вдруг Либкнехт, какая ответственность лежит на нем перед историей и перед народами мира.
В потоке дружеских слов, несшихся отовсюду, он снова услышал голос Меринга. Старый друг положил руку ему на плечо и незаметно указал на Соню, беседовавшую с группой гостей. Она держалась с милой естественностью и казалась воплощением жизнерадостности.
– Твое возвращение сотворило с ней чудо. Только вспомнить, какою она была без тебя!
И правда, она выглядела особенно привлекательной в эту минуту: глаза сияли, в них светились уверенность, спокойствие и торжество.
– И почти то же самое ты сделал с нами, – добавил Меринг. – Говорю тебе, Карл, от самого сердца: ты нам совершенно необходим!
– Но при мысли о том, что нам предстоит, я сгибаюсь уже под тяжестью дел.
– Ведь именно к этому ты стремился в заточении!
– Только бы хватило меня на все! – В его глазах мелькнула такая неуемная страсть, решимость и непреклонность, что вряд ли можно было в нем усомниться.
Взяв под руку Соню, Либкнехт направился вместе со всеми к столу.
II
Совсем немного времени понадобилось, чтобы понять, куда переместился центр назревавших событий. Он был теперь не в рейхстаге и даже не столько в спартаковских группах, сильно пострадавших от преследований полиции, сколько в совете революционных старост. Многие из них, посаженные после апрельской стачки в тюрьму или отправленные на фронт, уже вернулись. Руководство рабочим движением опять перешло к ним.
Дня через три после освобождения Либкнехта появился и Вильгельм Пик, возвратившийся из Голландии. Оба были включены в состав Исполкома Рабочего совета.
Ледебур, Деймиг, Барт, Рихард Мюллер – фигуры, хорошо знакомые Либкнехту, играли сейчас в Исполкоме первую роль. Особенно выдвинулся Барт, любитель речей и эффектных поз. Руководил Исполкомом Мюллер, но Эмиль Барт вскоре сменил его. Вряд ли организации старост повезло с таким председателем.
Они относили себя к левому крылу независимых и представляли более или менее сплоченную группу, готовую выступить против имперского кабинета. Но уже в первые дни спартаковцам стало ясно, что твердой линии у старост нет.
Жестокие споры разгорелись о том, когда начать в столице восстание. Либкнехт и Пик предлагали назначить срок безотлагательно, причем самый близкий. Большинство же доказывало, что берлинские рабочие к восстанию еще не готовы.
Недостатка в громких словах не было. Особенными мастерами тут были Барт и Ледебур. Но стоило от фраз перейти к делу – к утверждению твердой даты, как все становилось расплывчатым.
В эти последние дни октября буквально каждый день был на счету. Второго ноября на заседании Исполкома появилась новая фигура – обер-лейтенант по фамилии Вальц.
Когда пришел Либкнехт, тот вытянулся по-военному и четко представился.
– Товарищ Вальц, – объяснил Барт, – сможет связать нас с военными – без них все наши разговоры беспредметны.
Внешность у обер-лейтенанта была вполне ординарная, и доверия у Либкнехта он не вызвал. Прямота, с какой Барт аттестовал его, показалась Либкнехту малоубедительной. Но за истекшие дни поводов для недоумения накопилось достаточно.
– Какой помощи вы ждете от обер-лейтенанта? – справился он.
– Минут десять еще подождем и начнем заседание, – сказал Барт. – Тогда все объясню.
Он старался удержать в своих руках ведущую роль, хотя по справедливости должен был руководить тут Либкнехт.
Дело происходило в школьном помещении, которое независимые арендовали для вечерних курсов. Либкнехт сел на скамью и закурил. В эти дни он курил особенно много.
Вскоре собрались все, и заседание было открыто. Барт снова представил Вальца и сообщил, что обер-лейтенант командует саперной ротой и готов передать ее в распоряжение Исполкома; кроме того, у него разработана схема восстания, и он мог бы связать старост с частями берлинского гарнизона.
Барт самодовольно посмотрел на спартаковцев: те только и делали до сих пор, что нападали, а ведь самое-то важное начинается только теперь, и инициатива принадлежит не им, а ему.
– Как видите, – подытожил он, – предложение товарища Вальца ставит перед нами ряд новых задач. Поэтому опять говорить о сроках, как этого требуют спартаковцы, было бы неразумно.
– Наоборот, – возразил Либкнехт, – раз вы рассчитываете на содействие частей гарнизона, тем более надо торопиться с началом. Командование может все перехватить и раздавит движение в самом начале.
Вновь разгорелись споры. Пик поддержал Либкнехта. Мюллер стал доказывать, что нужна более тщательная подготовка. Ледебур утверждал, наоборот, что время приспело и тянуть больше нельзя. Глубокой ночью Барт поставил на голосование вопрос о сроке, на котором настаивал Либкнехт. За него проголосовало меньшинство.
Домой Либкнехт возвращался глубоко неудовлетворенный. То, что и самая энергичная группа, старосты, не обладает нужной решимостью, удручало до предела.
Он шел один. Пик повернул в другую сторону. Берлин спал, и какой-то мрачный отпечаток лежал на облике ночного города.
За короткий срок Либкнехт, общаясь с рабочими, пришел к выводу, что они готовы выступить более решительно, чем руководители, но все же тяготеют больше к независимым. Спартаковские группы не стали той притягательной силой, за которой последуют массы. Многое, очень многое упущено за время, что он сидел в крепости. Тем более нужны быстрые, энергичные действия.
Он так мечтал вернуться к семье, к близким, а едва ли провел за эти дни несколько часов с ними. Опять мужественной Соне приходилось нести на себе одной все бремя забот.
Либкнехт шел по ночным улицам. Шаги, гулкие и словно чужие, подчеркивали лишь отчужденность города, который затаился и думал что-то свое.
Как получилось, что семья, такая желанная, когда он был в тюрьме, сулившая ему счастье, отошла в эти дни на десятый план, Либкнехт не мог себе объяснить. Он понимал лишь, что делить себя не умеет и весь без остатка принадлежит восстанию, которое не началось, но должно начаться во что бы ни стало. Должно начаться! – повторял он себе.
На следующий день все возобновилось опять. Прибавилось лишь еще одно обстоятельство: Ледебур привел на заседание Исполкома матроса из Киля. Невысокий, крепко сколоченный, дышащий энергией, тот внес в обсуждение совсем иную струю – не оглядки и осторожности, а решимости и непреклонной веры. Матрос поведал о восстании, вспыхнувшем на флоте. Оно охватило большинство кораблей, стоявших на рейде. Всюду подняты красные флаги.
Горячность, с которой матрос докладывал, подействовала даже на Барта, который еще вчера защищал умеренность.
– Вот теперь-то и надо приняться за подготовку как следует!
– Так назначим точную дату восстания! – потребовал Либкнехт.
– Ваше вчерашнее предложение не прошло, – напомнил Барт.
– Вы видите сами – все переменилось, потому мы и ставим вопрос снова.
Споры не привели бы ни к чему и на этот раз. Но тут еще одно событие произошло: стало известно, что Вальц арестован и на допросе раскрыл планы восстания. Позиция Либкнехта и Пика усилилась; они опять стали доказывать, что, если запоздать, правительство примет свои контрмеры.
Пик предложил начать восстание в ночь на девятое. Хотя настроение старост переменилось, все же Барт и Мюллер стали возражать в один голос.
– Так близко?! Нет, невозможно! Это равносильно тому, чтобы все провалить своими руками!
Ожесточенные споры возобновились. Перешагнуть опасный рубеж старосты не решались, и, сколько Либкнехт и Пик ни склоняли их к тому, что пора перейти наконец к делу, вопрос с места так и не сдвинулся.
III
Придя в свой служебный кабинет, статс-секретарь Шейдеман нашел записку, оставленную ночным дежурным на его столе. Из нее он узнал о мятеже в Киле.
Моряки восставали и в прошлом году, но тогда удалось раздавить движение в зародыше; вожаки того мятежа были расстреляны. На этот раз, судя по тону записки, все выглядело гораздо серьезнее.
Началось с того, что командование ввиду близкой капитуляции решило показать всему миру, что сдаче в плен немецкие моряки предпочтут гибель в открытом бою. Был отдан приказ развести на судах третьей эскадры котлы и готовиться к выходу в море. Этот бой с англичанами, заведомо обреченный, должен был потрясти всех и продемонстрировать воинский дух и мужество немцев.
Но участвовать в безнадежной акции матросы отказались и разводить котлы не стали. В ответ зачинщики были все арестованы и отправлены на берег в тюрьму.
Тогда тысячи моряков, покинув свой корабли, двинулись освобождать товарищей. К ним присоединились солдаты местного гарнизона и рабочие верфей. По пути они захватывали всех встречавшихся офицеров, взяли даже командующего флотом принца Генриха.
Шейдеман тут же передал все Эберту по телефону.
– Мы не имеем права, Фридрих, издали наблюдать за происходящим; необходимо отправить туда своего человека.
– Кого, например? – спросил Эберт.
– Решительного и твердого, который сумел бы взять толпу в свои руки.
– Но его могут до того времени растерзать. Это же чернь, взбунтовавшаяся чернь!
– Фридрих, сейчас не время пугать друг друга, так я считаю, – заметил Шейдеман.
Ответа не последовало.
– Так что же ты предлагаешь? – подождав, спросил Шейдеман.
– Господи, надо подумать сначала! Не могу же я сказать тебе: поезжай ты!
– Так же, как и я не могу предложить тебе этого по вполне понятным причинам.
– Да, нам надо быть здесь, – согласился Эберт.
– Вообще говоря, я бы охотно поехал…
– Но разговор совсем не о том. Просто ты торопишь меня, а мне надо подумать.
На этот раз Шейдеман не стал его торопить; слыша грузное дыхание на другом конце провода, он терпеливо ждал.
– Густава можно было бы, если бы не его любовь к крайностям, – выговорил наконец Эберт.
– Я тоже о нем подумал, но и у меня те же опасения.
– Нет, другого никого не вижу. Его решительность там пригодится.
– Значит, согласовано – он? Переговорю еще с канцлером.
Условились встретиться через час в рейхстаге, в помещении фракции. Придя туда, Шейдеман застал Эберта и Густава Носке. Тем временем стало известно, что офицеры в Киле совершенно деморализованы и не оказывают матросам сопротивления.
– Я полагаю, Густав, – начал Шейдеман, – что Фридрих все тебе уже рассказал? Вот почитай некоторые новые донесения. – И протянул скрепленные сшивателем листы.
Пока Носке, сев у окна, читал, Шейдеман критически разглядывал его: сутул и неуклюж, и эти очки в стальной оправе… фигура не очень-то подходящая; но он все же кряжистый, и желваки, смотрите-ка, играют на лице с диковатой энергией.
– Какое впечатление производят на тебя материалы, Густав?
Носке оторвался от них неохотно, глаза его блеснули зловеще:
– Картина более или менее ясная…
– И довольно мрачная?
Эберт решил не вмешиваться в разговор; сидя за столом, он перекатывал рукой пресс-папье.
– Не мрачнее, чем все остальное, – ответил Носке. – Слишком долго вы с ангельским выражением сидели на пороховой бочке. Такие бочки рано или поздно взрываются.
Не слишком ли много чести, неприязненно подумал Шейдеман, обсуждать с Носке вопросы большой политики?
– Хотелось бы, чтобы ты правильно понял нас, Густав.
– Прости, кого это – вас?
– Фридриха и меня. Мы хотели бы отправить в Киль отнюдь не карателя, а вполне нашего человека, социал-демократа. Надо внушить матросам, что помимо террора существуют другие методы.
– У вас почему-то сложилось обо мне превратное мнение – будто я слишком прямолинеен, – запротестовал Носке.
– Да, Густав, не скрою.
– Не далее как вчера я выступал в Брауншвейге и говорил, что путь террора совсем не в духе немецкой социал-демократии.
– Тем приятнее, если так… – небрежно отозвался Шейдеман. – Словом, вот тебе паше дружеское и партийное пожелание: мы хотели бы получить из Киля вести о мирных шествиях матросов, а не о том, как строчат пулеметы.
– Пока что пожелание похоже на шараду… Надо посмотреть все на месте.
– Можно же прибрать коллектив к рукам, не идя у него на поводу!
Эберт слушал, чуть-чуть прищурясь. «Кажется, время твое проходит, Филипп, – думал он, – и на первый план пора выйти мне». Но кильская история встревожила его сильно; эту брешь в имперской политике надо было заткнуть как можно скорее.
– В общем, Густав, мы полагаемся на тебя, – вставил он.
Шейдеман подытожил:
– Итак, берешься? Задание по тебе?
– Следовало бы вам знать, – с укором произнес Носке, – что я не из тех, кто уклоняется.
– Именно на это мы и рассчитывали.
Многого он от миссии Носке не ждал, но какой-то шаг с их стороны был необходим. А кабинет примет свои меры тоже. В политике на одну карту не ставят. Посмотрим, что из этого выйдет. Кильские события, подобно масляному пятну, грозят расползтись по стране, ухудшая и без того сложную обстановку.
Сведения, поступившие за день, были неутешительны: матросы создали в Киле свой Совет и хозяйничают в городе; делегаты их направились во все города и порты побережья. И вот восстания вспыхнули уже в Любике и Брупсбюттеле…
Несколько раз канцлер справлялся у Шейдемана, не ли сведений от их посланца. На статс-секретаря Гаусмана, тоже направленного в Киль, канцлер не очень рассчитывал. Вообще, он все больше искал поддержки социалистов, хотя в последние дни те держались замкнуто.
– Боюсь, не придется ли нам просить о помощи ставку, – заметил принц Баденский. – Это было бы нежелательно; думаю, в равной степени и для вас.
Шейдеман посоветовал подождать еще.
День не принес ничего, кроме вести о том, что восстание моряков охватило новые города побережья.
Шейдеман поздно вечером собирался покинуть свой кабинет, когда раздался звонок и телефонистка сказала, что соединяет его с Килем.
Слышимость была неважная, однако характерные хриплые нотки в голосе Носке он уловил тотчас же.
– Да, да, слушаю… Да, я… Можешь ли ты нас порадовать чем-нибудь?
– Новости неплохие, я бы сказал.
С души Шейдемана как будто камень упал. Он произнес энергично и как можно более отчетливо:
– Слушаю тебя, Густав, со всем вниманием!
– Я у них председатель их солдатско-матросского Совета.
– О-о, для начала неплохо; в самом деле неплохо.
– В ближайшие дни на собрании флотских и солдатских Советов будет предложено избрать меня губернатором.
– Как? – переспросил Шейдеман. – Я не совсем тебя понял…
– Ну господи, губернатором, ответственным за военное положение в области: генерал-губернатором!
– Густав, я тебя поздравляю: ты шагаешь в гору!
– Передай Фридриху, что дело более или менее верное – они у меня в руках.
– Браво, Густав, браво! – высоким голосом произнес Шейдеман.
В кабинете воцарилась какая-то странная тишина. Шейдеман крутил телефонный шпур, спрашивая себя, в какую сторону повернутся события. Движение, которое распространяется со скоростью ветра, можно, кажется, еще обуздать, взять в свои руки, направить по нужному курсу. Этот недалекий Носке дал им хороший урок конкретной политики.
Между тем старосты все еще совещались. Встречи происходили то в облюбованной ими пивной на Йостиштрассе, то в помещении рабочей школы, то в бюро независимых на Шиффбауэрдамм. Гаазе, ездивший в Киль, вернулся, воодушевленный событиями, полный громких и радостных слов: движение охватило все побережье, перекинулось на запад и неудержимо приближается к столице. Надо включиться, не теряя времени.
Но, заявив себя чуть ли не сторонником Либкнехта, он добавил, что действовать наобум, без тщательной подготовки нельзя.
– Так же невозможно, товарищи! – воскликнул Либкнехт. – Мы говорим, говорим, а как доходит до назначения срока, все пасуют!
– Но, по словам представителей, многие предприятия, все еще не готовы, – заявил Мюллер.
– У меня другие сведения: я был на восьми предприятиях только за последние два дня, и товарищи из нашей группы уверяют в один голос: как только команда будет Дана, все поднимутся, как один человек.
После очередного долгого обсуждения один из старост предложил: одиннадцатое ноября, понедельник.
– Нет, это поздно, – сказал Либкнехт. – Мы предлагаем восьмое, пятницу.
– Стоит ли нарушать единство из-за двух лишних дней? – заметил примирительно Гаазе. – Ведь надо как следует подготовиться.
– А я скажу так: в вашем упорстве есть постыдная осмотрительность. Революции так не делаются! Мало вам приказов, запрещения собраний?! Мы дождемся того, что осадное положение будет введено снова. Шейдемановцы вкупе с канцлером пойдут на все, лишь бы раздавить движение. А у вас тут скрупулезность, все взвешивается на аптечных весах!
Но поддержки у независимых Либкнехт не встретил. Даже более решительный Дитман присоединился к Гаазе и стал отговаривать от слишком близкого срока. Независимые и на этот раз добились своего.
В каждом таком столкновении чувствовалось, что у них своя линия и какая-то своя оглядка.
Собрание так ничем и не закончилось. Собираясь уходить, Либкнехт, до крайности возмущенный, спросил:
– А на митинг, уважаемые коллеги, вы пойдете?
– Погодите, какой еще митинг?! Чему он посвящен?
– Неужто так-таки ничего не знаете?! Просто не верится. Бесстыдство шейдемановцев привело к тому, что из Берлина выдворили советское посольство. И мы, организаторы революции, промолчим?! Не швырнем наше презрение в лицо этим господам?!
На минуту в помещении стало тихо. Гаазе взял на себя труд разъяснить позицию независимых:
– По нашему мнению, все силы должны быть направлены теперь на одно. Не надо осложнять основную задачу другой, побочной.
– Отношение к русской революции – побочный вопрос?! И партия, называющая себя революционной, позволяет себе устраниться и не протестует против мерзости шейдемановцев?! Это, товарищи, гадко, я принужден заявить со всей прямотой!
Гаазе постарался сохранить самообладание, хотя и был сильно задет.
– Вы мастер, товарищ Либкнехт, кидать всем грозные обличения. Отвечать вам тем же я не намерен.
Перед борцом, который сидел в крепости и стал знаменем масс, он якобы готов был снять шляпу. Другое дело – непосредственный противник и страстный полемист: все, что Гаазе имел прежде против него, ожило с новой силой.
Два представителя «Спартака» – Либкнехт и Пик поднялись и, не прощаясь, ушли. Гаазе укоризненно посмотрел им вслед:
– В таком тоне решать дела исторической важности… Сказано это было в расчете на старост и должно было послужить им примером выдержки.
Событиям угодно было повернуть в сторону, не предусмотренную Гаазе и теми, кто оттягивал сроки и колебался. Когда члены Исполкома на следующий день направились на очередное заседание (в рейхстаге, в целях лучшей маскировки), депутат Деймиг был задержан на улице. Спутнице его удалось ускользнуть от полиции. Она прибежала в комнату фракции с потрясающей вестью: портфель Деймига со всеми бумагами, которые в нем находились, попал в руки полиции. Стало быть, план восстания, детали его, сроки – все окажется у военных властей. Так как ни Ледебур, ни Либкнехт пока не пришли, возникло опасение, не схвачены ли они тоже.
– Подождем еще минут десять – пятнадцать, – предложил Барт. – Если не придут, придется начать работу без них.
Но они все же пришли. Их встретили так, точно они появились после долгого заключения. Вчерашнее было забыто, и Барт с новым приливом энергии повел заседание.
– Ситуация, товарищи, изменилась, признаем честно. Не следует ли подумать все же о новой дате восстания?
– Девятое ноября! – с неумолимой твердостью произнес Либкнехт. – Иначе, смею уверить вас, революция придет в Берлин извне, из других городов, объятых восстанием.
После короткой паузы Барт заявил:
– Лично я возражений больше не имею. А фракция независимых? Я думаю, согласимся с датой?
На этот раз предложение Либкнехта прошло. Решено было обратиться к пролетариям Берлина с воззванием – призвать их выйти на улицы завтра, девятого ноября.
– Наконец-то! – шумно вздохнул Либкнехт. – Благодарение всем богам!
Принялись распределять, кому возглавить завтра борьбу за дворец, за вокзалы, телеграф, газетные типографии…
Комитет из десяти человек, в который вошли Ледебур, Гаазе, Барт и, разумеется, Либкнехт и Пик, принялся составлять обращение к берлинским рабочим.
Либкнехт отозвал в сторону Пика:
– Вильгельм, нам надо свою листовку выпустить, от «Спартака». И отпечатать ночью, чего бы это ни стоило. Придя в цех, рабочий получит ее наряду с воззванием старост. Как? Справимся?
– У меня в типографии «Форвертса» свои люди. Они сделают.
– Значит, берешь на себя?
– Да. Только давай вместе составим нашу листовку.
V
Еще до начала восстания в Берлине произошло событие, казалось бы, меньшего значения. Во всяком случае, организатор его предпочел бы, чтобы оно осталось никем не замеченным.
С первых же дней, как на Унтер-ден-Линден появились советское посольство, ставка сообщила правительству, что, если этот очаг инфекции не будет изолирован от населения, она ни за что не поручится.
Говоря по правде, Шейдеман думал о посольстве почти то же самое. Холодно-корректная вежливость его не в силах была скрыть убеждения, что от большевиков Германии может быть один лишь вред.
Кабинет Макса Баденского находился в сложном положении. На плечи его легла масса важнейших вопросов – не только о мире, но и о судьбе династии.
Позицию социалистов в этом щекотливом вопросе канцлер имел уже случай уточнить.
Это было еще в октябре. На послание – вернее, мольбу о мире, – направленное президенту США, поступило несколько ответных нот: Вильсон потребовал освобождения захваченных территорий, прекращения подводной войны и, наконец, дал понять, что пребывание Вильгельма у власти помешает любым попыткам заключить мир.
Вызывая Шейдемана и Эберта на откровенный разговор, канцлер сказал:
– Вы видите, господа, с какой быстротой развиваются события. Можно ли в этих условиях спасти существующую форму правления в стране? Ваше мнение для меня чрезвычайно важно.
Шейдеман для начала ответил:
– Что наши взгляды предполагают в конечном счете демократическую республику, это вы, ваше высочество, знаете. Но подгонять историю мы не склонны.
Эберт стоял сумрачный, упершись ладонями в стол. Он не был сторонником откровенности везде и всегда. Но эти дни требовали более прямых и, стало быть, откровенных действий. Не пришел ли час заявить о себе в полный голос? Даже Шейдемана он в глубине души считал всего лишь временной и неполноценной заменой себе.
Уклончивость Шейдемана показалась ему на этот раз вредной. Уж если разговаривать, то напрямик – слишком острое положение сложилось. И он сказал:
– При том же образе мыслей, что и у моего коллеги, я ничего не имел бы против кайзера, не наделай он уймы глупостей. Он сделал все, чтобы подорвать престиж царствующего дома.
Как ему ни жаль, заметил принц Баденский, но это в общем так.
– Нужно подумать вот о чем, – продолжал Эберт. – Не подобрать ли кого-либо из его сыновей? Или даже внуков – с тем, чтобы до совершеннолетия назначить регента?
– Да? Вы полагаете? – произнес канцлер.
– На пороге глубоких демократических преобразований все обязаны помнить об опасности слева.
– Но стоит только снять ограничения, к которым народ приучен всем ходом истории, как страна впадет именно в крайности. И потом… – принц Баденский, этот изысканный немец, немного на английский манер, оглянулся, чтобы убедиться, что никого, кроме них, в кабинете нет, – присутствие в Берлине противника сейчас особенно вредно. Пускай по своей материальной мощи он не представляет опасности, но его коварство и искушенность меня немного страшат.
Шейдеман прикинулся непонимающим:
– Кого вы имеете в виду, ваше высочество?
– Представителей страны, с которой нам пришлось восстановить нормальные отношения.
– Гм, да… Это не лучшее, что мы имеем сейчас в Берлине.
– Красный флаг над их зданием провоцирует жителей самим своим видом и несомненно действует на некоторых возбуждающе.
Последовала пауза. Затем Шейдеман с какой-то блуждающей, рассеянной улыбкой заметил:
– Вообще-то избавиться от них можно было бы…
– Если есть такой способ, научите меня, прошу вас. Я в этих делах не особенно искушен.
Чуть-чуть снисходительно Шейдеман пояснил:
– В большой политике, когда решаются судьбы страны, способ, который я вижу, кажется мне вполне допустимым.
– Так подскажите его, вы очень меня обяжете. – Канцлер пригласил собеседников сесть – до этой минуты разговор велся как бы на ходу, в непринужденной манере – и сел сам.