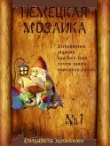Текст книги "Немецкая трагедия. Повесть о Карле Либкнехте"
Автор книги: Осип Черный
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
– Тебе же могут не дать слова!
Он думал об этом сам. Но, высказанная вслух, мысль эта привела Либкнехта в негодование.
– То есть как не дать?! Я депутат, и никто не лишал меня моих прав!
– И такую бомбу, такую торпеду они не перехватят?! Дадут ей взорваться?!
Зоркость Сони насторожила его. Лучше, когда политику делают мужские сильные руки, способные отшвырнуть в сторону грязь… Да, но Роза, но Клара Цеткин? Разве руки у них недостаточно энергичные? Разве они не отшвыривают от себя все мерзости политической жизни?!
Карлу – он сознавал свою непоследовательность – захотелось, чтобы Соня к этому не прикасалась. Все, что надо написать, он напишет; что можно будет произнести – произнесет.
– Не будем, милая, предугадывать хода событий, – сказал он мягко.
– Да?.. – В голосе ее прозвучало сомнение.
Неужто же она не уверена в нем? Разве он недостаточно закален? Мало он выиграл битв?!
– Моих сил хватит на них, Сонюшка, поверь.
И тут Либкнехт получил наконец то, чего жаждало его сердце. Слово горячей поддержки необходимо каждому. Опустив глаза и тихонько постукивая пальцами по столу, он слушал добрые слова жены.
За столом при детях отец выглядел оживленным и даже шутил. Накладывая еду в тарелки, Соня украдкой посматривала на него. В атмосфере веселой шумной семьи тревога как бы распылилась. Живя с большим человеком, вовсе не ощущаешь любой его шаг как исторический. В семье все, до некоторой степени, выравнивается и получает очертания более простые.
Дети и не догадывались, какой шквал предстоит выдержать завтра отцу. Соня тоже старалась казаться, как обычно, уравновешенной и спокойной.
XXIV
Но шаг Либкнехта ворвался в историю уже в ту минуту, когда на следующий день, заняв свое место в рейхстаге, кивнув соседям и не обращая внимания на то, кто ответил, а кто умышленно не заметил кивка, он прислонился к спинке сиденья и немного зажмурил глаза.
Заседание началось гладко, все было предусмотрено наперед. За кредитами, которые испрашивало правительство, не видно было ни пушек, ни изуродованных солдат, ни уничтоженных городов. Реальный образ войны не возникал перед взором депутатов.
Либкнехт, проработавший над своим заявлением до глубокой ночи, знал его почти наизусть. Вообще речи его всегда выливались свободно, и в написанное он не заглядывал.
Уже во время выступления Бетман-Гольвега, который ровным голосом дидакта обосновывал надобность в новых кредитах, Либкнехт подумал: то, что написанный текст при нем, хорошо, он готов встретить любую провокацию; а провокация неминуема. Слова ему не дадут, все говорило об этом: педантичный вид оратора, представлявшего собою и живую личность, и окаменелый символ императорской власти, холодные, отчужденные лица депутаток. Атмосфера пруссаческой официозности настолько противостояла всему, что его наполняло, что Либкнехт почувствовал себя начисто чужим.
Председатель рейхстага доктор Кемпф, плотный и деловитый, немногословный, как председателю и надлежало, поблагодарил канцлера, когда тот закончил. Послышались холодно вежливые аплодисменты. Энтузиазма не было, да его никто и не ждал.
– Я думаю, – обратился Кемпф к депутатам, – мы не станем перегружать заседание, учитывая его представительный характер и дух единства, сплотивший всех.
Сколько времени предоставим ораторам?
Споров по этому поводу не возникло. Представители фракций, выходя на трибуну, заявляли о своем согласии с декларацией канцлера. Речи лились плавно – у одного темпераментнее, у другого суше, но каждый обосновывал позицию поддержки правительства.
Социал-демократы не составили исключения. К трибуне прошел приземистый, с большой головой, словно выраставшей прямо из плеч, Фридрих Эберт. Он был портняжного рода, предок его сидел с иглой в руках, а потом распоряжался в своей мастерской.
И вот сын гейдельбергского портного из примерной католической семьи удостоился чести представлять партию рабочего класса.
Он не был оратором по призванию и считал себя скорее мастером коротких, к месту сказанных реплик, чем речей.
Оглядев ряды своими небольшими, немного навыкате глазами, откашлявшись, Эберт произнес приблизительно следующее:
– С первого дня ужасной войны мы, верные духу немецких рабочих, признавая, что речь идет о будущем нашей родины, уверенные в ее праве на самозащиту ввиду вероломного на нее нападения, постановили отдать свои силы для спасения страны. Утвердив кредиты в начале этой оборонительной войны, мы считаем своим долгом оказать поддержку правительству и в данном случае. Война находится на той стадии, когда потребуются еще большие жертвы от нации. Моя фракция убеждена, что жертвы эти неизбежны. Мы твердо верим, что немецкий народ рано или поздно получит за них полное возмещение.
Он произнес свою речь невыразительным ровным голосом, лишь время от времени приподымая плечо, как будто подсаживал кого-то. Солидность облика соединялась в нем с обыденностью. В рейхстаге, где заседали представители крупного капитала, земельная аристократия, профессора, ученые, экономисты, такой депутат с простоватой внешностью самим своим видом подчеркивал, сколь широка представительность германского парламента. Слова Эберта веско падали на почву единства. Даже депутаты правых фракций воспринимали их с повышенным вниманием.
Не меньшее внимание можно было прочитать и в глазах Либкнехта. Он словно силился постичь эту заурядность, объяснить себе происхождение этой беспринципности и политической пошлости. Шаг за шагом рисовал себе Либкнехт продвижение Эберта по пути филистерства.
Председатель Кемпф счел уместным отметить выступление социал-демократа. Поднявшись, он произнес с чувством:
– Благодарю вас. В трудном положении нашей страны самое радостное заключается в том, что все классы и группы общества едины.
Эберт спустился с трибуны под аплодисменты более оживленные на этот раз: правые и центр продемонстрировали свое одобрение позиции социалистов.
Кемпф собирался уже подвести итоги дебатам, когда с места поднялся Либкнехт. Он сказал, что у него есть особое заявление.
– Какие там еще заявления! – послышались раздраженные голоса. – Их фракция изложила уже свою позицию!
Либкнехт громко возразил:
– Но у меня она иная, имею же я право обосновать ее!
– Разве она так сильно отличается от только что высказанной? – спросил Кемпф.
– Разумеется! – И он вынул из кармана текст своей речи.
Шум в зале не позволил ему говорить. Крики неслись отовсюду. Нескладная фигура Носке возвышалась над всеми.
– Никого он тут не представляет!
Другие коллеги по фракции тоже выкрикивали что-то. Но Либкнехту удалось пересилить стоявший в зале разноголосый шум.
– Я представляю тут, господа, тех, кто облек меня доверием и послал сюда в качестве депутата, и я имею право выразить свою точку зрения!
– Долой, долой! Ни к чему его слушать!
Кемпф изо всех сил старался унять зал, и это удалось ему после долгих усилий.
– Поскольку это ваша точка зрения, господин Либкнехт, мы и можем рассмотреть ее в качестве вашей лично. Ведь вы не представляете отдельную фракцию?
– Нет, нет, его никто не уполномочил! Долой!
– Я уже вам объяснил, что, выражая волю моих избирателей, имею право обосновать свою позицию.
– Благоволите представить ее в письменном виде.
Зал на мгновение затих. Но стоило Либкнехту с прежней непреклонностью повторить, что он требует для себя именно слова, как на местах социал-демократов разразилась буря: кричали, стучали кулаками по пюпитрам, требовали, чтобы он замолчал.
Правым скандал понравился, хотя он и нарушил представительность заседания: верх взяла давняя вражда к социалистам.
Не обращая внимания на шум, Либкнехт пошел к трибуне. Кемпф протянул руку, полагая, что тот передаст ему свое особое мнение. Но Либкнехт попробовал говорить: несколько раз начинал, однако неистовый шум заглушал его голос. А Кемпф без конца повторял, что депутат Либкнехт не имеет слова.
Зал опустился до самого низкого уровня парламентской пристойности, страсти кипели в нем, не удерживаемые ничем.
Убедившись, что говорить ему не удастся, Либкнехт протянул наконец заявление. Кемпф принял из его рук бумагу и умышленно небрежным движением оттолкнул от себя.
После всего этого ввести работу сессии в прежнее русло было уже невозможно. Кемпф встал и дождался относительной тишины.
– Разумеется, следует осудить то, что в атмосферу нашего единства ворвался совершенно посторонний голос.
– С этим надо покончить! Позор! – раздались возмущенные голоса. – Он роняет рейхстаг в глазах всего мира!
Кемпф старался успокоительными жестами призвать зал к большей сдержанности.
– …Я говорю: голос совершенно посторонний. Следует думать, что худшей услуги своим избирателям депутат Либкнехт не мог оказать.
– Правильно! Верно! Отозвать его!
Оставалось лишь сгладить конец заседания, вернуть ему благообразие. Кемпф произнес несколько успокоительных фраз, затем рейхстаг перешел к голосованию.
– Кто за то, чтобы утвердить испрашиваемые имперским правительством кредиты? Прошу голосовать.
Поднялось море рук.
– Есть кто-либо против? – Он тревожно посмотрел в глубину зала.
Поднялась одна рука – Карла Либкнехта. Он осмелился нарушить единство власти с представителями нации.
…Либкнехт выходил из зала еще более отверженный, чем после вчерашнего заседания фракции, но с сознанием значительности того, что сделал.
XXV
Берлин жил обычной жизнью. Проносились щегольские экипажи с отличными одномастными лошадьми и разодетыми кучерами. Из магазинов валил народ, витрины были разукрашены, все большая оживленность ощущалась в преддверии праздников.
Берлин жил жизнью столицы. Армия, продолжая войну, теснила противника на всех направлениях. Хотя кровопролитная битва на Марне не принесла того, что ожидалось всеми, французы пережили тяжелые, полные драматизма недели. Можно было не сомневаться: организованность и выносливость рано или поздно приведут немцев к победе. Жертв пока не считали – еще не пришел срок. С верой в руководителей каждый на своем месте выполнял патриотический долг.
И в это время нашелся человек, решивший взорвать единство народа! С высокой трибуны он выдвинул чуть не лозунги поражения!
На внеочередном заседании фракции депутат Гох заявил:
– Мои сыновья проливают на фронте кровь, а этот субъект отказывает нам в кредитах! Значит, мои сыновья должны остаться безоружными перед лицом врага?! Я отказываюсь считать себя в одной фракции с ним!
– Кто же согласится сидеть с ним рядом?! Никто!
Фридрих Эберт рассудительно заметил, что передовая партия не может руководствоваться чувствами, даже если они обоснованны.
– Но он пренебрег дисциплиной, и с этим партия должна посчитаться. Как ты полагаешь, Филипп? – обратился он к Шейдеману.
– Удалить его, прогнать вон! – выкрикнул Носке.
Шейдеман отозвался спокойнее:
– Фридрих прав, когда говорит о разуме партии, опираться на чувства мы не можем.
– Значит, и дальше терпеть его в наших рядах?! – запальчиво произнес Носке. – Противника, который даже не скрывает, что он наш противник!
– Так вопроса никто не ставит, – возразил Шейдеман. – Товарищ Эберт говорил лишь о благоразумии.
После того как накал споров несколько поубавился, решено было поступить с Либкнехтом так, чтобы потом не было повода для придирок. Трем членам фракции поручили продумать вопрос как следует и представить свои предложения.
– Лишних несколько дней не играют роли, – успокоил всех Эберт, – Важно найти решение, с которым согласились бы и депутаты, и рядовые члены партии. Имейте в виду, его влияние на рабочих пока не подорвано. Это наша задача – ослабить его, насколько будет возможно.
XXVI
Слухи о том, что Либкнехт один на один выступил против воюющей Германии, прорвались сквозь все заграждения. Вызов, брошенный им, замолчать не удалось. Газеты поместили сообщения о депутате, осмелившемся противопоставить себя всем.
На следующий день он начал уже получать письма. В одних его благодарили за мужество и отвагу, в других выражали презрение. Нашлись такие, кто посоветовал ему покинуть Германию: пускай, раз не чувствует себя сыном своей страны, уедет – в Россию или даже в Японию.
Но во многих откликах, приходивших из Германии, Швейцарии, Дании, Голландии, смелый шаг Либкнехта приветствовали горячо.
Группа социалисток Голландии написала: «За ваш поступок, за ваше мужество – спасибо вам. Мы вновь услышали голос Интернационала. Мы знаем, что он живет. Тысячам и тысячам пролетариев всех стран вы дали новую надежду».
Клара Цеткин почувствовала потребность пожать ему руку и высказать свою великую радость: он, Карл, поступил как достойный сын своего отца, незабываемого «солдата революции».
Социал-демократическая молодежь из Копенгагена приветствовала его, первого президента юношеского Интернационала. «С радостью будем следовать вашему примеру», – сообщили датчане.
Старый социал-демократ из Альтопы, вышедший из партии в знак протеста против ее политического банкротства, написал, что за ним, Либкнехтом, стоит весь немецкий народ.
Другой социал-демократ сообщил, что испытывает радость и бодрость при сознании, что «среди хаоса и политических кастратов наших дней все же есть подлинная мятежная душа».
Резолюции солидарности с Либкнехтом шли из социал-демократических организаций Берлина, Штутгарта, Дрездена, Галле и других городов. В оцепенелую напряженность войны ворвались неслыханно свежие голоса человечности и надежды.
Весть о непроизнесенном выступлении Либкнехта, о том, что он сказал «нет!» войне, распространялась все шире. До сих нор в стране звучали голоса Шейдемана, Эберта, Каутского, Гаазе, Легина, Давида: эти социалисты, признав войну свершившимся фактом, призывали немцев содействовать ее победному окончанию.
Голос Либкнехта проник и в лазареты к раненым. Слова его передавали друг другу шепотом.
Нашелся смельчак, публично осудивший бойню. Возникла точка, вокруг которой мог формироваться кристалл. Кристалл начал расти.
…Из перевязочной на минуту вышла сестра. Два солдата, один с забинтованной ногой, другой с повязкой на спине, остались наедине. Они уже два-три дня присматривались друг к другу и даже обменялись несколькими словами. Оба смотрели на происходящее не слишком радужно.
Солдат, раненный в ногу, мрачно заметил:
– Сколько крику было о том, что рабочие должны объявить войну войне! А на поверку вышла одна болтовня!
– Может, это нам с тобою не видно, – заметил осторожно второй, – а руководители знают, в чем дело? Знают побольше нас?
– Ну, а мне что от их знания? Мы с тобой в темноте!
– Это верно.
– А воевать пришлось нам, и пулю вогнали в нас.
– Тоже верно, – согласился второй. – Тебя как звать-то?
– Кнорре… А ты?
– А меня зовут Гольц. Значит, будем знакомы.
Прошло немного времени. И вот дошел до них слух, будто депутат Либкнехт обвинил рейхстаг в том, что он обманывает народ и бесцельно гонит людей на смерть.
Опираясь на костыль, Кнорре стоял возле окна и наблюдал, как выгружают во дворе новую партию раненых. Санитары с носилками ловко вытаскивали их одного за другим и относили в госпиталь. Одна машина отходила, за нею под разгрузку становилась следующая.
– Наша лавочка пустовать не будет, – мрачно заметил Кнорре. – Работают, можно сказать, на совесть.
– Этого товару много, – согласился Гольц. – Приходится шевелиться.
– И перемалывают нашего брата хорошо. Ты сколько времени воевал?
– Недель пять, не больше.
– А я еще меньше. Одних увозят, зато других подбрасывают, чтобы жернова не стояли.
Вдоволь насмотревшись, Кнорре, с густыми темными бровями на жестко очерченном лице, заметил, не глядя на соседа:
– А один все ж таки сказал об этом во всеуслышание.
– Что сказал?
– То, что думаем мы с тобой.
Гольц осмотрительно возразил:
– Про то, что думаю я, у нас с тобой разговору не было.
– Да уж действительно, нельзя догадаться…
Впрочем, потом они признались друг другу, что давно уже не верят тому, что пишут о войне в газетах. Кроме того, они слышали, что в госпитале в Льеже работает врачом брат депутата Либкнехта. Он потихоньку пересказал кое-кому выступление Карла в рейхстаге.
– Что же, Карл так всю правду и выложил?!
– Ну, этого ему не дали, но правда не иголка, ее не запрячешь. Теперь гуляет из лазарета в лазарет, из части в часть. Наш брат сумеет как-нибудь сравнить то, что пишут, с тем, чего сам нагляделся. Ему понять Либкнехта легче.
Выкурили по сигарете, достали из пачки по второй. Мимо сновали сестры, санитары, няни. Провезли в каталке офицера с ногой в гипсе. Кресло осторожно катила тощая медсестра в повязанной не без кокетства косынке. Она строго посмотрела на обоих солдат.
– Эта вредная, – заметил вслед ей Кнорре, – с нею надо быть осторожным.
– А что, на неприятность кто напоролся?
– Одному в нашей палате начала выговаривать: мало что понимает, мол, а рассуждает слишком свободно; если она еще раз услышит такое, то доложит начальству.
– Доносчица, смотри, пожалуйста!..
Так между ними установились отношения большего доверия.
В следующий раз, когда встретились, Гольц спросил:
– Нового чего не слыхал?
– Это же не газета: купил за свои пфенниги и узнал про все. Теперь, если что и узнаешь, стараешься передать потихоньку. Присмотришься, поглядишь, как ведет себя человек, а потом уже решишь, можно ли быть с ним откровенным. – Затем неожиданно спросил: – Ты чем до войны занимался?
– Я? – переспросил Гольц и охотно ответил: – Пиво по столикам разносил, в пивной работал.
– А-а… – в голосе Кнорре послышалось разочарование.
– А ты?
– Паяльные лампы изготовлял в Бремене. Было такое предприятие: не Крупп, конечно, но порядочное.
– Значит, рабочий? Я думал, вашего брата оставили на заводах.
– Тех, без кого было нельзя. А от некоторых им лучше было освободиться.
Разговоры их продолжались и в следующие дни. Чуть-чуть задевая прошлое, они больше касались того, как вести себя дальше.
Про госпиталь в Льеже, где работал брат Либкнехта, стало известно; что там ведет нелегальную работу группа солдат, сумевших разобраться в том, что происходит. Надо бы, решили оба, и здесь привлечь кое-кого и вообще держаться теснее.
Группки недовольных возникали то в одном месте, то в другом. Толчком чаще всего служила непроизнесенная речь Либкнехта.
XXVII
Он не предвидел сам, что его «нет!» будет иметь такие последствия. Ведь им руководила потребность отмежеваться от вероломной позиции партии, с которой его связывало почти полтора десятка лет. Но молва о голосовании в рейхстаге распространялась, и Либкнехт все более убеждался, что шаг его был единственно верным в данных условиях. Роза Люксембург и Клара Цеткин откликнулись сразу, заявив, что он поступил как истинный революционер.
Мысль, что он участвует в чем-то постыдном, преследовавшая его после четвертого августа, больше не тяготила. Теперь он вновь был последовательным социалистом и отстаивал принципы братства народов. Разоблачение правителей, выведение их на чистую воду сделалось неотложной задачей.
Заходя в районное партийное бюро, Либкнехт избегал вступать в споры с товарищами. Там вели себя так, как этого требовал Форштанд, и не скрывали своего осуждения. У него хмуро спрашивали, как это он осмелился пойти против большинства.
– Но если большинство ведет партию в болото, не лучше ли сказать это вслух? Потребовать, чтобы оно повернуло, пока не поздно, в другую сторону?
– Одному вам отпустили истину полной мерой! Руководство слепо, зато Карл Либкнехт все знает!
– Видите ли, Либкнехту дух оппортунизма был ненавистен всегда. Уж если речь обо мне, скажу, что четвертого августа я в угоду дисциплине пожертвовал правдой, и это была ошибка – грубейшая со стороны социалиста. Сейчас я защищаю правду.
– Но такая ваша позиция может привести к самым суровым последствиям для вас.
– Что поделаешь, каждый платит по счету…
В вопросах Сони Карл улавливал все возраставшую тревогу. Он не столько готовил ее к тому, что может случиться, сколько пытался успокоить.
– Конечно, испортить мне жизнь они постараются. Но одного отнять у меня не смогут – того, что я депутат.
– А разве депутата засадить в тюрьму нельзя?
– Пока что, Сонюшка, я такой опасности не предвижу.
Он ходил по кабинету и что-то обдумывал. Соня обратила внимание на то, что у него нервно дергается щека. – Что же это такое? Ведь прежде же не было!
– Бывало, только не бросалось тебе в глаза.
Либкнехт остановился, взглянул на нее; в глазах у него мелькнул задорный огонек.
– Ну, признай, Сонюшка, что мой взнос пока невелик. Другие потеряли кто руку, кто ногу, кто ослеп…
– О Карл, разве о таких вещах говорят?! Разве можно искушать судьбу?!
Он ласково протянул руку, привлек Соню к себе; они стали ходить вместе. В голове мужа происходила напряженная работа, пока что не вполне доступная ей.
Опять у него дернулась щека.
– Ну, Карл, не надо так! Ну, последи за собой!
– Хорошо, милая, постараюсь.
Либкнехт рассеянно освободил ее руку и опять заходил один, обдумывая что-то свое, требовавшее простых и ясных определений.
Ждать вызова пришлось долго. Рядом сидели люди рабочего облика, их вызывали к инспектору одного за другим. Очередь Либкнехта была двенадцатая. Он вынимал повестку, в который раз вчитывался в нее, затем снова совал в карман.
Наконец дело дошло до него. В длинной, безжизненно блеклой комнате спиной к окну сидел инспектор военного бюро.
Либкнехт назвался, протянул повестку и добавил:
– Депутат рейхстага.
Инспектор кивнул на стул, затем молча стал перебирать бумаги в папке.
– Военную службу проходили?
– Проходил.
Мелькнул в памяти час, когда его в числе других новобранцев привели в Потсдам и всех их построили перед дворцом. Вильгельм II появился на балконе и благосклонно выслушал гаркающие солдатские приветствия. Немного любуясь собой, он обратился к новобранцам с речью. Ни одной интонации не было в ней, которая показалась бы Либкнехту сколько-нибудь искренней, свободной от аффектации, ни одной мысли, которая не вызвала бы яростного протеста.
Вероятно, это была самая сильная прививка антимилитаризма, которую он получил в молодые годы.
Обстановка в военном бюро напомнила Либкнехту ту тягостную пору, когда он отбывал службу в германской армии. Муштра и тупость, царившие там, сделали из него убежденнейшего ненавистника милитаризма вообще.
И вот он сидел в крохотной сотовой ячейке современного оголтелого милитаризма, ожидая, что изречет инспектор.
Не подымая глаз от бумаги, тот пробурчал:
– Сорок четыре года, гм… Для строевой не подходите…
Вероятно, он получил указание припугнуть Либкнехта, напомнить ему, что и на него может быть распространена власть военщины.
– Но в рабочую команду направить можно.
– Позволю себе заметить, что я призыву не подлежу.
Инспектор поднял на него враждебный взгляд: в глазах его тускло мерцало холодное недоумение.
– Почему же, господин Либкнехт? Подлежите, безусловно.
– Надо ли вам напоминать, что я представляю в рейхстаге своих избирателей?
– Вас разве не известили? Вы лишены депутатских прав.
Вот какой поворот?.. Ему и в голову не пришло, что они решат сделать такой ход… Во всяком случае, обстоятельства его дела следовало выяснять не здесь.
– Какова же все-таки цель моего вызова к вам?
Инспектор решил сбить спесь с этого слишком независимого депутата. Смакуя упоительную возможность распоряжаться чужими жизнями, он произнес:
– Соответственно своему возрасту вы получите назначение в рабочий батальон.
– А что в том батальоне делают?
– Не понимаю, господин Либкнехт, что вы желаете выяснить?
– Хочу просто предупредить, что, вследствие своих убеждений, стрелять ни в кого не стану.
Инспектор занялся большим пальцем левой руки. Растирая старательно палец, он произнес:
– Настоящий немец не рассуждает, а в условиях войны выполняет приказы вышестоящих. На фронте вы станете делать то, что вам будет приказано… Все, господин Либкнехт! Через три дня явиться к девяти часам на сборный пункт, имея две смены белья и теплые вещи.
Либкнехт покинул канцелярию, стараясь ничем не выдать себя. Машинерия военщины получала его во второй раз в свое распоряжение. Они лишат его права агитировать, выступать на собраниях, собирать вокруг себя единомышленников. Придумано ловко!
Над Берлином стоял промозглый туман. Трамвай и машины выползали всякий раз как будто внезапно и, пройдя полосу видимости, опять ныряли в густую молочную жижу. Звон вагонов и гудки вырывались из невидимого пространства, затянутого густой пеленой.
Либкнехт брел, не зная еще, что сказать Соне. При мысли об ее испуге и растерянности ему стало не по себе. Бросить Соню одну… Не только бросить, но и взвалить на ее плечи заботу о троих детях!
В остающиеся дни надо было успеть многое: предупредить товарищей, дать ряд поручений брату, позаботиться, насколько возможно, о семье.
Он смутно представлял себе, что ему делать дальше. Протестовать против того, что права его бесцеремонно попирают? Одно только Либкнехт знал наверняка: заглушить его голос им не удастся.
События развернулись дальше не совсем так, как наметил вызывавший его к себе инспектор. Либкнехта пригласили в окружное военное управление Берлина. Навстречу ему поднялся плотный, высокий полковник. Он вежливо предложил сигару Либкнехту и закурил сам.
– Вам уже, вероятно, известно, что было сочтено целесообразным направить вас на фронт?
– Да, и я решительно против этого протестую!
Оставив его протест без ответа, полковник продолжал:
– Я хотел бы сделать кое-какие замечания по поводу того, что вам предстоит.
Сигара была зажжена, на конце ее тлел синеватый огонек. Либкнехт держал ее между пальцами и не подносил ко рту.
– Военное командование не отнимает у вас прав народного представителя, это неверно. Сотрудник, неправильно осведомивший вас, получит взыскание. Вам будет дана возможность принимать участие в сессиях рейхстага и ландтага, для этой цели вы будете получать отпуск в Берлин. В остальное время вам придется подчиняться воинской дисциплине. Упаси вас бог вести политическую пропаганду среди солдат и гражданского населения – не только на фронте, но и в Берлине!
– Но я же буду здесь в качестве депутата, не так ли?
– Да, – полковник кивнул, – но с некоторыми оговорками. В рейхстаге и ландтаге – да, но на улице, в любом другом месте вы прежде всего военнослужащий, со всеми вытекающими последствиями. Я хочу это подчеркнуть, зная, как силен будет у вас соблазн высказать свою точку зрения.
– Господин полковник, – сказал Либкнехт, – я адвокат и права свои знаю. То, что вами предпринято, есть явное противозаконие, под какие бы нормы вы его ни подводили. Было бы странно, если бы я, его жертва, вступил в соглашение с теми, кто его допускает.
Полковник пожелал показать, что упрямство собеседника огорчает его.
– В условиях такой войны вы говорите о беззаконии! Наоборот, по отношению к вам проявили наибольшую мягкость.
– Человеку, действующему от лица избирателей, затыкают рот!..
– Некоторые депутаты отправились на фронт добровольно, чтобы употребить свой авторитет на благо страны.
– Я стараюсь использовать свой авторитет в тех же целях. Но благо страны мы понимаем с вами по-разному.
– Жаль, очень жаль… Мне хотелось доверительно предостеречь вас от опасностей.
– Что ж, спасибо, – ответил Либкнехт. – Но есть еще доверие тысяч людей, и депутат обязан выполнить свой долг перед ними.
– А не ошибаетесь ли вы в понимании долга, господин Либкнехт?
– Ну, с этим уж ничего не поделаешь… – И он усмехнулся.
Полковник встал, прощаясь с ним. Пока что перед ним был депутат, представитель народа, а не солдат рабочего батальона.
XXIX
Дома Соня сказала растерянно:
– Как же так, Карл?! Что теперь будет?!
Было бы, вероятно, лучше, если бы вопрос не был задан. Было бы лучше, если бы ее взгляд источал больше мужества.
Никогда, даже в первые дни их близости, Либкнехт не рисовал ей радужных перспектив. Он, правда, верил, что человек существует для счастья. Борьба во имя идеи, мысль о выполняемом предназначении сами по себе приближают к счастью.
Сколько бы зла на земле ни творилось, жизнь все равно хороша: ведь солнце продолжает светить, в поле растет трава, люди проявляют чудеса благородства и верности.
– Вообрази, Сонюшка, самое худшее: мы топаем по грязи, я тащу свой мешок за плечами, я в испарине, и кругом туман. И хотя я устал до предела, голова полна мыслей – отнять их у меня не сможет никто. Я вижу много такого, чего товарищи мои пока не видят. Неужто же в казарме нельзя будет с ними беседовать?!
_ Ах, Карл, ты совсем как ребенок! – сказала Соня и расплакалась.
– Но не могу же я рисовать будущее в мрачном свете, это не в моей натуре!
– Оптимизм хорош, – сквозь слезы сказала Соня, – но главным образом для тебя, а не для тех, кто тебя любит. Ожидать вестей от тебя, волноваться, мучиться!..
– Но я же буду писать, и ты поймешь, что жизнь даже в ненавистной обстановке полна для меня глубокого смысла. Там я буду делать то же, что и здесь.
– Как?! Трибун, зажигавший тысячи сердец, станет в уголке казармы потихоньку убеждать двоих солдат?!
– В любых условиях надо делать то, что можно. Ведь не откажешься же ты передавать мои материалы товарищам? Работа ведется и сейчас, и немалая.
– Тем ужаснее, что тебя от нее отрывают!
– Противники мои ничем не брезгают. Моя отправка тоже дело их рук.
– Кого ты имеешь в виду, Карл?
– Почтенных соци, пособников кайзера. Многих из них нам удастся, я думаю, оторвать. Резервы у нас немалые. Но строить придется все заново.
Соня печально смотрела на своего мужа, видя его уже в солдатской форме, призванным защищать дело кайзера. Потом отвела глаза и взглянула на гравюру, висевшую над роялем. На гравюре был изображен Бетховен, погруженный в раздумье.
– О, Карл, – произнесла она, – как все это тяжело!
XXX
Приблизительно в то же время, в феврале пятнадцатого года, к дому на Капиценштрассе подъехал поздно вечером крытый автомобиль-фургон. По лестнице быстрым военным шагом поднялось шесть человек. Один позвонил. Хозяйка, открывшая дверь, испуганно отшатнулась. Старший остерегающе поднял руку:
– Ни звука! Соблюдать тишину…
Друг за другом они прошли по коридору. Не постучавшись, первый рывком открыл дверь.
Держа в руке настольную лампу, Роза, наклонившись к зеркалу, рассматривала себя и расчесывала свои длинные волосы.
Никого она не ждала в этот час и потому за несколько минут до их появления стала рассматривать, много ли седины прибавилось за последнее время. Увы, много.
При виде людей, ворвавшихся в комнату, Роза отступила от зеркала, выпрямилась и, прищурившись, заметила:
– Было бы приличнее, господа, если бы, входя к женщине, вы попросили разрешения.
– Теперь не до этого! – Шагнув к ней, старший произнес: – Роза Люксембург – так? Родом из Польши?