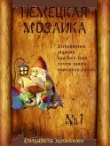Текст книги "Немецкая трагедия. Повесть о Карле Либкнехте"
Автор книги: Осип Черный
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
Прощаясь, Либкнехт взял с нее слово, что в ближайшие дни она к ним придет.
– За вами же, Карл, теперь наблюдают, и вдруг какая-то русская, человек во всех отношениях сомнительный…
– Мой дом открыт, как и прежде, для всех, тем более для друзей, – ответил он независимо и с подчеркнутой сердечностью попрощался.
X
Соня Либкнехт была полна тревоги за Карла, за брата в Льеже, за родителей. Война раскидала членов семьи в разные стороны. Не только собраться всем, но и получить сведения друг о друге не было теперь никакой возможности. Тем не менее в присутствии друзей Соня выглядела жизнерадостной и спокойной.
Дело было, вероятно, в самой ее натуре, в бьющем через край жизнелюбии. Дело было и в том, с каким тактом она вошла в дом Либкнехтов.
Первой жены, Юлии Парадис, Карл Либкнехт лишился три года назад. На руках у него осталось трое детей. Либкнехты и Парадисы были связаны долгой дружбой. В годы, когда складывается характер и формируются взгляды, именно Юлия стояла рядом с Карлом и была поверенной его мыслей.
Но русскую студентку с живыми темными глазами и прелестной кругло головкой, жадную до искусства, политики, социальных наук, студентку, которая, как и многие девушки из России, приехала в Германию учиться, Либкнехт узнал за несколько лет до того, как семью его постигла беда. Нити общности, тяготения протянулись с той и с другой стороны. Со съезда ли в Штутгарте или из Лейпцига, где после выхода его книги «Милитаризм и антимилитаризм» был затеян шумный процесс против него, с курорта ли, где его поразила красота природы, Либкнехт слал ей то открытку с изображением бурлящего водопада, то письмо с отчетом обо всем, что случилось с ним, то просто весточку о себе: жил там-то, провел судебное дело, которое длилось три дня и закончилось победой защиты, вспоминаю о вас. Всегда вспоминаю с симпатией и нежностью.
Так, ступень за ступенью, в жизнь его входило существо, полное молодого очарования и жизнелюбия, полное веры в то дело, которому посвятил себя Либкнехт.
Общаясь с Соней, Либкнехт не позволял себе ни одного неловкого или неточного слова по отношению к женщине, с которой был связан прочными узами. Но и от Софьи Рысс требовалась крайняя деликатность во всем, что касалось его семьи. Все было ему дорого, и ко всему он был очень чувствителен.
Когда Юлия Парадис умерла, когда спустя год после этого зашла речь о том, чтобы женой его стала Соня, она, давая согласие, поняла, что берет на себя очень серьезные обязательства и перед ним – революционером, страстным борцом, и перед его детьми.
Понятия отцовского долга и отцовской любви слились в душе Либкнехта в одно. Оставшись без матери, дети должны были расти так, чтобы другая женщина, войдя в семью, не задела их внутренних прав и не поколебала веру в людей.
Чутьем преданного человека Соня ощутила это с первых дней. Напряженный, ищущий, с пытливой душой Гельми; мягкий, добродушно смотрящий сквозь очки, но при этом остро наблюдательный Роберт; девочка Вера с глазами, горящими интересом ко всем, соединявшая в себе деятельный дух и добросердечие, – все представляло собой мир большой и сложный.
Мир этот был связан теснейшими узами с внутренней жизнью человека, которого Софья Рысс полюбила. Один лишь неверный шаг, сухая фраза, взгляд исподлобья, брошенный на ребят, – и они замкнутся в себе, а в сердце отца останется болезненный шрам.
Казалось, за годы дружбы и близости Софья Рысс узнала Либкнехта хорошо. Но жизнь, в которую она вступала теперь, была несравненно сложнее. Новые отношения требовали особой чуткости и непогрешимого такта, иначе можно было очень многое повредить.
XI
Коллонтай застала в доме Либкнехтов атмосферу доброй семейной дружбы. Бывая в Берлине прежде, она знала и о смерти Юлии, и о вторичной женитьбе Карла. Год назад Софья Либкнехт, которая была моложе его на тринадцать лет, чувствовала себя, вероятно, не так уверенно и в поисках правильного тона с детьми нередко робела.
Но сейчас все осталось, по-видимому, позади. Нетрудно было убедиться, что она заняла свое место прочно и что дети стали ее союзниками. Можно было даже сказать, что это ее дети, хотя она так молода и установила с ними отношения равенства, а не покровительства. При таких отношениях было трудно даже понять, воспринимают ли они ее как мать, или как старшую сестру, или просто как близкого человека, которому полностью доверяют и которому многое поверяют.
Семейная атмосфера Либкнехтов так сильно отличалась от всего, что окружало Коллонтай в эти дни, что сердце ее поневоле сжалось: покинув их дом через час-два, она вновь почувствует подозрительность и враждебность вокруг, опять окажется в гуще нелепых и вздорных слухов.
Даже русские, попавшие в такое же, как и она, тяжкое положение, досаждали ей; Коллонтай чувствовала себя среди них белой вороной. Ей преподносили слухи один другого глупее: русские прорвали на широком фронте австро-германский фронт и ведут победное наступление; в России объявлены политические свободы и все ждут амнистии. Кому-то очень хотелось обелить царскую власть, сделать из нее чуть не защитницу интересов народа. Это удручало и раздражало.
С такою же быстротой распространялись слухи, будто французы панически отступают: еще одно-два усилия, и перед немцами откроется прямой путь на Париж.
Эпидемия шовинистического легковерия нисколько не задела семью Либкнехтов. Здесь ценилось все то, что имело ценность до первого августа: говорили о литературе, музыке и, пожалуй, больше всего о живописи. Топ задавала Соня.
Эта устойчивость интересов могла поначалу показаться странной. Словно мир не сдвинулся со своих оснований и ворота цивилизации не сорваны с петель.
Позже, вслушавшись, Коллонтай уловила как бы вызов всему и всем, сознательное намерение показать, что прежние ценности неизменны. Какие бы мерзости в и творились вокруг, а сознательный человек не отказывается от того, чем дорожил всегда.
Рисовки тут не было, скорее ответ тому хищному и темному, что надвинулось на человечество.
Уже после первых слов Карла – он справился, есть ли у нее новости, и с таким же вниманием и самоотдачей выслушал ее, – после первых минут общения с ним Коллонтай почувствовала, что он такой же, как и в кулуарах рейхстага или на улице, когда поздно вечером они возвращались с того проклятого заседания.
Карл подчеркивал лишь, что ни одной духовной ценности не уступит. Никаких этих модных фраз – «Ах, какая там литература, когда идет такая война!» – от него услышать нельзя было. В этом звучала особая стойкость. Ничего он не собирался отдавать в чужие руки – от жесточайших идейных схваток и вплоть до творений Шекспира и тончайших красок художников.
В его поведении естественность соединялась с какой-то декларативностью.
Обратившись к Гельми, отец сказал:
– Слушай, мой мальчик, я заглянул в твои тетради. Понимаешь ли, ошибок меньше, чем было, но они есть. Надо быть неумолимым к себе. Условие ведь у нас прежнее – ты обязан стать человеком. Условие остается в силе.
– Но война, отец? Все пошло кувырком. В гимназии больше болтают о положении на фронтах, чем о занятиях и уроках.
– А ты пренебреги всей этой болтовней. Не можешь же ты выйти завтра на улицу и во всеуслышание заявить, что война – обман народов и подлость. Ты еще слишком юн, и это дело наше. И мы его сделаем, будь уверен.
– Но как я могу молчать, когда одноклассники мои бредят фронтом, рассказывают друг другу, кто и из какой семьи сбежал тайком на войну!
– Предоставь это им. Для них запах победы и запах крови – одно. Между тобой, моим сыном, и этими буржуазными барчуками целая пропасть.
– Хорошо, ты и, допустим, я, еще кое-кто… Но таких, как они, большинство.
– Пойми же, о мой бог! Ты ученик гимназии, а в гимназии учатся по преимуществу дети тех, кто кричит «Hoch!», машет шляпой, видя колонны солдат, кто жаждет победы… Твой отец не жаждет победы. И миллионы честных людей, пока что обманутых, рано или поздно пробудятся, поверь.
Соня, скрестив на груди руки, переводила взгляд с мужа на Гельми. Она ничего не произнесла и тем не менее принимала участие в разговоре тоже. Быть может, именно потому, что она тут присутствовала, да и Коллонтай сидела у них, возникла надобность в таком, с нажимом, с подчеркнутой страстью, разговоре с сыном.
В какое-то мгновение Соня поняла, что объяснение обходится слишком дорого обоим. Гельми стал бледен, складка, разделявшая подбородок надвое, стала как будто резче и напряжение в глазах тоже. А отец словно вел разговор через голову сына с другими.
– Карл, милый, не требуешь ли ты слишком много от мальчика? – осторожно заметила Соня. – Один против всех?.. Ведь у него и плечи не такие, как у тебя, пока что.
– Ты не права! – возразил запальчиво Гельми. – Мне под силу гораздо больше, чем я брал на себя до сих пор.
Либкнехт словно пришел в себя: отступил от черты, к которой подошел вплотную.
– Соня права, мой мальчик. Мы с тобой в самом деле немного погорячились. Все еще впереди – у меня, да а у тебя. У тебя тем более будет еще время сказать свое слово.
– Дети, дети, – спохватилась Соня, – мы совсем забыли, который час теперь. Вам давно пора спать.
Боб рисовал, поглядывая то и дело на взрослых. Верочка с какой-то легкой сноровкой вязала. И оба были прикованы к спору. Они поднялись неохотно. Еще труднее было остановить Гельми, который был очень взволнован.
Когда Соня увела их, стало еще заметнее, что Либкнехт, старающийся выглядеть уверенным, на самом деле переживает нелегкие дни. На время он как будто забыл о Коллонтай: зашагал по столовой, продолжая мысленно разговор.
– Происходит нечто непостижимое. – Это было произнесено вслух: Соня вернулась, и слова его были адресованы ей и гостье. – Я беседую с уборщицей, прачкой, с человеком, который доставил нам уголь, с трудовыми людьми… То, что они говорят, переворачивает мне душу. Ну хорошо: я воюю с самим собой, по многу раз спрашиваю себя, как это я смог санкционировать грабеж и разбой. Но вот они, эти люда: повторяют все то гнусное, что говорили члены фракции, доказывая свою правоту. Понимаете ли, социал-демократы уловили самые низменные настроения народа и стали их глашатаями!
– Люди внушаемы, прими во внимание, – заметила Соня.
– Но если грубый обман принимают за чистую монету, чего стоит тогда вся прежняя наша работа?! Вы только послушайте, что распевают на улице: «Jeder Schuss – ein Russ, jeder Stoss – ein Franzos, jeder Tritt – ein Britt» [2]2
Выстрелишь – и нет русского, толкнешь – и нет француза, шагнешь – и нет британца (нем.).
[Закрыть]. Таковы инстинкты народа, которому внушили, будто он призван побеждать?!
– Где ты это слышал? – спросила Соня.
– На улице, на улице… На улице, в поезде, в трамвае слышишь одно и то же, повторяемое без конца. Выходит, если бы вместо своего гнусного «да» я в тот день произнес гневное «нет», оно прозвучало бы вразрез с тем, что думают немцы? Ужас какой-то! – Он вышел в кабинет за папиросами.
– На нем лица нет, – заметила Соня в его отсутствие. – Внешне держится хорошо, но что-то его точит… Она не успела договорить: Карл вернулся, прикуривая на ходу.
– Нашего рабочего, – продолжал он, – долгие годы призывали бороться с правительством, а теперь, выходит, оторвав рабочих от мирной жизни и послав воевать, правительство действует в их интересах! Рабочего приглашают уверовать в идиотскую чепуху: русские – варвары, дикари, а он, Иоахим, Фриц, чуть не мировую цивилизацию защищает… Я пока не очень еще разобрался, как ко всей такой чепухе отнеслись рядовые люди с партийной закалкой, но то, что слышишь на улице, просто ужасно… Гуманизм, интернационализм в смертельной опасности. Должна же возникнуть сила, которая противопоставила бы себя чудовищу войны!
В тот вечер он высказывал многое из того, что думала Коллонтай сама. Но она чувствовала за своей спиной незримую опору: только бы вырваться из плена берлинского шовинизма, связаться с товарищами, с Лениным, узнать, как смотрит на события он, – словом, вернуть себе те формы общения, без которых она не умела существовать.
Визит к Либкнехтам, его гневные размышления взволновали ее. Она покидала их дом с чувством боли за Карла. В этом охваченном страстью войны городе мысль не была убита – ни мысль, ни совесть. Но кто сумеет сплотить недовольных и обратит их недовольство в силу, которая противостояла бы темным инстинктам и низменным страстям?!
Ответа у Коллонтай в тот вечер не было. Настороженный молчаливый город, по которому она шла, был полон враждебного недоверия. Он был весь пронизан духом войны.
XII
Либкнехт старался помочь русским, попавшим в беду. Хлопоты были просто необходимы ему, они выражали его прежнюю веру в общность народов.
Он сопровождал Коллонтай в полицайревир, объяснялся с комиссаром, доказывал, что поведение полицейских недопустимо.
У нее сделали обыск, отобрали все документы и отвели в арестный дом при полиции. Но на следующее утро она была неожиданно вызвана к комиссару.
– Что же вы, фрау, не объявили, что по своим убеждениям враждебны вашему царю?! Германия вовсе не с вашими революционерами воюет. Вы должны так же поддерживать кайзера, как и мы.
Вступать в объяснения ей не дали, они не нуждались в мнении русской фрау.
– Получите свои бумаги. Можете еще некоторое время оставаться здесь, но каждый день являйтесь сюда для отметки.
– Мы и так это делаем.
– Тем лучше. Вы должны признать сами, что по отношению к русским, нашим врагам, мы проявляем крайнюю сдержанность.
Хлопоты Либкнехта за Мишу в конце концов увенчались успехом. Однажды юноша предстал перед матерью изможденный, но радостный. Его держали в лагере Дебериц. Русских скопилось там великое множество. То, что он рассказал об их положении, об унижениях, которым их подвергают, было тягостно.
Узнав, что сделал для него Либкнехт, он решил, что обязан рассказать ему обо всем увиденном сам.
Вечером мать и сын отправились к Либкнехтам. Опять в первую минуту у Коллонтай возникло ощущение, будто оживленное общество за их столом продолжает существовать вне атмосферы войны. Впрочем, вскоре пришлось сделать поправку.
Гость, длинный, вихрастый и взъерошенный, разглядывал газетный снимок и заливался смехом.
Заметив недоумение Коллонтай, Либкнехт обратился к ней:
– Не угодно ли – полюбуйтесь, как они расправляются с нашим братом! – И протянул фотографию, ожидая, что она скажет.
На фотографии был изображен человек в военной форме, в пенсне. Усы, черная полоска волос, знакомый взгляд из-за стекол.
– Карл, неужели вы?!
– А то кто же? Конечно, – не без сарказма ответил он.
– Но почему в военном?
Либкнехт рассмеялся и окинул веселым взглядом своих гостей, точно призывая их в свидетели:
– Ха-ха-ха. Ну, так вы не поняли самого основного! Сейчас разъясню вам, сударыня: Карл Либкнехт, повинуясь зову сердца, записался добровольцем в армию. Видя, как настроен немецкий народ, он одумался и решил загладить прежние прегрешения.
То ли его забавляла неуклюжая выходка прессы, то ли он подчеркивал ее зловещий характер – Коллонтай так и не решила. Но, взглянув на Соню, уловила тревогу.
В столовой царило веселое оживление. В тот вечер говорили не столько о политике, сколько об античности. Вихрастый человек, забавлявшийся карикатурой на Либкнехта, оказался известным ученым. О его трудах по искусству Коллонтай слышала. К Соне он обращался как к коллеге, с которым можно вести разговор на равных. Господин Эдуард Фукс, говоря о сокровищах Востока, широко жестикулировал. Путешествия, розыски, находки и встречи живо вставали в его рассказах.
Тем временем Миша, воспользовавшись подходящей минутой, отошел с Либкнехтом в другой угол. Когда он начал благодарить за свое освобождение, Карл остановил его каким-то дружески покровительственным прикосновением.
– Это самое малое, что человек в моем положении обязан сделать. Но что там творится, расскажите-ка.
Когда Коллонтай подошла к ним, рассказ Миши был в разгаре. Либкнехт слушал, нахмурившись. Напряженная складка прорезала переносицу.
– Я полагаю, надо съездить туда самому. Как депутат я обязан увидеть все своими глазами. Если бы «Форвертс» выступил!.. Куда там, он занят рассказами о доблести немецких солдат… А вы слышали, – обратился он к Коллонтай, – как благородные немецкие коллеги заботятся о вас, русских? Гере сообщил мне, что Форштанд решил освободить две комнаты и приобрести на свой счет сорок коек.
– Это на какой случай?
– Могут начаться эксцессы, и вам негде будет прятаться.
– Господи, – засмеялась она, – но нас во много раз больше!
– Зато почти интернационалистский жест. История им зачтет. А сами они уже записали это себе в актив.
Он говорил почти без горечи, немного насмешливо.
– О чем вы толкуете? – К ним подошел Фукс – А-а, русские остались без крова? Ну а деньгами ваше землячество располагает?
– Землячества нет, и денег ни пфеннига.
– Как же вы, господа, пробавляетесь?
– Надеждой, – объяснила Коллонтай. – И взаимной выручкой.
– А кто защищает ваши интересы?
– Испанское посольство.
– Так надо атаковать их, не давать им покоя!
– Возле посольства толпятся тысячи русских.
– А-а, это я видел: чугунные ажурные ворота хорошего литья? За воротами посыпанные желтым песком дорожки?
– Вот и собираются перед оградой. Кричат, скандалят…
– Так у вас должен же быть свой комитет!
– Есть, господин Фукс, но с ним никто не считается.
Либкнехт не без любопытства наблюдал за Фуксом: что, собственно, намерен тот предложить?
Немного подумав, Фукс решительно произнес:
– Прекрасно, господа: в ваш комитет включаюсь я!
– Простите, в качестве кого? – поинтересовалась Коллонтай.
– В качестве немца! Немца, который выше предрассудков и считает долгом помочь русским, попавшим в беду!
Соня Либкнехт, слышавшая разговор, подала свой голос:
– Эдуард – человек неукротимый, он может вам пригодиться.
Попрощавшись с хозяевами и экстравагантным гостем, Коллонтай почувствовала себя сбитой с толку. А может, в самом деле они, русские, недостаточно энергичны?
– Миша, – спросила она, желая проверить себя, – какое впечатление произвел на тебя Фукс?
– Во всяком случае, он не в гостях в Берлине и не бесправен, как мы. И это хорошо.
XIII
Августовская ночь начала светлеть. Полоска на краю неба постепенно делалась розоватой. Контуры вокзала утрачивали расплывчатость.
По перрону вокзала в Штутгарте прохаживались трое. Они оглядывались время от времени, точно за ними кто-то следовал. Но в этот ранний час перрон был пустынен, лишь несколько носильщиков бродили, ожидая берлинского поезда.
– Я считаю, говорить надо с ним откровенно, – заметил молодой, которого звали Куртом, – хотя бы из одного только уважения к нему… А ты, Вилли, как думаешь? – обратился он к старшему.
– Откровенно – да, только такт соблюсти при этом.
– Речь совсем не о том. Но если он попробует уклониться…
– Значит, не знаешь, какой он человек!
– Слишком серьезный вопрос, – пояснил, оправдываясь, Курт, – чтобы мириться с половинчатыми решениями.
Третий, Фридрих, курил и время от времени пускал колечками дым. Когда проходили мимо электрических часов, он сверил свои часы.
– Помню, – сказал Фридрих, – как он приезжал сюда семь лет назад. Я еще был молодой, а в память врезалось здорово.
Немного погодя Вилли заметил:
– Восемь минут опоздания. Война сказывается.
Наконец в сиреневой дали нечетко обозначились огни паровоза. Поезд приближался, накатываясь своей грузной массой на перрон. Из нарядного здания вокзала стали выходить встречающие. Их было немного: две пожилые дамы, четверо мужчин в котелках и один без шляпы, лысый, круглый, похожий издали на бочонок. Он махал рукой перед лицом, точно ему было душно.
Только из трех-четырех вагонов вышли пассажиры. Завидев того, кого они ждали, трое устремились к нему.
Он вышел с черным портфелем под мышкой.
– Ба, Вилли, Курт, Фридрих… В такую рань встретили!
– Ну как же, – сказал Курт, – иначе быть не могло.
– У вас все в порядке, да?
– В общем, да… – Ответ Курта прозвучал принужденно.
– Тебя всегда отличал оптимизм, это твоя жизненная позиция.
– Гм, если самочувствие называть позицией. – И добавил с вызовом: – К твоему сведению, трое здесь присутствующих находятся под угрозой исключения из партии.
– Так-так… – Гость остановился. – Это что-то новое.
– Именно так, товарищ Либкнехт.
– Гм, примечательно… За какие же прегрешения?
– Несогласие с линией руководства. По вопросу о войне.
– Нет, вы меня прямо заинтриговали, – энергичнее произнес Либкнехт.
Пройдя через вокзал, просторный и красивый внутри, дальше пошли по двое. Либкнехта посвящал в дела штутгартской организации Вилли; Курт и Фридрих шагали сзади. Рассказ Вилли задел Либкнехта с первых же слов.
В организации не только нашлись несогласные: их оказалось чуть не большинство, и они не скрывают своей позиции. Руководство то ли снеслось с Форштандом, то ли само решило принять ответные меры.
Итак, движение, которое Либкнехт когда-то пестовал тут, настолько окрепло и выросло, что в сложных условиях войны молодежь не побоялась вступить в острый спор с вожаками!
Все, что терзало его в эти дни, ожило с новой силой. Он и торжествовал, слушая рассказ Вилли, и с каким-то ожесточением думал, что ему не уйти от ответа. Тут или в другом месте он обязан сказать себе, был ли его поступок четвертого августа достаточно обоснован. Его поднятая рука торчала особняком, резала глаз, мучила его совесть. И эта поднятая рука Либкнехта поразила и потрясла в Штутгарте многих.
То, что прежним безоговорочным обязательствам изменили другие, они, казалось, в состоянии были понять. Но Либкнехт, Карл Либкнехт?!
– Да, друзья мои, дело обстоит именно так. Разговор необходим, ты, Вилли, прав. Я для того и приехал.
Даже в обществе Коллонтай говорить о четвертом августа было почти невозможно: слишком свежа была рана, которую он нанес себе сам. Но тут, в Штутгарте, надо было держать ответ неминуемо.
Либкнехт знал Штутгарт давно – с его памятниками, парками, картинными галереями. Вспомнилось, как он посылал отсюда Соне открытки с видами. Господи, он и тогда торопился! Собирался побывать в галерее, но так и не побывал. Сколько других воспоминаний связано со Штутгартом! Вот здание с высокими узкими окнами, с округленными углами и башенками на крыше, – здесь он, Либкнехт, провел первый Международный конгресс молодежи, собрал молодых социалистов мира… А вот в том доме печатались, помнится, материалы конгресса Интернационала социалистической молодежи. Да, такой город, как Штутгарт, не так-то просто подмять под себя, подчинить своему влиянию. Даже Берлину с его непреклонным Форштандом.
Миновав центр, пришли в рабочий район. Под аркой кирпичного, ржавого с виду дома поднялись по мрачной лестнице на четвертый этаж.
На звонок вышла женщина средних лет в темном платье с разводами. Дверь она лишь приоткрыла, не впуская их.
– Тетушка Венцель, мы к вам. Как было условлено.
– А-а, ну, идите в комнату. – Либкнехта она окинула быстрым сметливым взглядом.
Продолговатая и высокая комната, вход в которую был из темного коридора, глядела окном во двор.
– Отдохнуть тут все же можно, – как бы оправдываясь, объяснил Курт. – Мы решили принять меры предосторожности, так будет надежнее.
– Мне правится тут, – сказал Либкнехт. – Но я не устал, в пути вздремнул даже.
– А все-таки…
Тетушка Венцель бросила с порога:
– Если что будет нужно, не стесняйтесь. Нам, женщинам, тоже хочется быть полезными в общем деле.
– Спасибо, спасибо. Умоюсь с дороги и уйду по делам.
– Ну, нет, – с растяжкой сказала она, – пока не закусите, об этом речи не может быть. Не знаю, как дальше, а пока у меня в кладовке кое-что есть.
– Я сыт, спасибо.
Провожатые собрались уходить, им надо было успеть к началу смены. Перед уходом они заглянули к хозяйке:
– Так мы на вас полагаемся?
– Не беспокойтесь, – ответила она добродушным баском, – тетушка Венцель не подкачает.
Проводив их, она вернулась в комнату, чтобы представиться Либкнехту лучше.
– Сын у меня работал в депо, а другой на электростанции. Теперь один на востоке, а другой в Бельгии. Но я не из тех, кто кричит про зверства казаков, на это у меня хватает ума.
Она вышла и вскоре вернулась, неся в одной руке сковороду с яичницей и поджаренной колбасой, а в другой тарелку с гренками.
Почти следом за нею вошел человек средних лет с морщинистым лицом и резко обозначенными чертами, в опрятной рабочей куртке, без кепи. Он протянул Либкнехту руку:
– Вы-то меня не помните, а я знаю вас хорошо.
– Минуту, минуту… Я вел ваше дело года четыре назад?
– Нет, поболе: пять лет прошло. И мы это дело выиграли.
– Со страховой кассой, которая не хотела платить вам пособие?
Тем временем тетушка Венцель уставляла все на столе.
– У вас хорошая память, – признал посетитель. – Приятно, когда человек помнит, что случилось с другим. Нельзя, чтобы память была короткая.
– Вот тетушка Венцель предлагает закусить, так что давайте вдвоем, – предложил Либкнехт. – А зовут вас… сейчас припомню: Крейнц, да?
– Правильно… А клиентов было за пять лет, наверно, немало?
– Да, – сказал Либкнехт, – немало. Давайте закусим.
– Вот насчет завтрака: моя старуха не любит отпускать меня с пустым желудком. Вы кушайте, это не помешает мне кое-что выяснить. Я не очень-то поворотливый, но хочется получить сведения, что называется, из первых рук.
Сели за столик. Из окна виден был темноватый, окруженный кирпичными зданиями двор.
Либкнехт спросил у Крейнца, что происходит в городе.
– А что вас интересует?
– Как проходила мобилизация, каковы настроения рабочих. – Он поставил перед гостем тарелку.
Крейнц упрямо помотал головой.
– Или сначала позавтракаете, а потом уже поговорим?
– А что? – рассмеялся Либкнехт. – Разговор может лишить меня аппетита?
– Будем надеяться на лучшее. – Отодвинув тарелку, Крейнц положил на стол тяжелые ладони. – Вот какой будет у меня к вам вопрос. Что война может вот-вот разразиться, про это писали много. Что капиталисты строят во всех странах козни, про это мы тоже знали. Рабочий бороться в одиночку не может. И даже организация не должна действовать по своему разумению каждая. Мы ждали команды.
– И по команде стали бы сражаться, как во времена крестьянских войн, вилами и топорами?
– Способов протестовать не так уж мало: забастовка, например, она стоит многого.
– Допустим. А они бросили бы против рабочих войска?
Он умышленно говорил не о том: ему необходимо было понять, что именно думает Крейнц. Поэтому он с удовлетворением воспринял его реплику:
– Это совсем о другом. Я же имею в виду вот что: почему не последовало команды?
Яичница стыла, гренки с янтарными капельками жира на поджаренной корке лежали нетронутые, а разговор продолжался.
– Теперь вопрос хотел бы задать я, – сказал Либкнехт. – Только ответьте мне прямо: такое понятие, как патриотизм, существует или нет?
– Что вы под этим подразумеваете?
– В данном случае – состояние умов, при котором даже передовой рабочий берет винтовку и идет защищать страну.
Крейнц пытливо смотрел на него.
– Значит, вы в самом деле с ними, товарищ Либкнехт?
– С кем?
– С теми, кто предал рабочий класс в эти дни?
Либкнехт выдержал его тяжелый допытывающий взгляд.
– Нет, не с ними.
Крейнц пошевелил ладонями, как будто собираясь убрать их, но вместо этого занял еще большую часть стола.
– Вашим именем пользуются, чтобы оправдать измену, – знаете?
– Это пока что до меня не дошло.
– Наши здешние заправилы говорят так: «Вот он, ваш левый, противник войны! Поднял он руку против кредитов?»
После паузы Либкнехт выговорил каким-то пересохшим голосом:
– Это была ошибка…
– Именно такого признания ждут от вас все!
– Да, ошибка, – повторил он, – и я ее осознал.
– За нее спросят с вас, имейте в виду. Глубоко уважаю вас, и каждый в отдельности уважает. Но когда собираются вместе, на первый план выступает нечто другое.
– Я не страдаю ложным самолюбием и готов держать ответ.
К еде Крейнц так и не притронулся. Поднялся, взял обеими руками руку Либкнехта и пристально посмотрел на него.
– Положение серьезное. Совсем мало людей, которым наш брат верит. Нам терять вас нельзя никак. – Он ушел.
Либкнехт долго мерил шагами узкую комнату. Когда тетушка Венцель пришла за посудой, еда была не тронута.
– Я буду виновата, если вы уйдете голодный. Я ведь за вас отвечаю!
– Да, да, простите, сейчас…
Он продолжал ходить, обдумывая положение в партии и ставя далекое прошлое, приходившее ему на память, в связь с нынешним.
XIV
Ему было всего семь лет, когда «железный канцлер» Германии Бисмарк расправился с немецким рабочим движением. Он воспользовался провокационным выстрелом в императора какого-то фанатика, сумасшедшего и провел давно лелеемую им меру. Подавляющим большинством голосов рейхстаг принял «исключительный закон против социалистов». Партия Августа Бебеля и Вильгельма Либкнехта лишилась легальности. Ее организации и пресса были разгромлены. Канцлер был уверен, что она перестанет существовать.
Семья Либкнехтов жила в Лейпциге, там же работал в Бебель. Отец Карла был старше Бебеля на четырнадцать лет. Их связывали тесная дружба и единство взглядов.
Года два-три они еще оставались в Лейпциге, терпя нужду и лишения. Затем обоим было предложено покинуть город, и они отправились буквально по шпалам, заглядывая то в одно селеньице, то в другое. Выбрали едва ли не самое бедное и неказистое, Борсдорф, и там стали искать приюта.
Время было очень трудное для обоих, нужда подступила вплотную. Тайком от друга Бебель написал Энгельсу в Лондон, нельзя ли обеспечить Либкнехта хоть какими-либо корреспонденциями.
Положение несколько улучшилось, когда Вильгельм Либкнехт стал сотрудничать в американской левой печати, и все же оно оставалось нелегким. Тем не менее отец настаивал на том, чтобы дети его получили образование. Мяло того, когда у Карла обнаружили большие способности к музыке, его стали учить на рояле.
В памяти Карла это трудное время запечатлелось как отважное, полное романтизма. Он всякий раз считал дни, остающиеся до того воскресенья, когда мать, захватив с собой всех детей, отправится с ними на побывку к отцу. Тишина по пути от станции до селения, звенящие провода, простор и ожидание встречи… Удивительным контрастом с атмосферой, в которой жил маленький Карл в Лейпциге, являлись эти поездки. Каждое утро, подходя к гимназии Николае, Карл готовился к яростным столкновениям: любые намеки, уколы, едкие слова об опальном отце, о государственном преступнике, в семье которого он растет, тиранили слух, возмущали совесть и требовало отчаянного сопротивления.
Но стоило попасть Карлу в Борсдорф, как он чувствовал себя под надежной защитой. Этим двоим спокойным, очень сдержанным людям, умевшим шутить и ко всему подбиравшим меткое легкое слово, – отцу и Августу Бебелю – Карл доверял безгранично. Он не совсем еще хорошо понимал, за что они борются, однако знал твердо, что борьба их нужна всем, что за нею стоят справедливость и правда. Чем большим притеснениям подвергались оба, тем ярче в воображении Карла вставал образ борющихся за правду людей.