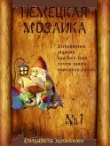Текст книги "Немецкая трагедия. Повесть о Карле Либкнехте"
Автор книги: Осип Черный
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
– А знаете, Карл, – заметила Кете Дункер, и голос у нее потеплел, – что молодежь ловит каждое ваше слово? Вы стали для нее образцом и примером.
– Да? – усмехнулся он. – Лукавить не буду, мне приятно.
– В Лейпциге у нас тоже, – подтвердил Георг Шуман. – Картина примерно такая же. Вы для всех образец стойкости.
Либкнехт приподнял голову, как будто смотря вдаль, и, чувствуя неловкость от того, что оказался в центре внимания, постарался перевести разговор.
Контору покидали небольшими группами. В коридоре, надевая пальто, разговаривали вполголоса.
На улице было очень холодно. Длинный ряд фонарей уходил вдаль. Фыркая и чихая проносился автомобиль, с характерным цоканьем проезжал франтовской экипаж.
Карл стоял у полуоткрытой двери и смотрел вслед ушедшим. Потом вернулся в комнату и взглянул на массу тарелок, пустые блюдца, рюмки. Приняться за уборку?
Он прошел в комнату, где до войны принимал клиентов. Старый клеенчатый диван поблескивал в темноте. Растянуться на нем, накрывшись своим пальто, или вернуться к Соне?
Тут он заметил, что на диване кто-то лежит подтянув ноги, почти свернувшись калачиком.
– Сонюшка, ты?! Как ты здесь очутилась?!
Оказывается, она встретила Новый год с детьми и вернулась, чтобы быть ближе к нему.
Не раскрывая глаз, она подвинулась, освобождая для него место. Осторожно, заботливо, стараясь не вывести ее из полусонного состояния, Карл стал устраиваться рядом.
XXIV
Итак, первый день нового года принес создание группы. Письма, подписанные именем Спартака, размноженные на гектографе, в типографиях, проникали на фабрики и в окопы. По этим письмам группа получила названий «Спартак». Некоторые письма печатались на оберточной желтой бумаге, чтобы, раскиданные возле заводских ворот, не бросались ночью в глаза полиции. Утром, когда приходила новая смена, чьи-то руки заботливо подбирали их и после прочтения передавали дальше. «Писем» ждали, их прочитывали с увлечением и тайной надеждой.
А Либкнехт, стремясь оправдать недолгую свою свободу, продолжал работать, не щадя себя.
В рейхстаге он по-прежнему прибегал к тактике «малых запросов». Шейдемановцы только и думали, как бы от него избавиться. Двенадцатого января социал-демократическая фракция шестьюдесятью голосами против двадцати пяти постановила вывести его из своего состава. Это решение окончательно изолировало его от шейдемановцев: с ними было покончено.
Но оно не могло остановить расслоения, происходившего в самой фракции. После того как группа Гаазе – Ледебура проголосовала против кредитов, голосовавшие испытали на себе неумолимое действие партийной нетерпимости.
Они создали свою фракцию, более или менее умеренную, но все же оппозиционную по отношению к шейдемановцам, и назвали ее «Трудовым содружеством».
А Либкнехт, шла ли речь о народном просвещении или о самоуправстве полиции, о военных займах или обнищании масс, громил и правительство и соглашателей. Шейдемановцам было от чего прийти в ярость.
В ответ на их выкрики он как-то заявил:
– Степень вашего возмущения против малых запросов является для меня мерилом их ценности.
Восьмого апреля опять – в который уже раз! – зашла речь о военном займе. Под видом вопроса к порядку дня Либкнехту удалось получить слово.
Он пошел к трибуне, держа предусмотрительно заготовленные листки с записями.
Шаги на ковре были почти неслышны, но зал на минуту замер. Либкнехт лишь заглянул в свои листки и начал:
– Эти займы окрестили в народе словечком «перпетуум мобиле» [3]3
Вечное движение (лат.).
[Закрыть]. В известном смысле они представляют собой карусель, господа. Ловкая концентрация общественных средств в государственной кассе…
Звонок председателя предостерег оратора. Этого было достаточно – отовсюду послышались возмущенные голоса:
– Просто неслыханно!.. Сколько же можно терпеть?!
– Я имею право критиковать, – возразил громко Либкнехт. – Сколько бы вы ни мешали мне, правду я выскажу.
Опять раздались возмущенные крики протеста. Председатель изо всех сил звонил в колокольчик.
– Я просил бы прекратить крики с мест, – наконец произнес он. – Со своей стороны хочу выразить сожаление, что с этой трибуны немец способен прибегнуть к словам, какие употребил доктор Либкнехт.
– Он не немец! – заорали депутаты. – Какой же он немец?!
– Да, господа, – повысил голос Либкнехт, – различие между нами коренное, и отнюдь не в национальности: вы представляете капитал и его интересы, а я – интернациональный пролетариат…
После нового взрыва выкриков, после возгласов: «Сумасшедший дом!», «Бессмыслица какая-то, чепуха», «Помешательство!» – Либкнехт, перекрывая всех, прогремел:
– Ваши крики – честь для меня, да будет вам известно… Это… – Дальше нельзя было ничего расслышать из-за дикого шума.
Очередной скандал разразился.
– Ему еще не наскучили эти спектакли, – язвительно бросил Шейдеман соседу. – Старая, надоевшая всем комедия…
Впрочем, большая часть социал-демократов орала изо всех сил наравне с депутатами правых партий. Ему еще удалось выкрикнуть:
– Почему вы в такой ярости, господа? Неужели на вашей совести много такого, что надо скрывать?!
Шум достиг своего апогея. Либкнехт продолжал обличать, но голоса его не было слышно.
В эту минуту один из разъяренных депутатов подскочил к нему и сильным ударом выбил у него из рук листки. Продолжая говорить, Либкнехт инстинктивно наклонился, чтобы подобрать свои листки, сделал шаг, чтобы дотянуться до них.
– Вы покинули трибуну, – с торжеством произнес председатель, – ваше выступление закончено.
– Нет, я не кончил! – Он поднялся и возмущенно крикнул: – Вы видели сами, как депутат вырвал у меня из рук записи. Это бесчестно, наконец!
– Нет, нет, вы лишили себя слова сами, покинув трибуну.
– Но ведь тут заведомая бесчестность! Можете ли вы оправдать это перед собственной совестью?!
Стараясь унять разбушевавшийся зал, Кемпф звонил и звонил. Наконец ему удалось произнести более или менее внятно:
– Еще раз призываю, господин депутат, к порядку и за грубое нарушение дисциплины удаляю вас с заседания… Все, господа, все, – торопливо закончил он. – Записавшихся больше нет, прения закончены.
В парламентских сварах Либкнехт был достаточно искушен, и голос был у него достаточно сильный. Но давать повод для новых провокаций он счел ненужным: «письма Спартака» все равно донесут его речь до рабочих.
На место он возвращался, яростно оглядываясь на расшумевшихся депутатов, испытывая скорее презрение к коллегам, чем негодование.
Он вперял взгляд то в одного, то в другого, словно мерясь с ними силами. В этом зале он один представлял миллионы обманутых и обманываемых. Да и не в рейхстаге решалась теперь судьба страны.
Судьбу ее должны были решить народные массы.
XXV
Весна влилась в улицы города. После первых дождей зелень распустилась чуть не за одну ночь, и серый неуютный Берлин помолодел. Это вечное, из года в год, обновление не в силах было скрыть запущенности и обветшалости, которые кидались в глаза на каждом шагу. Город не ремонтировали и даже убирать стали хуже.
Население недоедало. Стоимость жизни выросла в два раза. Очереди возле лавок росли, а продуктов становилось все меньше. Рабочий день увеличился до десяти – двенадцати часов. Изнывали и рабочие и их жены, принужденные добывать для себя еду всеми правдами и неправдами.
Берлинцы были хмуры и неприветливы и все-таки жили надеждой на победу. Хотя где было думать о победе, если под Верденом гибли сотни тысяч солдат в бесплодных атаках, а на востоке армии зарывались все глубже в землю! Прежние слова о блеске и славе Германии звучали почти насмешкой. Почва для нелегальной работы сама по себе разрыхлялась.
Спартаковцы проникали на заводы, в цеха. Несколько сот доверенных связывали их центр с группами сочувствующих, число которых на заводах все росло. «Письма» их, появлявшиеся не реже раза в неделю, играли очень важную роль. Один из участников событий тех дней писал позже, что «ни одно литературное произведение не читалось в то время в Германии с таким благоговением, не изучалось и не комментировалось с таким усердием, как эти письма, подписанные «Спартаком». Пришло, однако, время действовать. Сигналы из Брауншвейга, Дрездена, Бремена, Лейпцига говорили, что и там недовольство войной растет.
В феврале Роза Люксембург отбыла свой тюремный срок. Ее выпустили на свободу, и она сразу включилась в работу. Либкнехт, которому было запрещено покидать Берлин, сумел нелегально побывать на подпольной конференции пролетарской молодежи в Иене и еще раз убедился, что почва для массовых выступлений созрела и недовольные ждут лишь сигнала.
Приближался день Первого мая. Именно в этот день надо было показать, что дух рабочих силен.
В цехах и мастерских, в столовых и пивных стали появляться листовки с лаконичным призывом: «Хлеб! Свобода! Мир! Тот, кто против войны, явится первого мая в восемь часов вечера на Потсдамерплац!» В других листовках призывы спартаковцев были изложены обстоятельнее: «Первого мая мы призываем от имени многих тысяч: прекратим злодейское преступление, бойню народов! Наш враг – не французский, русский или английский народ, наш враг – немецкие юнкера, немецкие капиталисты и их «исполнительный комитет» – немецкое правительство! Поднимемся на борьбу против этого смертельного врага всякой свободы. Покончим с войной! Мы желаем мира!»
Характер листовок изобличал почерк Либкнехта. Потсдамская площадь должна была стать тем местом, где произойдет проверка протестующих.
Группа Ледебура – Гаазе, с которой спартаковцы попробовали установить связь, по-прежнему утверждала, что борьбу надо вести не на улицах и площадях, а в стенах рейхстага. Не соглашаться, протестовать, голосовать против – вот те средства, какие предлагали центристы.
Некоторые из группы Гаазе, вроде Эмиля Барта, человека с большим апломбом, пытались доказать Либкнехту, что затея спартаковцев пустая и заранее обречена на провал.
– Ничего она не даст, кроме напрасной потери сил.
Либкнехт выслушал Барта с выражением непреклонной убежденности.
– Потеря сил? Допускаю. Но когда тысячи выйдут на площадь в военном Берлине и выскажут осуждение режиму, это будет большая победа.
– Тысячи?! Явятся жалкие горсточки – с одного предприятия, с другого, третьего…
– Стало быть, на площади соберутся?..
– В лучшем случае сто – полтораста человек. Такая, с позволения сказать, толпа оставит самое жалкое впечатление.
Либкнехт нервно пощипывал кончики усов. В нем боролись противоречивые чувства. Разве мог он сказать наперед, как пройдет демонстрация?! Расхолаживающие слова только ожесточали и тиранили душу.
На демонстрации настоял именно он и сознавал свою огромную, небывалую ответственность. Но он знал, что нельзя поддаваться маловерам, так называемым трезвым людям, которые только и делают что расхолаживают умы и разъедают души сомнением.
Нет, отступать спартаковцы не собирались.
И вот ожидаемый многими день наступил. Поначалу он ничем не отличался от прочих весенних дней: яркое солнце, голубое небо и будничный Берлин. Почти до вечера Потсдамская площадь оставалась пустынной. Время от времени ее пересекал отряд полицейских или медленным шагом следовали конные жандармы. Личности в штатском с надвинутыми на глаза шляпами шарили на прилегающих улицах, стараясь ничего не упустить из виду.
Ближе к восьми на улицах, вливавшихся в площадь, появились первые колонны. Они шли организованно, выдерживая твердый шаг. Звучали песни. В передних рядах можно было разглядеть знакомые лица тех, кто всегда бывал на выступлениях Карла Либкнехта, с кем он беседовал, кто не первый уже день работал по заданиям «Спартака».
Потсдамерплац успели опоясать конные и пешие полицейские. Они пытались оттеснить колонны, подходившие вновь, но слишком могуч был поток демонстрантов. Справиться с ними можно было только с помощью оружия.
Вскоре вся площадь кишела народом. Недовольство, гнев и нужда вышли на свою первую организованную демонстрацию.
И вот в гуще толпы появились мужчина в котелке а в пенсне и хромавшая небольшого роста женщина. Когда стоявшие вблизи узнали Либкнехта и Люксембург, точно искровая линия пронеслась по площади, объединив всех. Сознание, что Либкнехт и Роза с ними, сплотило толпу.
Они пробирались все глубже, на ходу кивая старым друзьям и раздавая захваченные с собой листовки и книжки.
По пятам за ними протискивался отряд полицейских. Он уже настигал обоих.
Понимая, что в их распоряжении считанные мгновения, Либкнехт зычно выкрикнул:
– Долой ненавистную всем войну! Долой правительство!
Повторяя свои призывы, он и Роза добрались до возвышения. Отсюда открылось море людей: не горстка, а тысячи готовых жадно впитывать каждое его слово. Сняв шляпу, выбросив вперед правую руку, Либкнехт заговорил.
Но тут настигли его полицейские: вскочили на возвышение и попытались стащить. Отбиваясь от них, Либкнехт продолжал свою речь.
Их было слишком много, и они свое дело знали. Им было приказано ни в коем случае не допускать речей; они и так проморгали, позволив Либкнехту бросить в толпу поджигательские слова.
Совсем непросто было вырвать Либкнехта из клещей толпы: стоявшие плотно цепи людей мешали этому упрямо и ожесточенно. Но он все же был вытащен. За плотным кольцом толпы ждали полицейские машины.
Ему было нестерпимо жарко, лицо было исцарапано, но он торжествовал. Он сознавал себя победителем: это море голов, эти тысячи обращенных к нему взглядов, внимание замершей площади… Что бы ни ожидало его, дело сделано: протестующий Берлин вышел на улицы.
Розу он потерял из виду. Жаль будет, если она опять попадет за решетку. Мысль о ней была острее, чем о семье. Все, что связывало его с обыкновенной жизнью, закрылось почти непроницаемой пеленой.
Даже в полицейской машине, прижатый с обеих сторон, чтобы не посмел шевельнуться, Либкнехт оставался сражающимся солдатом. В котелке и черном пальто, которое в нескольких местах порвали, он был воином – не тем, кто с лопатой шагает в сторону передовой, чтобы рыть окопы полного профиля, а солдатом-воителем той еще не сложившейся, но уже складывавшейся армии революции, которая сегодня, Первого мая, показала, какие силы таит в себе.
XXVI
Розу тоже доставили в полицейское управление и, допросив, предложили расписаться в протоколе. Держалась она несколько иронически, и чиновник высокого ранга – потому что все до самых высоких чинов были сегодня мобилизованы – удивленно поднял на нее глаза.
– Вы еще находите уместным подтрунивать?
– А почему бы нет? Разве не смешно, что на двоих безоружных кидается рота вышколенных полицейских? Не говоря уже о шпиках.
– А вы ждали снисходительности? Думали, что в центре Берлина вам удастся безнаказанно сеять ваши идеи?
– Мы их посеяли, господа, и вы в этом участвовали сами. Можете быть уверены: о сегодняшнем дне узнает весь мир.
– Мы выполняли свой долг, и больше ничего. – Он показал, где расписаться, и закончил: – Спорить бесполезно, с вами можно разговаривать только на языке принуждения. Но пока что вы, госпожа Люксембург, свободны.
Первым делом она кинулась к Соне Либкнехт. По глазам, в которых были страх и отчаяние, нетрудно было понять, как ждала Соня исхода событий.
Она знала, что сегодня что-то произойдет, хотя Карл рассказал ей не все. Она даже хотела пойти вместе с ним и не приняла в расчет обычного его отшучивания.
– Думаешь, оставаться одной и ждать легче?!
– Ничего не случится, – сказал Карл. – Мы, как вчера и позавчера, поужинаем за нашим столом.
Вот так он умел внушать ей надежду, что все обойдется. Мало разве бывал он в опасных переделках, и обходилось же!
Но как только Карл ушел, ее охватило волнение. Она ходила из комнаты в комнату, перекладывала на его столе вещи, наполнила чернильницы и не знала, что с собой делать. Дети убежали: первое мая, весна, хороший день, надо посмотреть на вечерний Берлин. Они до сих пор не вернулись.
Стоило Соне увидеть Розу, как она поняла: сомнений больше нет, случилась беда.
– Только не волнуйтесь, Сонечка, в ближайшие дни, а то и часы все разъяснится.
Хотелось стереть с лица милой доверчивой женщины следы ужаса. Роза приводила доводы, в которые сама не верила.
Сталкиваясь с бедами близких, она искренне считала, что сама полна неистощимых сил. Этих не прошедших тюремной школы, незакаленных женщин, принимающих на свои слабые плечи такой тяжкий груз, ей было очень жаль. Она относилась к Соне нежно, сочувствовала ей, понимая, сколько еще горестей ожидает ее.
– Как же вы говорите «вернется», раз его забрали!
– Выпустят, выпустят… Еще могут выпустить.
Под нажимом Сони ей пришлось, смягчая, правда, кое-что, пересказать весь ход событий.
– Это серьезнее, чем говорите вы, – заметила та. – Это, по-моему, очень, очень серьезно. Что же теперь будет?!
Не умея кривить душой, Роза сказала:
– Сонечка, ведь вы мужественный человек; над головой каждого из нас висит меч. Но мы сильнее тех, кто над нами глумится. Я говорю вовсе не для того, чтобы утешить вас: это мое убеждение, символ веры. А то бы я чувствовала себя на земле просто несчастной…
Отчаяние не уходило из глаз Сони. Ей, жене революционера, давно пора, говорила она себе, научиться владеть собой. Хорошо, что Роза здесь. А может, после ее ухода станет немного легче? Она все обдумает и попробует разобраться сама?
Роза обняла ее на прощанье и, повторив, что теперь они еще ближе друг другу – по судьбе и по духу, – ушла.
Край неба, показавшийся в расщелине между домами, был еще светлый. В Берлине начинался едва ли не лучший месяц, когда весенние запахи особенно опьяняют и теплый дождь кажется особенно упоительным. Прихрамывая, Роза шла домой и удивлялась, как все вокруг не похоже на то, что творится в человеческой жизни.
Не задерживаясь на этом, в общем наивном, сопоставлении, она сказала себе, что и в природе много жестокого, с чем ее ум не желает мириться. Она вспомнила маленькую, испуганную, страдающую Соню, и сердце ее защемило.
XXVII
Либкнехт еще не представлял себе всей серьезности своего положения, однако в первом же письме из Северной берлинской тюрьмы, куда его водворили, попросил, чтобы Соня переслала ему несколько фундаментальных книг. Видно, запасался ими не на один день.
Какое бы дело против него ни затеяли, он будет вести себя так, чтобы оно обернулось против обвинителей. Но одна мысль терзала его. Людские колонны, заполнившие площадь, без сомнения, означали новый этап борьбы. Ведь Берлин такого еще не знал. Сейчас особенно нужно сильное руководство, необходим политический вожак…Но что делать, чего не успел он, выполнят другие. Может быть, Роза останется на свободе, Иогихес…
Расхаживая по камере, заложив руки за спину, Либкнехт старался всесторонне оценить положение. Если против него затеют процесс, надо, чтобы любые допросы, любые его заявления обратились в обвинительный материал. Он добьется того, чтобы любая бумажка передавалась в копии Соне. Защищаться будет сам: нанесет удар такой силы, что отзвуки разнесутся по Европе.
В мрачной камере с высоким окном, до которого нельзя было дотянуться, Либкнехт не чувствовал себя одиноким: камера была населена союзниками, единомышленниками – и врагами, с которыми он сражался. Как человек сильно возбужденный не чувствует иной раз мороза на улице, так Либкнехт в эти первые дни заточения не замечал тюремной обстановки.
На первом свидании с женой он выглядел и возбужденным, и вместе с тем изможденным.
– Милая, дорогая, близкая! Как ты? Как дети? – начал он горячо и тут же с жаром, сжигавшим его, заговорил о том, чего ждет от нее.
Он повторил, что на каждый удар противников ответит своим удесятеренным.
– Вот это в суд берлинской комендатуры, это туда же, а вот третье обращение. Только, пожалуйста, не перепутай, все должно брошюроваться в строжайшем порядке.
– Карл, что ты затеял?!
– Кампанию, которая прозвучит, как удар колокола! Они думают, что, именуя меня в своих бумагах солдатом рабочего батальона, подчинили себе?! Нет, я буду разить их насмерть.
Боже, подумала Соня, если это так, как он говорит, если это не эпизод в его жизни, не очередное мелкое столкновение, а смертельная схватка, как же он сможет один на один пойти против судебной системы?! Ведь они раздавят его!
Свидание было коротким, и Карл напоследок сказал!
– Все будет хорошо, уверяю тебя. Надо сохранить хладнокровие, и мы победим.
На тюремном дворе стояли закрытые «черные вороны» и расхаживала стража; под ее охраной прогуливались арестованные. Соня шла, совершенно раздавленная тем, что увидела. Страшная мысль сверлила ее: машина пруссачества, империализма добралась до ее мужа, только чудо может спасти его.
Но детям надо сказать что-то такое, что поддержало бы в них надежду на скорое возвращение отца.
Гельми, склонный все воспринимать драматически, готов был к худшему. Сумрачно выслушав ее рассказ, он не отозвался ни словом. Соня попробовала смягчить, как могла, ситуацию.
– Ну к чему ты это говоришь? – сказал Гельми. – Его все равно засудят.
– А я думаю, выпустят.
– Нет, заберут в крепость.
– Зачем так говорить! – сказала почти умоляюще Соня. – Ведь делу это не поможет!
– Надо всегда видеть правду, – упрямо ответил Гельми.
И, не чувствуя себя в силах противостоять ему, она отступила.
XXVIII
В заявлениях, адресованных суду берлинской королевской комендатуры, Либкнехт, обвиняемый в государственной измене, писал:
«Государственная измена была всегда привилегией правящих классов… Подлинные государственные изменники сидят… в конторах металлургических заводов… в больших банках, в усадьбах юнкеров-аграриев… Подлинные государственные изменники в Германии – это… члены германского правительства, бонапартисты с нечистой социальной совестью… Государственные изменники – это те люди, которые… превращают Европу в груду развалив и пустыню и окутывают ее атмосферой лжи и лицемерия».
Достаточно было заглянуть в любое его заявление, чтобы стало ясно: свою энергию Либкнехт направил на изобличение тех, кто стоит у власти. Меньше всего он занимался самозащитой.
«Предлагаю отменить приказ о взятии меня под стражу», – писал он. Или: «Обвинительный акт, предъявленный мне, представляет собою сборник исторических преданий и ходячих формул». И дальше изобличал самую подготовку войны и связанное с этим лицемерие властей.
«Описание майской демонстрации в донесении полиция достойно Фуше и Штибера, – указал в другом заявлении Либкнехт. – В демонстрации участвовало… по точным данным рейхстага, человек двести, большей частью женщины и подростки… И с этими двумя сотнями… сильный наряд полиции, вместе с военными патрулями, не может справиться в течение двух-трех часов! Возникает необходимость на несколько часов оцепить площадь. Демонстранты разделились на три процессии… Итого, на каждую процессию по шестьдесят человек».
Словом, над теми, в чьих руках оказалась его судьба он издевался.
«Мне, разумеется, совершенно не хотелось, чтобы полицейские кулаки помешали моему дальнейшему участию в демонстрации».
«Почему обвинение умалчивает о том, что после моего ареста два «патриота», очевидно из учеников фон Ягова, дубасили меня палками по голове, причем один с довольным видом приговаривал: «Давно пора было его сцапать!»»
«Еще раз требую, чтобы обвинение было последовавательным и придерживалось хотя бы тех пунктов, какие само предъявило».
Тем временем в городах Германии происходили волнения. Верный себе, Либкнехт касается и этого:
«Об идиллическом настроении немецкого народа свидетельствуют мюнхенские беспорядки 17 июня, серьезность которых полиции хотелось бы опровергнуть на свой излюбленный манер».
«Беспорядки в Мюнхене, как и во многих других городах, возникли из-за недостатка продуктов, жесточайшей нужды и голода, доводящих до отчаяния даже такой терпеливый народ, как немцы… Даже в рейхстаге, послушнейшем изо всех парламентов, недовольство проявляется очень резко. Но обвинение ничего об этом не знает. Зато знают в кварталах, населенных беднотой, у смертного одра сотен тысяч детей… знают и припомнят тем, кто сейчас ничего не хочет знать».
Так вел себя Либкнехт с того дня, когда был схвачен на Потсдамской площади, и вплоть до дня, когда предстал перед судом.
XXIX
Член военного суда Машке, назначенный обвинителем в первой инстанции, отказался поддержать версию измены отечеству, выдвинутую против Либкнехта. Тогда Машке заменили другим, и все пошло гладко. Председатель суда утвердил состав коллегии для слушания дела солдата рабочего батальона Карла Либкнехта.
В небольшом зале народу набилось пропасть, атмосфера была с первых минут накаленная. Не успели прочесть обвинительное заключение, как новый обвинитель обратился к суду с ходатайством о закрытом разборе дела.
– Так и ждал этого бегства от гласности! – саркастически произнес Либкнехт.
Председатель строго остановил его: обвиняемый вправе приводить доводы лишь по существу.
– Но и само предложение об отмене гласности вы намерены разбирать в закрытом порядке?! Предел трусости! Вот так правосудие!
– Прекратите свои выпады, – потребовал председатель.
Публике предложили покинуть зал – чтобы господин Керренсон обосновал свое требование о закрытом характере заседания.
Обвинитель Керренсон сослался на пример рейхстага: одиннадцатого мая там обсуждали вопрос о лишении Либкнехта депутатской неприкосновенности тоже в закрытом порядке.
– Этот самый жалкий изо всех парламентов вы позволили себе назвать «народным представительством»?! – возмутился Либкнехт. – Да он еще более жалок, чем русская Дума! Хорошо представительство!
– Подобные оскорбления я не желаю больше терпеть в суде, – заявил председатель майор Ретер.
– Но имею же я право высказываться! Мне приходится отвечать на тягчайшие политические обвинения, согласитесь!
– Что вам угодно сказать по существу предложения обвинителя? – бесстрастно спросил майор Ретер.
– Бегство от публичности можно было предвидеть. Правительство, на котором лежит вина за разбойничью войну, имеет все основания прятаться. Мне же скрывать нечего. Политика солидарности рабочих всех стран требует публичности. Я требую ее во имя международного социализма!
Суд удалился. На время публику снова впустили в вал. С величайшим нетерпением все ожидали, что порешат.
Затем председатель объявил: публичность во время судоговорения отменяется.
– С такой серьезной победой можно поздравить самого Бетман-Гольвега, – язвительно произнес Либкнехт. – Видно, она должна заменить ему победы в других областях.
Находившийся в публике Теодор Либкнехт обратился к суду с просьбой разрешить присутствие при разборе дела жене обвиняемого и личному и политическому его другу Розе Люксембург.
Майор Ретер спросил, кто еще ходатайствует о разрешении остаться. Ходатайство заявили почти все. Последовал короткий, вполголоса обмен мнениями. Майор Ретер объявил после этого, что остаться могут лишь то, кто должен присутствовать по обязанности своей службы.
– Я все же не понял, – переспросил Теодор Либкнехт. – Жене и мне, брату, остаться разрешено?
– Нет, – сказал Ретер, – решение распространяется на всех, чье присутствие не связано с их должностью.
Громко протестуя, люди двинулись к выходу.
– Посмейтесь как следует над этой комедией! – послал им вдогонку Либкнехт.
В зале осталось всего несколько человек, они пересели на передние скамьи. Председатель спросил, желает ли обвиняемый высказаться по существу того, что ему предъявлено.
– Я изложил все письменно и передаю заявление суду.
– Ну что же, тогда приступим к чтению брошюры солдата рабочего батальона Либкнехта «Идите на майский праздник», листовки, распространявшейся им, а также откликов иностранной печати на демонстрацию и на брошюру.
Слушая выдержки из иностранных отзывов, Либкнехт несколько раз протестовал:
– Все переврано: не французскую республику мы чествовали, а французскую революцию! Сплошная безграмотность!
Чтение продолжалось. Позже председатель спросил у него:
– Замечания у вас еще есть?
– В подробности я входить не стану, но все подобрано настолько тенденциозно, что спорить с вами лишено всякого смысла.
Поднялся обвинитель Керренсон.
– За выбор откликов иностранной прессы несу ответственность я.
– Тем хуже для вас! То, что я адресовал председателю, следует в равной мере отнести и к вам, – сказал Либкнехт.
Майор Ретер спросил, ходатайствует ли обвиняемый о допросе свидетелей.
– Отказываюсь, поскольку в вашей стряпне все ясно и так.
Но Керренсон потребовал прочитать свидетельства о том, как распространялись листовки на площади.
Так велось судебное заседание, от начала и до конца. Когда слово было предоставлено Керренсону, он повторил то, что было в обвинительном заключении, и, считая доказанной попытку военной измены, потребовал присудить Либкнехта к каторжной тюрьме на шесть лет.
Суд удалился. Двери зала были отворены вновь, я толпа, нетерпеливо ждавшая в кулуарах, устремилась сюда. Высокое, темноватое, мрачное помещение огласилось живыми и страстными голосами.
Не успел председатель огласить приговор – два года шесть месяцев каторжной тюрьмы, – как обвинитель потребовал удалить публику снова, на время чтения мотивов приговора.
– Прошу освободить зал, – произнес председатель.
– Даже на собственную цензуру не полагаетесь, господа?! – произнес Либкнехт. – Все равно не удается спрятаться!
Затем обвинитель объяснил, что им руководит забота о безопасности государства; только потому он и ходатайствует, чтобы мотивы приговора были зачитаны без посторонних.
На этот раз ходатайство удовлетворено не было.
Приговор был мотивирован тем, что за деяния такого рода предусматривается только каторжная тюрьма. А срок судом назначен минимальный, потому что действия обвиняемого отвечали его пагубным взглядам и потому были искренни.
Либкнехта увезли опять в следственную тюрьму. Оттуда он стал вновь писать бичующие заявления.
На процесс, происходивший двадцать восьмого июня, рабочие откликнулись бурно. Уже накануне в Берлине состоялась массовая стачка протеста. В день, когда слушалось дело, в столице бастовало не менее пятидесяти пяти тысяч рабочих. Крупные демонстрации произошли также в Штутгарте, Бремене, Брауншвейге и других городах. Как и в Берлине, они носили бурный характер; это была первая волна политических стачек во время войны.
Июньские выступления, связанные с судебной расправой над Либкнехтом, явились поворотным пунктом в борьбе германских рабочих.
А сам Либкнехт продолжал свою борьбу из тюрьмы. Приговор суда он обжаловал, назвав его безграмотным и нелепым. В свою очередь и обвинитель опротестовал приговор, сочтя его слишком мягким.
Двадцать третьего августа суд кассационной инстанции рассмотрел протесты сторон. Жалобу Либкнехта оставили без последствий, что же до обвинителя, то в его доводах многое было сочтено обоснованным.