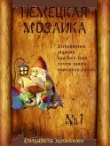Текст книги "Немецкая трагедия. Повесть о Карле Либкнехте"
Автор книги: Осип Черный
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Так еще в 1917 году из крепости Люкау донесся предостерегающий голос против расового помешательства, охватившего позже Германию.
Потомственный интеллигент Карл Либкнехт гордился своим прошлым. Он ненавидел пруссачество с его расовым чванством, но высоко ценил демократические традиции своей семьи. Сыну Бобу, собиравшемуся побывать во Франкфурте, он написал: «…из достопримечательностей, кроме дома Гете, не забудь посмотреть там еще собор св. Павла, где заседал в 1848 году первый немецкий парламент. Отец вашей бабушки (придворный адвокат Карл Ре, портрет которого находится у дяди Теделя в конторе) был там депутатом и даже президентом. Пусть покажут тебе его кресло».
Так, соблюдая границы внешней уравновешенности, Либкнехт писал родным об историках и философах, о романтизме, который может возродиться после войны, следил за умственным ростом детей, за здоровьем и настроением Сони и уверял ее, что будущее принадлежит тем, кто твердо верит в него. Мятежные его чувства прорывались редко.
И только в июньском письме, на двести девятнадцатый день своего заключения, он позволил им вновь прорваться:
«О, если бы можно было очутиться на воле и работать! Но, черт побери, успокойся, неугомонное сердце!»
IX
Даже шейдемановцы предостерегали канцлера от объявления подводной войны. Но нажим ставки, необузданные требования Вильгельма сделали Бетман-Гольвега игрушкой в руках придворных сил. Он принужден был уступить, и подводная война началась.
Победу у стран Антанты решено было вырвать любой ценой. В ответ союзники атаковали немцев со все большим упорством – у Арраса и Мааса, во Фландрии и у Камбре. Сопротивлялись немцы ожесточенно, но повернуть события в свою пользу уже не могли. Ни закон о «вспомогательной службе», ни удлиненный до предела рабочий день не спасали положения – страна испытывала нужду во всем. Сравнительно с довоенным годом ее производство упало на сорок процентов. Голодные демонстрации, беспорядки и стачки все больше угрожали механизму войны.
Когда к лидерам Форштанда являлась профсоюзная делегация с жалобами на положение, ей отвечали, что трудно всей стране.
– Да, но внушать это людям становится все сложнее, а скоро будет невозможно.
– Должны же они понять, что речь идет о спасении родины! Теперь, когда и Америка против нас, речь идет буквально о будущем немцев, о судьбе нескольких поколений…
– Силы рабочих исчерпаны…
– Нет, только надо поднять их дух.
Так Шейдеман и его коллеги выполняли свой долг перед рабочими, удерживая их в границах спокойствия, и перед правительством, сделав его интересы своими. Они играли роль приводных ремней, соединявших аппарат власти с людьми труда.
Но Шейдеман не был так простодушен: режим неминуемо приближался к краху, он понимал. Пора было думать, кто заменит теперешних заправил и что надо сделать, чтобы не выпасть самим из тележки.
В марте он опубликовал в «Форвертс» статью «Время действовать». Он потребовал реформ, в первую очередь замены трехступенчатых выборов в Пруссии прямым и всеобщим избирательным правом.
Статья вызвала переполох. Будто камень угодил в болото: отовсюду понеслись нападки, угрозы, а со стороны единомышленников – одобрения. Шейдеман оказался на время в центре событий и остался этим очень доволен.
Русские рабочие в газетах и листовках требовали мира без аннексий и контрибуций. Это влияло на всех немцев – от солдат до рабочих. Пришлось и шейдемановцам выдвинуть то же требование. Оно будто бы вытекало из всего, о чем они говорили прежде. В их мыслительном королевстве все концы с концами сходились.
Апрель семнадцатого года принес невиданную вспышку стачек. Рабочие требовали отменить голодные нормы снабжения. Руководители профсоюзов истолковали их: требования как чисто экономические. Но генерал Тренер, недавно назначенный шефом военного управления, получил приказ ставки подавить недовольство любой ценой.
В связи со стачками он заявил в рейхстаге, что Германия никогда еще не стояла на таком опасном пути. А в своем обращении к бастующим назвал их мерзавцами и пригрозил зачинщикам каторгой.
В ряде случаев забастовки перерастали в политические. В Лейпциге по русскому образцу был создан рабочий Совет. Рабочие потребовали не только улучшить снабжение, но и отменить осадное положение и легализовать стачки. Делегацию, которую они направили в Берлин, канцлер принять отказался.
Тогда Шейдеман заявил Бетману, что такая политика ничего хорошего не сулит и лишь ускорит катастрофу.
– Но в какое положение мы поставим себя, – возразил канцлер, – если начнем выслушивать разные ультиматумы?
Шейдеман заявил не без злорадства, что русский пример заразил немцев, страна и без того накануне революции.
– Разве Германия может пойти неразумным путем некультурной нации?! – патетически произнес канцлер.
Так социалисты, шедшие до сих пор в ногу с правительством, призвали его внять голосу благоразумия.
Выход из тупика они видели в сговорчивости имперского кабинета. Впрочем, Эберт назвал апрельские стачки бессмысленными и заклеймил тех зачинщиков, которые пытались использовать их в политических целях.
Путем жестоких репрессий удалось движение погасить. Но ни одного из вопросов, раздиравших страну, разрешить не сумели.
X
Движение, охватившее в апреле рабочих, выдвинуло на первый план совершенно новую силу. Профсоюзные функционеры выполняли волю высшего профсоюзного органа, Генеральной комиссии. Они не могли, да и не пытались повести за собой недовольных; наоборот, всеми возможными средствами старались погасить недовольство. Авторитет их с каждым днем падал.
Кто же оттеснил их в эти дни и возглавил движение? Кто лучше всех понимал нужды рабочего, знал тяжесть его лишений и меру его недовольства? Да сами же рабочие, наиболее сознательная их часть. Металлисты – станочники, токари, монтеры, электрики, шлифовальщики составляли ее опору. Они с первых дней поняли: уж если бастовать, так надо объединить всех недовольных, сплотить и повести за собой.
В цеху, возле станка, в шуме трансмиссий, во время коротких бесед стали выявлять себя эти низовые вожаки. Сам ход дела заставил их взвалить на свои плечи ответственность за события. Их называли старостами, потому что так привыкли называть всякого, кто руководил небольшой группой людей. А позже, когда движение выплеснулось на улицы, когда к требованиям экономическим стали все настойчивее добавлять пункты программы чисто политической, их стали называть революционными старостами.
Конечно, не все помышляли о революции, но многие понимали уже, что одними реформами и уступками, даже если бы удалось вырвать их у правительства, дело обойтись не может.
Вначале старост было немного, но одно предприятие за другим стало выделять их в каждом цеху и в каждом пролете. Так день за днем формировалась армия низовых организаторов.
Большинство старост тяготело к партии независимых. Уже одно то, что независимые порвали с правыми, делало их авторитетными в глазах низовых вожаков.
Но и спартаковцы, так самоотверженно работавшие в гуще рабочих, пользовались их доверием. Спартаковцы утверждали, что режим кайзера прошил насквозь и должен быть заменен иным, народным. Без революции этого не добиться.
Независимые же обещали перемены без вооруженной борьбы, и это было больше по сердцу немецким рабочим.
Среди революционных старост, выдвинувшихся в апрельские дни, спартаковцы хотя и занимали известное место, но составляли меньшинство. И не понимали они еще, какую огромную роль назначено сыграть старостам в близком будущем и как важно завоевывать день за днем большинство в их Совете. В то время верхушка «Спартака» была разгромлена, и даже Роза Люксембург полагала тогда, что ход событий определяет не закаленная в боях партия, а некая воля большинства населения – в тех условиях влияние «Спартака» на старост было ограничено.
Зато генерал Гренер понял, с кем ему надо иметь дело. Он относился к так называемым сильным личностям и воплощал тот мир, который проигрывал военную схватку, но не желал идти на уступки.
Со сцены истории могли сойти фигуры первого плана – Вильгельм, Людендорф, даже на некоторое время Гинденбург, но в механизме войны возникали другие контрреволюционные фигуры. Таким оказался генерал Гренер, оценивший в те дни, какой грозный противник выдвигается на передний план.
Уже в апреле подбирались дивизии, которые можно было бы двинуть на Берлин, разрабатывались схемы уличных боев.
Когда после апрельских стачек спартаковцы призвали рабочих достойно отметить Первое мая – ведь май был особенный: ему салютовали флаги русской революции, – Гренер пригласил к себе руководителя независимых.
– Господин Гаазе, я надеюсь, ваша партия сделает все, чтобы недавние события не повторились.
И Гаазе заверил его, что движения протеста в той форме, как это было в апреле, его партия не одобряет.
Оказалось, столковаться обоим нетрудно. Гаазе обещал приложить все усилия к тому, чтобы Первое мая прошло спокойно.
Уходя, он попросил лишь сохранить разговор в тайне. Гренер и он расстались, довольные друг другом.
Профсоюзы и Форштанд обратились с воззванием к рабочим: страна в кризисе, войска Антанты делают все, чтобы прорвать немецкую оборону. Уместны ли в эти дни демонстрации? Допустимо ли наносить удар в спину армии, срывая снабжение войск оружием и материалами?
Независимые, сославшись на те же причины, поддержали обращение.
И все же спартаковцам удалось провести во многих местах собрания и демонстрации.
Штутгартовец Фриц Рюкк, так горячо выступавший в Готе, дня за два до Первого мая собрал в лесу за городом около ста человек. Ему было что рассказать: и про конференции в Готе, и о спорах, какие там велись, и о позиции спартаковцев. Собралась главным образом молодежь – вернувшиеся с фронта, негодные больше к военной службе, как и сам Рюкк. Но пришли и пожилые, среди них Крейнц.
Большинство было сильно разочаровано тем, что «Спартак» не создал собственной партии: опять компромиссы, поиски соглашений, препирательство с умеренными и осторожными. Молодежь жаждала идти в открытую против ренегатов, свалить реформистов…
Эта весна наполнила их сердца надеждами. Вести, шедшие из России, они ловили где только было можно. В России развертывалось нечто огромное, партия большевиков призвала к свержению буржуазной власти, народ бурлил. Казалось, по тому же пути должна пойти и Германия. А тут – компромисс, оглядка на независимых…
– Мы знаем уже, что это за публика, – заявил Ханке, гордившийся тем, что общался на фронте с Либкнехтом. – Разве Карл пошел бы на такое?!
Вмешался Крейнц, до сих пор не сказавший ни слова.
– А в самом деле, какую позицию занял Карл? – обратился он к Рюкке. – Можешь ты нам сказать определенно?
– В том-то и беда, что его мнение до нас не дошло.
– Плохо, очень плохо… Это мнение должно было стать решающим.
– Но мы его не имели!
У него самого скребло на сердце: он, Рюкк, был против блока с независимыми, ничего хорошего для «Спартака» он от этого не ждал. Но дисциплина есть дисциплина, еще хорошо, что свободу самостоятельных действий «Спартак» оговорил для себя. Надо было Первого мая показать всем, что дух борьбы в Штутгарте не угас, что «Спартак» полон сил и готов кинуться в схватку но первому слову.
– У нас с вами все еще впереди, товарищи, – заявил он. – Мы этим независимым устроили порядочную баню в Готе. А кроме того, никто не посмеет наложить на нас свою лапу. Будущее покажет, по пути нам с ними или нет.
– Разве не видишь, что делается в Штутгарте? Какую политику они проводят? – с укором заметил Крейнц. – На баррикадах они сражаться не будут.
– Пока что речь о Первом мая, – остановил его Рюкк. – Мы пройдем сплоченной колонной и будем петь «Интернационал»! На наших улицах прозвучит имя Карла Либкнехта!
Упоминание о Либкнехте воодушевило собравшихся. Крейнц поднялся, он сидел на широком пне; тяжелый и непреклонный, он обратился к Рюкку и одновременно ко всем молодым:
– Десять лет назад у нас, в нашем городе, Карл собрал конгресс, международный конгресс молодежи. Мы должны показать всем, что в Штутгарте помнят Либкнехта и чтут его высоко.
– Ты прав, ты прав, – согласился с ним Рюкк. – И имя Либкнехта объединит всех, кто готов к схваткам.
– Пускай нас заберут в тюрьму, – продолжал Крейнц ожесточенно, – но имя Карла прозвучит, как гонг, как напоминание о каре, которая ждет сегодняшних господ!
Молодежь, плотным кольцом обступившая его и Рюкка, согласилась с ними.
Оно звучало всюду в стране – на улицах, площадях, в лесу, – где спартаковцам удалось провести демонстрацию. Шагая колоннами, рабочие скандировали: «Братский привет пролетариям России! Свободу Карлу Либкнехту и Розе Люксембург!» – и пели «Интернационал».
Стоило появиться полиции, как начинались стычки. Демонстранты принимались громить полицейские участки, а полицейские, выхватив из толпы самых активных, волокли их к машинам.
В донесениях полиции отмечалось позже, что первомайские демонстрации удалось пресечь в стране с величайшим трудом.
XI
В середине лета Бетман-Гольвег ушел в отставку. Все его усилия примирить консервативные партии с шейдемановцами, ставку с правительством ни к чему не привели. Ни разъяснений, ни заявлений о перемене курса в связи с уходом не было. Он канул в ничто, ничего не разрешив и никого, кроме разве ставки, своим уходом не успокоив.
На его место был назначен Вильгельмом невыразительный и бесцветный Михаэлис. Бетман-Гольвег управлял страной восемь лет, канцлер Михаэлис находился у власти всего три месяца с небольшим. Германия запутывалась все больше в неразрешимых внутренних трудностях, выхода из которых не предвиделось.
Осенью в России произошло событие всемирной важности: была провозглашена Советская власть. Желая положить конец бессмысленному кровопролитию, новая власть обратилась ко всем народам с Декретом о мире. Возможность примирения, хотя бы на востоке, показалась обескровленной и голодной Германии спасительной, немцы воспрянули духом.
Но в ставке призыв русских истолковали по-другому. То, чего не удалось достигнуть ценой миллионов жертв, шло, казалось, в руки само. По мнению Гинденбурга и Людендорфа, армия революционной страны серьезной угрозы больше не представляла и с новой Россией можно было разговаривать языком диктата.
…Карл Либкнехт, уже через несколько дней после того, как в Петрограде была провозглашена Советская власть, написал:
«Великий революционный процесс… не только не завершается, но находится в своем начале, имея перед собой безграничные перспективы… То, что я узнаю об этих событиях, до того отрывочно и поверхностно, что я должен довольствоваться догадками. Ни в чем не ощущаю я так сильно моей нынешней духовной изоляции, как в вопросе о России».
Когда появлялся в камере Шульц, Либкнехт старался выудить у него все, что тот знает. Сколько Шульц ни говорил, что политикой не интересуется, он кое в чем поддался воздействию Либкнехта.
Это он вскоре после петроградских событий положил на сапожный стол обрывок буржуазной газеты, где сообщалось о новом перевороте в России.
– Смотри, почитай… Наверно, тебя касается тоже. Либкнехт жадно проглотил все.
– Касается всех, – отозвался он, – всего мира.
– Чтобы Германия пошла по такому пути… Что-то не верится.
– Путь один у всех, – произнес Либкнехт с внешним спокойствием. – Путь борьбы неимущих, бедных против богатых.
– Бедный останется бедняком всегда, и никакие ваши фокусы тут не помогут… Разве что ловкий – тот выберется.
И все же ветер бурных событий проник даже сквозь стены тюрьмы. Администрация стала строже, но в чем-то и внимательнее. Либкнехту разрешили, например, одно-два дополнительных свидания – с Соней, с Гельми. Мотивы были тут морально-воспитательные: сын в том возрасте, когда нравственное воздействие отца особенно важно. Но передачи стали осматривать еще более придирчиво. Теперь уже Либкнехт почти не обнаруживал вложений в посылках.
Однако некоторые вести дошли до него, и он сумел оценить их важность. Прежде всего, «революционные старосты». Услышал он о них впервые от того же Шульца.
– Что это такое, можешь ты мне объяснить? – спросил тот однажды.
– Для начала мне надо побольше узнать о них самому.
В следующий раз Шульц принес ему кое-какой материал, главным образом из буржуазных газет, где старост ругали на все лады.
– Теперь могу тебе объяснить, – сказал Либкнехт. – Организаторы будущей революции, вот они кто!
Шульц осклабился и, сняв шапочку, почесал голову:
– Революция, гм… Что-то в Германии про нее не было слышно… А знаешь, кого называют будущим ее вождем? Фантазеры, которые в нее верят.
– Кого?
– Некоего Карла Либкнехта. А? Не слышал?
– Не слышал, нет.
– Он, между прочим, работает под моим началом.
– В таком случае, Шульц, тебе с ним повезло. – Их отношения стали проще, он тоже говорил ему теперь «ты». – Слушай, Шульц, все, что касается этих старост, доставляй мне, а?
– Ишь ты какой! Один раз тебя побалуешь, а потом лишишься всего сам! – Он надел шапочку и, ничего больше не сказав, только укоризненно покачав головой, вышел из камеры.
Либкнехта этот разговор сильно взволновал. Чутье сказало ему, что в событиях, которые развернутся, роль старост будет весьма велика. «Спартак» должен завоевать в их среде достойное место. Но как было передать это товарищам?! Как было в записочке, изобилующей иносказаниями, подчеркнуть то, что кажется ему особенно важным?
Он стал мысленно составлять эзоповскую записку, конспект насущнейших выводов. Фразы следовало сжать до предела, так, чтобы короче было нельзя. И еще предстояло упросить Шульца, чтобы он переслал письмо.
XII
Когда Россия выдвинула программу мира без аннексий и контрибуций, Германия поначалу ее приняла. Но стоило начать переговоры, как немецкие делегаты сбросили с себя маску миролюбия. Пусть даже статс-секретарь иностранных дел Кюльман, уполномоченный правительства, держался более умеренно; но генерал Гофман, представитель ставки, начал выдвигать требования одно тяжелее другого.
Два раза переговоры прерывались. Когда делегации съехались во второй раз, немцы, отстаивая будто бы независимость малых стран, потребовали от России отделения Белоруссии, Литвы, Латвии и Польши. В то же время генерал Гофман потихоньку готовился заключить мир на особых началах с представителями Украинской рады.
Глава советской делегации на переговорах Троцкий, нарушив твердые инструкции Ленина, заявил, что Россия односторонне прекращает войну и демобилизует армию. Он покинул Брест-Литовск, предательски сорвав тем самым переговоры и дав Германии желанный предлог: она могла прекратить перемирие и развернуть наступление. Казалось, надежды немцев на скорый мир рухнули.
Германия бурлила. Берлин жил слухами и ждал событий. Стало известно, что в Австро-Венгрии забастовки охватили все крупные города: созданы Советы, а правительство так перепугано, что официально признало их существование.
Спартаковцы распространяли всюду листовки. Позиция их была недвусмысленно ясной: «Да здравствует всеобщая забастовка! Все на борьбу!» Только массовой борьбой, восстанием, стачками, которые парализуют хозяйственную жизнь страны, только путем революции к провозглашением народной республики в Германии можно положить предел бойне народов и добиться всеобщего мира. Лишь этим можно спасти не только Германию, не и русскую революцию.
Сладкий туман захватничества еще не окончательно рассеялся в головах немцев, и спартаковцы не уставала разъяснять, что Германии меньше всего нужны аннексии: не война, а борьба со злейшим классовым врагом внутри страны – вот что самое насущное.
В трамвае с затянутыми льдом стеклами, в почтовом ящике, под шпинделем станка, в уборной или курилке, на красной кирпичной стене или на столбах – всюду немцы могли обнаружить листовку.
Страна жила в крайнем напряжении, ожидая взрыва. А Либкнехт, не зная в точности, но всем своим существом сознавая, что творится за пределами Люкау, писая в декабре:
«О, если бы находиться теперь на воле! Я готов биться головой о стены!»
XIII
На заседании главного комитета рейхстага депутат Науман задал вопрос статс-секретарю внутренних дел Вальраффу:
– Известно ли вам, что в стране готовится стачка? Понимает ли правительство, к каким последствиям это приведет?
– Да, правительство в курсе событий, – ответил Вальрафф. – Крайние элементы провоцируют выступления, но рабочие в своем большинстве доказали верность отечеству. Правительство полагается на их разум и зрелость. В этот трудный момент ни у кого не подымется рука на отечество.
С места встал Шейдеман:
– Увы, оптимизм господина Вальраффа я никак не могу разделить. – В его обычно мягком голосе появились настораживающе жесткие ноты. – Мы, социал-демократы, предостерегали не раз, что народ на грани истощения и нищеты. Мы предлагали меры, чтобы успокоить трудящихся, по даже вопрос о реформе избирательной системы лежит до сих пор под сукном!
– И такими мотивами вы готовы оправдать насилия необузданных масс?! – выкрикнул с места представитель правых.
– Мы с вами политики, – возразил Шейдеман зловеще спокойно, – и за эмоции масс можем отвечать лишь до определенной минуты. Нельзя накалять эмоции, а потом требовать от народа спокойствия.
Его сменил Эберт. Пошевелив головой, будто освобождаясь от стеснительной опеки воротничка, он заговорил:
– К словам моего уважаемого коллеги я добавил бы следующее: нам хорошо известны взгляды австро-венгерских властей; уж если там согласились признать Советы, значит, дело дошло до крайности. В историческом процессе, господа, причины и следствия связаны между собой…
– Исторический процесс! Связанность!.. Пустые слова! – с раздражением выкрикнул депутат правых. – Надо выражаться точно: вы, господа, хотите сорвать мирные переговоры?! Всадить нож в спину Германии?! Страна накануне победы, которая далась ей неслыханно дорогой ценой, и в это время социал-демократы хотят обесценить все жертвы?! Лишить ее законных трофеев?!
– За аппетиты военной клики наша партия не отвечает, – возразил Шейдеман. – Не предъяви генерал Гофман своих невозможных условий, мир был бы подписан.
– Не клики, а всей страны, ее подавляющей части!
Итак, в этом собрании социал-демократы играли роль левых: пришло время подумать о будущем и оторваться от правителей, готовых потопить корабль Германии.
Остановить волнение, охватившее тысячи берлинских рабочих, было уже невозможно. Революционные старосты не шли, правда, так далеко, как спартаковцы: всеобщая стачка – вот был их предел.
Независимые, под влиянием которых старосты находились, то соглашались на забастовку, то утверждали, что момент для нее еще не настал. В этом состояла их тактика, которую они не без иронии называли «революционной гимнастикой».
Но старосты твердо решили бастовать, и не в силах независимых, а тем более шейдемановцев было задержать движение. Ведь в одном только Берлине старост было к тому времени пять тысяч.
События назревали неудержимо, и предотвратить взрыв не в состоянии был никто.
Трудовой Берлин вынес уже свое решение.
XIV
Улицы плыли в густом тумане. Стояла январская сырая стужа. Очертания фасадов, стен, вышек казались смутными, едва различимыми.
С утра в рабочих районах столицы еще слышны были шум станков, мерное дребезжание стекол. Заводы, терявшиеся в молочной мгле, жили обычной напряженной жизнью. Но к девяти часам шум стал замирать – в одном месте, в другом, третьем. Непривычная, немного зловещая тишина сползла на улицы.
Раскрылись калитки, проходы, заводские ворота, и стали выходить рабочие – сначала небольшими группами, останавливаясь и оглядываясь по сторонам, но мало что различая в утренней мгле. Затем их стало больше. Их стало очень много: в ворота повалили толпы. Шли плотными группами, спокойно и деловито. Накануне старосты предупреждали: самочинных демонстраций не устраивать, ждать указаний. Если указаний рано утром не будет, разойтись по домам и держать связь с предприятием.
Все было подготовлено в глубокой тайне. Даже Генеральная комиссия, оплот профсоюзных соглашателей, за два дня до событий не знала, что организуется за ее спи-пой. Накануне, двадцать седьмого января, в воскресенье, – шел тысяча девятьсот восемнадцатый год – было назначено в Доме профсоюзов собрание берлинских токарей. Пришли на самом деле не одни только токари, а делегаты со всех предприятий. Собралось полторы тысячи человек.
Уполномоченный старост, металлист Рихард Мюллер, сообщил, что сейчас поставит на голосование один лишь вопрос – о всеобщей стачке, которая назначена на завтра и Должна послужить грозным предостережением властям и военной клике.
Ни обсуждения, ни споров не было. Тысяча пятьсот рук поднялись при общем торжественном и напряженном молчании и подтвердили единодушие присутствующих. С таким же единодушием был утвержден стачечный комитет, названный Исполнительным комитетом. В него вошло одиннадцать человек во главе с Мюллером. К ним присоединили трех представителей от независимых. С большим трудом, после долгих споров согласились ввести также троих от социал-демократов большинства. Но тон в комитете задавали старосты.
Немедленный мир без аннексий и контрибуций; участие в мирных переговорах представителей всех стран; восстановление свободы слова, собраний, печати, союзов; освобождение политических заключенных; всеобщее прямое и равное избирательное право в Пруссии – такие требования предъявили бастующие властям.
В понедельник с утра комитет заседал в Доме профсоюзов. Дом был весь заполнен народом, по коридорам сновали люди, снаружи собралась толпа. Ждали указаний, решений. А в комнате заседания шли горячие споры. Фридрих Эберт призывал старост к благоразумию и умеренности. Ледебур и Дитман, представлявшие левое крыло независимых, готовы были к самым энергичным действиям. Гаазе осторожно лавировал между умеренными и крайними. Но, видя, какого накала достигли страсти, склонялся к тому, что борьба с правительством должна вестись непримиримая. Шейдеман лавировал тоже, стараясь склонить старост к переговорам с имперским кабинетом. Старосты же, сознавая себя хозяевами положения, требовали от всех твердости и единодушия.
И тут в коридоре послышались панические возгласы:
– Полиция! Спасайтесь, идет полиция!
Шейдеман побледнел и как-то беспомощно опустил руки; посмотрел по сторонам, ожидая поддержки, и встретился взглядом с Эбертом. Тот неприязненно отвернулся. Тощий и непредставительный Рихард Мюллер сохранил самообладание. В этих условиях он повел себя гораздо более достойно, чем почтенные социал-демократы, присяжные политики.
– Подождите, товарищи, сейчас выясню, в чем дело, – сказал он.
Когда Мюллер вернулся, Шейдеман стоял в пальто и шляпе, готовый скрыться без промедления. Неуклюжий и толстый Эберт никак не мог попасть в рукава пальто. С брюзгливым лицом он совал то одну руку, то другую, но пальто, как на грех, не надевалось.
Продолжая свои усилия, стоя спиной к Мюллеру, он спросил:
– Ну, что там такое?!
– Ложная тревога… Мюллер успел засечь эту не очень изящную сценку и, усмехнувшись, занял свое место.
Заседание возобновилось.
Забастовка, которая началась в понедельник утром, ширилась неудержимо. К Берлину примкнули многие города. К концу первого дня число бастующих достигло трехсот тысяч, спустя два дня в одном Берлине бастовало свыше полумиллиона, а по всей стране не меньше миллиона рабочих.
Это было торжеством самоотверженной работы спартаковцев, и хотя не они непосредственно возглавляли движение, а старосты, но размах, масштабы, объем, непримиримость требований – все отвечало тому, чего настойчиво добивался «Спартак».
Шейдемановцы и независимые стали с первых дней забастовки склонять Исполнительный комитет к переговорам с правительством. Спартаковцы же в своих листовках доказывали, что вести переговоры бессмысленно и бесполезно. Власти, которые с первого дня пытались подавить забастовку насилием, уступят лишь под действием насилия же. Хозяином Берлина должен стать Совет рабочих депутатов.
Они были последовательны и настойчивы. Их настойчивость способна была усилить накал недовольства, сплотить отдельные группы рабочих, но разлагающая работа шейдемановцев делала свое дело.
Много позже Филипп Шейдеман признал: «Нам важно было удержать движение в организованных рамках и как можно скорее прекратить его». Для того и вошел он в стачечный комитет, чтобы взорвать его изнутри.
Правительство издало приказ, запрещавший любые собрания. Шейдеман обратился к министру внутренних дел Вальраффу, пытаясь доказать ему, что движение надо ввести в легальное русло как можно скорее.
– Что для этого нужно сделать, господин Шейдеман? Изложите свой план.
– Первое – вновь разрешить собрания. Надо дать возможность рабочим открыто высказывать свои пожелания, иначе забастовка приобретет, хотите вы или нет, характер мятежа.
– Но не можем же мы собственной властью снять осадное положение!
– Примите делегацию бастующих, постарайтесь найти компромисс, который удовлетворил бы их.
Вальрафф помедлил.
– В рейхстаге сильная, признанная всеми фракция рабочих. С вашей фракцией я готов разговаривать, но принять бастующих?.. Согласитесь, это было бы легализацией забастовки.
Шейдеман, в свою очередь, ответил не сразу. Разве мог объяснить он статс-секретарю, что социал-демократы теряют влияние в массах?! Рабочие должны снова поверить, что шейдемановцы защищают их интересы.
– Итак, господин Вальрафф, путь к соглашению вы отрезаете сами?! – произнес Шейдеман не без пафоса.
– Повторяю, с вами – любые переговоры. Но вступать в контакт с вожаками бастующих я попросту не имею права!
А стачка все разрасталась. Дом профсоюзов был занят полицией, собрания были запрещены, а демонстрации происходили повсюду. Их разгоняли, но рабочие собирались опять. Опрокидывали трамвайные вагоны, разбирали пути, возводили баррикады. Рабочие требовали немедленного мира с Россией, освобождения заключенных, и, конечно, в первую очередь Карла Либкнехта.
Генерал Кессель, представитель ставки, приказал применять оружие против бастующих, угрожал призвать в армию тех, кто не приступит к работе. В Берлин стягивали войска – маршевые роты, направлявшиеся прежде на фронт. Пять тысяч унтер-офицеров были уже введены в столицу. Возле крупных заводов выставили военную охрану. Но сбить волну рабочего возмущения не удавалось. Полиция пускала в ход шашки, избивала рабочих прикладами, но сорвать митинги, стихийно возникавшие то здесь, то там, была не в силах.
Тех, кто пытался доказывать, что забастовка наносит фронту тяжелый урон, прогоняли с трибуны.
Когда Эберт в Трептовпарке, где собралась огромная демонстрация, попробовал было заговорить об этом, ему из толпы закричали: