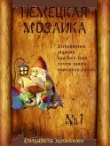Текст книги "Немецкая трагедия. Повесть о Карле Либкнехте"
Автор книги: Осип Черный
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
– Это мы-то в хвосте?! – иронически переспросил Шейдеман. – Далеко же вы смотрите! Хороши стратеги, нечего сказать!
Сколько обе группы ни препирались, громкие слова о защите родины заслоняли вопрос о подлинном положении рабочих. Одна лишь Кете Дункер заговорила, что рабочие недоедают в тылу и гибнут на фронте, они сражаются не за кровное свое дело, а за интересы германского капитала.
– Вы, лидеры большинства, начиная с первого дня войны ведете себя недостойно: всякий раз голосуете за то, что нужно не рабочему классу, а капиталистам. Вы тут толковали много о единстве действий, но оно же возможно только тогда, когда есть единство во взглядах. У «Спартака» оценка событий отлична от вашей в корне. Мы за братство народов, а вы на позиции социал-шовинизма. Мы против этой грабительской войны, а вы ее защищаете. Туман первых недель рассеялся, миллионы видят ее чудовищные последствия. Поэтому мы, как и вся сознательная часть рабочего класса, требуем прекратить политику соглашательства!
Казалось, при таком расхождении во взглядах нельзя было спартаковцам оставаться в одной партии с шейдемановцами. Но Дункер не сделала этого вывода. Да и в самом «Спартаке», обескровленном арестами руководителей, пока нелегко было решить вопрос о разрыве с правыми и о создании собственной партии.
Итоги конференции были ясны заранее, ведь ее целью было осудить несогласных, изолировать их. Из трехсот девятнадцати делегатов двести пятьдесят поддержали Шейдемана и Эберта.
Несогласные покинули зал, не дожидаясь голосования. Тут делать им было больше нечего. Поддержку своим взглядам им надо было искать на заводах, в цехах, на улице, но не здесь.
IV
Командующий войсками Восточного фронта генерал Гинденбург находился в Бресте, когда из ставки в Плессе пришло срочное предписание: ему вместе с помощником незамедлительно прибыть туда. Вызывал Вильгельм II.
Телефонный разговор произошел в час дня, а уже в четыре оба, он и генерал Людендорф, сидели в специальном поезде, который мчал их на запад, в верхнесилезский городок Плесе.
Вильгельм принял генералов в своем замке. Он был чрезвычайно любезен с ними и за завтраком сообщил, как о чем-то решенном, что Гинденбург назначается начальником генерального штаба, а Людендорф – генерал-квартирмейстером, то есть ближайшим его помощником.
– Но это слишком тяжелая миссия, ваше величество! II потом генерал Фалькенгайн столь авторитетен на своем посту…
– Нет, нет, я не жду от вас возражений. Новая обстановка требует новых людей. Я принял решение передать всю ответственность за военные действия вам и убежден в полном соответствии вашей личности новому делу.
Возражать дальше было бы неуместно. Гинденбург был старый испытанный монархист и вырос в традициях безусловного подчинения Императорской власти. Эрих фон Людендорф тоже.
Завтрак прошел в обстановке сердечности, которую выказывал Вильгельм приглашенным к столу генералам. Императрица была тоже подчеркнуто ласкова, показывая, что избранники мужа милы и ей.
В тихом и чистеньком городке ритму штабной работы подчинялось все. Высшие офицеры работали напряженно по многу часов. Голубоглазый, высокий, с отличной выправкой, генерал Людендорф, на редкость трудоспособный сам, с первых же дней сумел подчинить все и всех распорядку, установленному им. Гинденбург и он отлично сработались еще на Восточном фронте и понимали друг друга с первого слова. От армии оба требовали не только безоговорочной дисциплины, но и того, что называлось «радостной готовностью» пожертвовать собой во имя победы. От страны же требовалось прежде всего единство.
Разговоры о жертвах, которые немцы приносят, замирали на пороге штабных помещений. Считалось понятным само собой, что во время войны неизбежны любые жертвы.
Взгляды руководителей ставки не отличались в этом вопросе от взглядов кайзера. Фронт вправе был ждать от тыла всего, в чем нуждался. Между тем в стране то не хватало угля для военных заводов, то из-за плохого снабжения рабочие угрожали забастовками, то вдруг обнаруживалась большая нехватка рабочих рук. В ответе за это было правительство, и только оно.
Каждое утро Людендорф докладывал шефу о событиях на фронтах и нет-нет да задевал при этом дела гражданские.
– Когда чуть не каждый день сталкиваешься с недостатком амуниции, ружей, снарядов, поневоле спрашиваешь себя: может ли ставка выполнить свой долг перед троном, если тыл не на высоте?
После нескольких таких тревожных донесений Гинденбург спросил:
– А у вас какие-либо предложения на этот счет есть?
– Да, ваше высокопревосходительство, – помедлив, сказал Людендорф. – Я много думал и вижу выход лишь во всеобщей мобилизации мужского населения.
– Мы призвали уже почти все возрасты, – заметил с сомнением Гинденбург.
– Я имею в виду всеобщую трудовую повинность.
– А рейхстаг? Придется ведь проводить через него?
– Иного пути, ваше высокопревосходительство, у нас нет.
– Если бы вы знали, как надоела мне эта говорильня! – сознался Гинденбург. – Пока они помогали фронту единодушно, их еще можно было терпеть. Но теперь, на третьем году войны, работа там ведется со скрипом, с ненужной затратой времени. Любые дискуссии только вредят… Так вы все же думаете, что проект всеобщей мобилизации удастся провести?
– Либо рейхстаг и правительство пойдут нам навстречу, либо же, полагаю я, нам придется вступить с ними в конфликт.
– Да, это так… – Гинденбург посмотрел и окно: цветы были давно срезаны, кроме астр, которые еще не увяли; опрятные клумбы радовали глаз своей симметричностью. – Хорошо, генерал, подготовьте свои предложения.
Проект «вспомогательной службы отечеству», предложенный Людендорфом, стал называться позже программой Гинденбурга. Он обязывал немцев от семнадцати до шестидесяти лет отбывать трудовую повинность там, где это будет признано нужным. Уходить с предприятия или отказываться от работы запрещалось. Под видом повинности он узаконивал рабство для немецких рабочих.
После изнурительного согласования в комиссиях рейхстага на исходе года, второго декабря, закон был утвержден. Социал-демократы не решились голосовать против него.
Но закон этот развязал Гинденбургу руки совсем ненадолго и внутренних трудностей не разрешил.
Что немцы сильно недоедают, отрицать было невозможно. Блокада, которую проводили французский и английский флот, делала положение в стране все более сложным. Нужны были новые и едва ли не крайние меры.
Первого февраля 1917 года Германия в ответ на блокаду французов и англичан объявила неограниченную морскую войну. Ее подводные лодки получили приказ топить любые суда противника без разбора.
Этот акт узаконенного пиратства не только вызвал взрыв негодования повсюду – он послужил последним толчком для вступления Соединенных Штатов Америки в войну на стороне Антанты. Причины лежали, конечно, глубже: речь шла о том, кто после победы захватит в мире ведущее место. Уступать его Англии Америка не собиралась.
Но теперь уже немцы все, без различия взглядов, обязаны были признать, что страна их сражается одна против целого мира, ведь союзники ее мало чего стоили. Перед непреложностью этого положения должны были затихнуть внутренние разногласия, споры и распри.
Так полагали кайзер и ставка. Так полагали все националисты, представители правых партий и любых буржуазных течений.
Но вовсе не так думали рядовые рабочие и в особенности руководители революционного их крыла, спартаковцы.
Да тут еще одно из ряда вон выходящее событие преподнесла история. Оно ворвалось в ход европейских событий, смешав все карты: в России произошла революция. Хотя поначалу она не сулила особенных перемен в расстановке сил, последствия ее были неизмеримы.
Немецкие генералы уверяли, что Россия царя рухнула под ударами их войск. Шейдемановцы напоминали свои призывы в начале войны защищать Европу от казаков и ингушей. Значит, раз царский режим уступил место новым, народным силам, политика самообороны оправдала себя.
Но Февральская революция принесла с собой и на фронт небывалые веяния: в разных пунктах Восточного фронта началось братание. Из русских окопов поднимали красные флаги, плакаты или просто кричали: «Пора кончить войну! Давайте мириться! К чему убивать друг друга?!»
Немцы слушали, изумленные. Эти простые, понятные всем слова произносил на той стороне фронта одетый в серую шинель трудовой человек, земледелец или рабочий. Но эти русские все же оставались врагами.
Кто в ответ на призывы молчал, кто усмехался, а кто начинал поговаривать: «А что, в самом деле, ведь правда пора кончать! Сколько же можно тянуть волынку!»
Первые признаки намечавшегося брожения офицеры старались пресечь всеми средствами. Они угрожали наказаниями вплоть до расстрела. Они понимали, чем это может кончиться для империи кайзера. Группы русских солдат, поднимавших над головой красное полотнище, они обстреливали из пулеметов.
Но дух брожения стлался, подобно туману, полз и полз, передвигаясь с восточной стороны на западную. Так прежде, совсем еще недавно, ползли отравляющие газы в ту сторону, куда дует ветер. Как ни противились немецкие офицеры, остановить это медленное движение было невозможно. Находились среди немцев сознательные пролетарии, те, кого за разлагающую работу в тылу погнали на фронт. Находились такие, кто читал листовки, распространяемые «Спартаком», кто знал о деятельности Либкнехта и Люксембург.
И вот показываются на той стороне солдаты. Они перелезают через бруствер. Нет, это не атака, артиллерия не бьет по окопам немцев. Солдаты кричат: «Не стреляйте, и мы не будем стрелять! Мы идем к вам со словами мира и братства». И слово «товарищи» слышно на ничейной полосе. И как ни свирепствует лейтенант в немецком окопе, никто не стреляет. С затаенным интересом ждут, во что это выльется. Наконец, видя свое бессилие, офицер не препятствует больше, и несколько солдат выбираются из окопа, готовые выслушать русских: может, они предлагают перемирие на данном участке фронта? Пускай изложат свои условия.
Иной раз, сметая запреты, из немецких окопов тоже выбегали солдаты навстречу, и вместо стрельбы начинался торопливый разговор. Если среди русских находился кто-то, владевший немецким, разговор приобретал страстный характер. А офицер, высунувшись из окон смотрел в бинокль, презрительно усмехаясь; затем начинал кричать: «Zuruck! Zuruck! Ich schiesse!»[4]4
Назад! Назад! Стрелять буду! (нем.)
[Закрыть] И русские и германские солдаты нехотя расходились.
Начальство понимало, что веяния с востока полн-для немцев опасных последствий. Оно рассылало приказы требуя пресечь попытки братания.
В ставке Гинденбурга порешили заткнуть без промедления все щели, через которые идеи русских могли бы просочиться к немцам. Следовало использовать те возможности, которые сулила немцам русская революция, но не допускать ничего тлетворного и зловредного.
Так в Германии считали многие, если не большинство. Одни лишь спартаковцы поняли, что в цепи империализма выпало важное звено. Работа, которую они вели в труднейших условиях, должна была получить теперь еще больший размах. Любым способом, легальным или нелегальным, устным или письменным, следовало довести до рабочих, солдат, всех, кто жаждал правды, что в ходе войны началась новая полоса.
Уже в апреле в письме «Спартака» под названием «Революция в России» утверждалось, что движущей ее силой является рабочий класс. Газета дуисбургских левых «Кампф» приблизительно в это же время заявила, что, судя по всему, в России на смену Временному правительству буржуазии может прийти власть пролетариев.
А когда в апреле 1917 года Владимир Ильич Ленин проехал из эмиграции на родину через Германию и началась свистопляска газет, в том числе социал-демократических, немецкие левые заявили в стокгольмской печати самый решительный протест по поводу травли, которая ведется против вождя большевиков.
Сколько ни громила полиция нелегальные группы «Спартака», они упорно продолжали распространять правду о том, что происходит в России, и давали событиям правильное истолкование.
VI
В своей одиночной камере Карл Либкнехт воспринял русскую революцию как событие величайшей важности. Он, как и Роза, вправе был считать, что событие это воздействует на него подобно эликсиру жизни.
В большое будущее России он верил всегда. Февральский переворот открывал путь для огромных социальных преобразований. В свете этого следовало вновь и вновь продумать тактику «Спартака».
То, что в социал-демократической фракции произошел раскол, обещало скорее всего возникновение еще одной партии. Партия Гаазе – что она могла дать? Новые маневры? Новые компромиссы? Что предпочтительнее – влиться в нее, оговорив свою независимость, или создать еще одну партию, третью? Но «Спартак» – и это приходилось признать – не достиг еще той силы и зрелости, при которых можно смело идти на раскол.
Либкнехту не хватало сведений, фактов, которые стекались бы отовсюду. К нему проникло очень немногое. Чудом попало письмо штутгартца Фрица Рюкка, воодушевившее Либкнехта на короткое время. Рюкк был чудесный парень, из тех, кого испытания войны сделали зрелым и закалили. Он получил на фронте ранение, прошел огонь, воды и медные трубы и, вернувшись в Штутгарт после госпиталя, развернул большую работу. Но одного его письма было мало, чтобы долго поддерживать Либкнехта в его метаниях в тюрьме. Много бы он дал за то, чтобы свидеться, пусть ненадолго, с Розой, Мерингом, Пиком, Иогихесом! Господа эти, канцлер, шейдемановцы, судьи, знали, что делают, когда упрятывали его сюда. Но они не догадывались, какие силы пробудят, заварив мировую кашу. И вот силы протеста, негодования, жажда отплаты за содеянное – все выходит одно за другим на свет и грозит вдохновителям мировой свалки.
…Вот уже второй час Либкнехт шагал по камере. Коридорный заглядывал несколько раз в глазок, и Либкнехт поневоле умерял шаги. Хоть бы этот дьявол Шульц появился!
Надзиратель знал, когда Либкнехт шагает, выполняя свои обычные упражнения, и когда начинает в тревоге метаться по камере.
Приоткрыв дверь, он сурово сказал:
– Тише вы, арестант… Сколько уж раз говорили вам, что так ходить в тюрьме не положено!
– А я вам много раз говорил, что в этом помещении вправе распоряжаться собою сам!
– В карцер, что ли, захотелось? Ага, не хочется? Так извольте соблюдать правила распорядка! – И запер дверь, не желая выслушивать ответ заключенного.
Либкнехт, собственно, и не собирался вступать с ним в спор. Дух строптивости, владевший им, когда он сталкивался с сильными мира сего, вовсе не владел им здесь, в тюрьме. Глупо было бы тратить силы на борьбу с маленькими служителями режима.
Кроме того, он был в их власти: они могли запретить переписку, лишить его свиданий.
Но мысль о России внесла смятение в душу и перевернула в нем все. Вскоре, забыв о смотрителе, он опять стал ходить по камере, несколько умеряя свои шаги. Странные чувства наполняли его: в душе вдруг зазвучала музыка, и страстная, и напряженная. Он не сразу понял, что именно слышит. Это была бетховенская соната, последняя, опус сто одиннадцать. Всю ее страсть и бурю он словно пропускал сквозь свое сердце, вслушиваясь в ее пламенное течение и участвуя в нем всем своим существом. Не было ни прямой параллели с тем, что он думал, ни прямой связи. Но, слушая звучавшую в нем музыку, он ни на мгновение не порывал с тем бурным чувством, которое вызвала мысль о событиях в России. Казалось, что-то в самом деле прекрасное налетело с востока, перед чем никто не устоит: что-то такое же мощное, как эта музыка.
Наверно, его счастье в том, что, находясь в заточении, оторванный от всего, он несет в себе полный и насыщенный чувством мир…
Но где же этот дьявол Шульц?! И что он скажет, если увидит завтра, что урок не выполнен?
Шульц явился на следующий день, когда Либкнехт, нагнувшись над колодкой, в фартуке, занимался обычным сапожным делом.
Между ними установилось в последнее время подобие доверия. Интеллигент, возившийся с набойками и каблуками, головками и подметками, рассматривавший их сквозь пенсне, работал старательно и добросовестно и сумел завоевать расположение пожилого сапожного мастера, которого судьба упрятала сюда надолго. Какого лешего понадобилось Либкнехту выступать против властей, Шульц не знал, да и не желал знать. Но в одном из закоулков его мозга сложилось убеждение, что Либкнехт страдает не за свою вину.
Либкнехт как-то раз обратился к нему:
– Тут письмецо надо бы мне переправить… Пока они заберут его, пройдет месяц.
Шульц наморщил лицо, выражая крайнее неудовольствие. На его лысине выступили капельки пота.
– К жене, что ли? – выдавил он из себя.
– Ну, к ней, само собой… Разрешают переписку в аптечных дозах: жди целый месяц…
Шульц рассматривал рыжий измятый ботинок, лежавший на цементном полу, потом оттолкнул его ногой с величайшей небрежностью, но ничего не ответил, как будто просьбы и не было. И только собравшись уходить, пробурчал:
– Давай твою писанину… Но если попадусь, плохо придется и мне, и тебе.
С того дня с его помощью наладилась кое-какая связь. Помимо писем, посылаемых обычным путем, некоторые Либкнехт переправлял через него.
Необходимо было уяснить себе положение в организации. Категорически высказывать свою точку зрения на то, каким должно быть спартаковское движение теперь, он не решался: слишком мало знал о внешней жизни. Ни страстные его размышления, ни наметки тактики и стратегии не давали, казалось, права предлагать что-то свое. Письма на волю, которые Либкнехт пересылал тайком, должны были связать его вновь с подпольным движением и помочь понять наконец, в какую сторону оно устремляется.
VII
Между тем именно теперь надо было решить самый важный вопрос: станет ли в ближайшее время «Спартак» – самостоятельной партией, работающей в нелегальных условиях, или же объединится с «Трудовым содружеством» и вместе с ним образует партию, хотя и оппозиционную шейдемановцам, но легальную.
На многих заводах усилилась тяга к отколовшимся.
Там не особенно различали, кто спартаковцы, а кто члены «Трудового содружества». Важнее было, что те и другие критикуют тактику большинства. Тактика шейдемановцев становилась все менее популярной.
Шестого апреля в Готе назначена была конференция левых оппозиционных организаций, превратившаяся в учредительный съезд «Независимой социал-демократической партии».
Накануне там же должны были обсудить вопрос о будущем своей группы спартаковцы.
Лео Иогихес разослал во все спартаковские группы запрос: что правильнее – слияние или размежевание?
Соблюдая правила конспирации, он стал негласно появляться то на одном заводе, то на другом. Больше всего его интересовали собрания отклонившихся, тех, кто последовал за группой Гаазе.
Спартаковцы, выступавшие на собраниях, горячо доказывали, что «Содружество» ушло от шейдемановцев недалеко: те же методы, та же легальность, настоящей классовой политики оно не проводит.
Среди членов «Содружества» были тоже умеренные и более радикальные. К последним относились депутаты Дитман и особенно Ледебур. Ледебур всегда, выступал горячо, с пафосом, и готов был, казалось, разнести шейдемановцев в пух и прах. На аудиторию он действовал зажигающе.
Послушав жаркие споры в одном месте, в другом, третьем, Иогихес пришел к выводу, что в обилии политических оттенков таится опасность немалая: рядовой рабочий не очень в них разбирается. Если различие между шейдемановцами и их противниками ясно большинству, то споры между членами «Трудового содружества» с спартаковцами смущают и раздражают.
– Чего вы все ссоритесь и поносите друг друга? – говорили изредка рабочие. – Надо, чтобы была одна сильная партия, которая будет проводить нашу политику.
Можно ли доказать им, что «Спартак» и есть эта партия, спрашивал себя Иогихес. Или лучше до поры, до времени связей с «Содружеством» не порывать?
Да тут еще Розе удалось переслать свое мнение на волю. Обдумав все, она пришла к выводу, что покров легальности пригодится «Спартаку». Если будет создана партия оппозиции, обособляться от нее не следует. Пока что не следует.
Такая позиция Розы укрепила Иогихеса в его собственном мнении. От Либкнехта же не удалось получить ничего. А срок для решений пришел.
Итак, пятого апреля все левые, примыкавшие к «Спартаку» или настроенные еще более радикально, провели свою конференцию.
Как и год с лишним назад, когда сложился «Спартак», гамбуржцы и бременцы держались крайних взглядов. Отделиться, решительно отделиться!
Да, но легальность, возможность вести работу в цехах, среди широких масс? – возражали Мейер, Дункер и другие. Их было явное большинство, и они знали уже, какой позиции держатся Люксембург и Иогихес.
– Это свинцовые гири на наших ногах! – громыхал Иоганн Книф, бременский руководитель. – Противоестественно надевать их по собственной воле! Раздувать революционное пламя в условиях легальности – это же чепуха!
Конференция проходила в спешке, нервы у всех были напряжены. Когда стало казаться, что мнение сторонников полного отделения начинает влиять на колеблющихся, слово взял Иогихес.
Положение «Спартака» он знал, как никто. Все нити движения были у него в руках. Он знал и стойкость групп и их раздробленность; знал, какие потери понес «Спартак» за последние месяцы, как за каждым его шагом следят шпики. В сущности, любой смелый работник, все активисты живут под угрозой ареста. После удачно проведенной акции новые потери в рядах «Спартака» почти неминуемы. Ширма легальности позволит вести работу смелее и вовлечь в нее больше людей. Кто, как не он, железный конспиратор, понимал всю важность единой в своем устремлении группы! Но тактика диктует сейчас другое. И он, Иогихес, за то, чтобы с «Трудовым содружеством» до поры до времени не порывать.
Гамбуржцы и бременцы слушали хмуро, они были убеждены в правильности своей позиции. Большинство же участников конференции склонялось в пользу легальности.
С нелегким чувством шли на следующий день спартаковцы на встречу с «Содружеством»: многое оставалось неясным, но выводы были предрешены.
Готский съезд был в общем достаточно представителен: прибыли делегаты Берлина, Магдебурга, Тюрингии, Саксонии, рейнских городов – кто легально, кто нелегально. Раскол в шейдемановской партии зашел так далеко, что тут была представлена четвертая часть социал-демократических организаций.
Из ста сорока участников шестьдесят заявили себя сторонниками «Спартака». Прояви они независимость и сплоченность, их вес оказался бы очень большим. Но гаазовцы поступили хитро: в комиссии и во все органы конференции они вводили своих сторонников, опираясь на большинство. Принцип пропорциональности не был соблюден.
Докладчики, тоже из членов «Содружества», применили все способы уговора, чтобы доказать спартаковцам, что раскол невозможен. Партия, которая будет создана, возродит лучшие традиции германского социализма. Старая социал-демократия потерпела моральный крах.
– Не вы ли, товарищ Гаазе, огласили в рейхстаге декларацию четвертого августа? – послышался вдруг вопрос с места. – Выходит, как раз вы и содействовали моральному краху партии.
Поднялся сильный шум: крики протеста и голоса поддержки смешались. Гаазе помолчал, подбирая слова для ответа. Он поглаживал бороду, благообразный и сдержанный.
– Говорить об ошибках прошлого не хотелось бы. Но пускай те, кто меня упрекает, заодно припомнят ошибку товарища Либкнехта. Разве это мешает нам чтить его имя сегодня?!
Шум поднялся невообразимый. Многие повскакали о мест, крича, что не позволят делать имя Либкнехта предметом недобросовестной спекуляции.
– Я же подчеркнул, что все чтут его высоко, особенно в этом зале. Но речь сегодня не о политике четвертого августа, а о весне семнадцатого года, освещенной всполохами русских событий.
Речь Гаазе, да и других докладчиков, подтвердила, что в программе «Содружества» меньше всего революционности. Расплывчатую формулу свобод перемежали угрозами в адрес правительства Бетман-Гольвега, и этим намерены были привлечь на свою сторону большинство.
Штутгартовец Фриц Рюкк выступил от лица спартаковцев, он взял, что называется, быка за рога.
– Раз уж тут о парламенте толковали и об оппозиции в нем, я скажу так: наша группа знает только одного деятеля, по которому должны равняться в парламенте все, – Карла Либкнехта!
Зал ответил бурными аплодисментами. Даже гаазовцам пришлось аплодировать, так велик был авторитет этого имени.
– Говорили также о русской революции. Да, мы готовы взять ее себе за образец, но ведь вы продолжаете толковать о каком-то справедливом мире и соглашении между воюющими. Что это, как не реформизм в чистом виде? Мира жаждут все: империалисты и те нуждаются в нем. Но достичь его можно при одном условии: если пролетарии воюющих стран объединятся против войны и против капитализма. На какие традиции социал-демократии вы ссылаетесь? Для нас, левых, есть маяки, видные всем: это Циммервальд и его решения, это брошюра товарища Юниуса. Готовы ли вы руководствоваться ими?
Его выступление еще резче разъединило участников, одни тянули влево, в сторону революции, другие же в сторону реформизма.
Фриц Геккерт из Хемница решительно поддержал Рюкка.
– О роли партии, которую хотят тут создать, сказано было немало, – заявил он. – Но истинная революционность требует прежде всего дела, а вы склонны продолжать споры в парламенте. Уж если так, то перед нами пример Карла Либкнехта и большевиков в русской Думе: в обоих случаях трибуна парламента использовалась во имя революции. Ни репрессий, ни гонений не побоялись большевики, клеймя царизм. А вы?! Разве наметили вы путь борьбы с реакцией?!
Атмосфера накалялась. Да тут еще в разгар споров пришла телеграмма от Клары Цеткин. Больная, из тюремной камеры, она пожелала съезду, чтобы решения его получили реальное воплощение. «Ваш съезд проходит и пламенные дни революции в России… Мы учимся у великого исторического учителя всех времен и народов – у революции».
Размежевание, казалось, должно было пойти еще энергичнее. Но за спиной у спартаковцев стояли вчерашние решения: доводы благоразумия, соображения тактики были против раскола.
Единственное, что спартаковцы твердо оговорили, – это свобода действий внутри будущей партии. На этом они стояли непоколебимо, как ни противилось большинство.
Так в апреле семнадцатого года была создана Независимая социал-демократическая партия Германии. В нее вошла и группа «Спартак». Она продолжала энергично вербовать рабочих в свои ряды. Но, как показали события, легальность оказалась стеснительной для «Спартака» лишь помешала, а в дальнейшем сыграла печальную, если не роковую, роль в его судьбе.
VIII
А Либкнехт, как он ни стремился к выдержке, жил в своей камере жизнью смятенной и мучительно напряженной.
Русская революция потрясла его глубоко, он не переставал размышлять о ее последствиях для всех стран. Но высказываться о ней в письмах было почти невозможно – рука тюремной цензуры неумолима. Приходилось взвешивать и обдумывать каждое слово.
«По поводу того, что ты сообщаешь о России, – писал он Соне, – (как ты в этом права!), я, к сожалению, не могу ничего написать; но ты знаешь, что я мог бы сказать».
Надо было скрыть от близких свое душевное состояние. Поэтому, когда весной семнадцатого года «Берлинер тагеблат» сообщила читателям, будто Карл Либкнехт, не выдержав испытаний каторжного режима, тяжело заболел, он отозвался успокоительным заверением: пускай Соня запомнит – такого сорта заметка есть лучшее предзнаменование, что жить ему назначено долго.
Но боже мой! Как жить сейчас, отсчитывая дни и часы неволи, мечтая о борьбе и не имея возможности в ней участвовать! Даже не зная путем всего, что происходит в мире!
Один только раз Либкнехт не выдержал характера. Он сознался в письме, что находится «в положении чижа в клетке, рыбы в аквариуме, охотничьего сокола на цепочке – словом, существа, которому… хочется на волю, на настоящую охоту, на борьбу».
Насильственно прикованный к столику, склонявшийся по многу часов над грязными сапогами, он, стоило ему подняться и начать ходить, испытывал необузданную жажду деятельности. Ничто не способно было ее утишить: ни гимнастические упражнения, которые он назначил себе и которые проводил неуклонно по нескольку раз в день; ни призывы к благоразумию; ни настойчивый счет дням, который он вел, – сто пятьдесят первый день неволи, сто девяносто третий, двести одиннадцатый…
Необузданность его натуры, неуемный темперамент сказались, как ни странно, с особенной силой именно в неволе. Какие пожирающие душу воспоминания охватывали его, какие мысли приходили в голову, какие мелодии владели им и какие яркие образы вставали в воображении!
Вдруг до мельчайших подробностей припоминались поездки с Соней: ночная темнота, высокий лес по сторонам несущейся машины и острое ощущение близости, связавшее его с нею. Припоминались разговоры, мысли ее об искусстве, их совместное чтение и тот восторг, который вызывал в его душе человеческий гений, воплощенный в слове.
Он вспомнил, как однажды из Гляца написал ей, что слова, слова вообще, кажутся ему плоскими и вялыми, «как мясо, трижды вываренное в супе». Бог мой, какие слова рождались теперь в душе, полные высокого смысла и нежности!
И все это должно было остаться при нем, не могло лечь на бумагу. Стоило вспомнить, что холодный глаз цензора придирчиво изучает каждую его строчку, как те, пламенные, слова заглушались, уступали место другим, более взвешенным.
Но, к великому счастью для него, оставалась музыка. Случалось, она заполняла его всего. Он всегда любил музыку, но не думал, что она способна до такой степени утолять страдающее сердце. Вдруг аккорд какой-нибудь возникал в памяти. Либкнехт не сразу вспоминал, откуда он; затем аккорд разворачивался в звучащие фразы. И симфония Гайдна или Бетховена, оратория Генделя или фуга Баха торжественно и полнозвучно проходили в сознании, и он, арестант, лишенный всего, что составляет достояние свободного человека, ощущал свою духовную независимость.
Когда же придет то поистине великое время, когда сокровища музыки станут всеобщим благом?!
Мир, в котором жил Либкнехт короткие полчаса, не отрывал его от широких мыслей и страстного стремления окунуться вновь в стихию борьбы.
Но об этом он писал Соне скупо. Проще было отчитываться перед нею в прочитанном. Способность его к поглощению книг была необъятна. Гердер, Лессинг, Клопшток, Шиллер, Гете, Виргплий, Гораций, Софокл, Платон, Гегель, Клейст, Смайлс прочитаны были за короткое время. Тюремная администрация не препятствовала ему в этом, тут Либкнехт был не опасен.
«Я считаю для себя очень ценным… более близкое знакомство с Виллибальдом и Фонтаном, этими истинно прусскими, даже бранденбургскими поэтами 19-го века… Оба не бранденбуржцы, не пруссаки и не немцы, а французы, потомки эмигрировавших из южной Франции семейств. Это горькая пилюля для идиотов-националистов и для расовых фанатиков, которых Фонтан превосходно изображает в романе «Перед бурей»: не только в жилах княжеских родов, говорит он, течет кровь всех европейских и нескольких азиатских народов, но и население Бранденбурга, этого «сердца Пруссии», равно как и Восточной Эльбы и Саксонии, почти чисто славянское (вендское), и притом снизу доверху, вплоть до высшей аристократии».