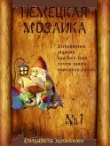Текст книги "Немецкая трагедия. Повесть о Карле Либкнехте"
Автор книги: Осип Черный
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
– Довольно! Хватит! Вам только позволь, так вы задушите стачку в два счета!
Он неуклюже поворачивал голову: перед ним были яростные лица людей, выкрикивавших угрозы, – так велико было негодование против него и всех вообще соглашателей.
– Дайте же мне сказать, что я думаю! – Эберт шагнул вперед и начал отчеканивать: – Требования ваши справедливы, кто же спорит! Но подумайте о ваших женах, о ваших маленьких детях. Что толку в том, что прольется невинная кровь, – разве мы можем спокойно смотреть, зная, что ожидает вас?! Поверьте, мы и так делаем все, чтобы ваши требования были удовлетворены!
Закончить речь ему кое-как удалось, но страсти нисколько не улеглись. Вслед за ним представитель независимых Дитман начал сразу же с пылких фраз, и рабочие ответили гулом возбужденных голосов:
– Верно говорит! Правильно! Всех надо гнать в шею! Всех соглашателей!
Поддавшись их настроению, он заговорил еще запальчивее. Тогда к трибуне стал пробиваться сильный отряд полицейских.
– Не трогайте его! – яростно завопили рабочие. – В следующий раз мы вооружимся тоже! Проваливайте вон!
Но, тесня друг друга, полицейские приближались к трибуне. Дитмана схватили и поволокли книзу; он успел выкрикнуть:
– Долой насильников! Да здравствует демократический мир!
Многие были в тот день арестованы и многие ранены. В стачечном комитете перепугались. Шейдемановцы стали еще энергичнее убеждать старост, что надо искать примирения.
– Но для этого нас должен принять канцлер!
– Сегодня я имел разговор с новым канцлером, графом Гертлингом, – заявил Шейдеман. – Встретиться со стачечным комитетом он пока не согласен.
– Так надо его заставить!
– Хорошо, забастовка продлится, допустим, долго. Чего мы добьемся? Старост угонят на фронт, семьи их будут голодать еще больше. Можем ли мы мириться с тем, что лучшие из лучших попадут под пули или сядут на скамью подсудимых?!
– Так вы же сами рабы режима! Вы готовы подставить наши головы под пули!
– Товарищ, бросивший мне обвинение, поступил опрометчиво. Мы не сторонники кровавых расправ – да, это верно. Но в любом положении можно найти разумный выход. Разве не удалось нам добиться улучшения хлебного рациона? Разве в вопросе о зарплате мы не отстаивали ваших требований?
– Пустое вы говорите, – возразил ему Мюллер. – Речь совсем о другом: сегодня рабочие сражаются за изменение всей политики в целом!
– Но ведь мы вас ведем именно к этому! – подхватил Шейдеман. – Самим ходом событий социал-демократия приближается к руководству страной. Терпение и выдержка – наши союзники, а не враги. Именно к выдержке мы вас и призываем!
Эберт еще не оправился от оскорбительного, неприятного чувства, пережитого им на митинге в Трептовпарке. Слушая Шейдемана, он думал: чего тут миндальничать! Покруче с ними! Вышли на улицу и опьянены ложным сознанием могущества! Не знают еще, что значит хороший ружейный залп!
Он угрюмо посматривал на старост, решив не выступать: чего доброго, погорячится, а горячиться ему нельзя. Пускай ловкий Шейдеман доводит до конца дело сам.
В следующие дни положение не изменилось. Рабочие в стихийном порыве двинулись штурмовать полицай-президиум на Александерплац. Но здание было оцеплено воинскими частями.
События в стране грозили сорвать переговоры с Россией. Ставка требовала подавить забастовку, не останавливаясь ни перед чем.
Правая печать тоже требовала беспощадности. Наконец сама Генеральная комиссия, высший профсоюзный центр, заявила, что стоит в стороне от стачки, поскольку она утратила характер экономический и получила остро политическую окраску.
Главная беда бастующих заключалась в том, что стачечный комитет не собирался вести рабочих против правительственных войск. Судьба январской стачки была, таким образом, предрешена. На стороне правительства были весь аппарат власти и поддержка армии; шейдемановцы тоже делали все, чтобы облегчить подавление забастовки.
Спустя шесть лет Эберт признал: «Я вступил в руководство забастовкой с определенной целью – привести ее к скорейшему концу». Да и Шейдеман подтвердил, что основной целью социал-демократов было «как можно скорее покончить с забастовкой».
Что же до революционных старост, то большая их часть в наказание за мятежный дух была с заводов уволена и тут же призвана в армию.
XV
Двор бреславльской тюрьмы отличался от двора во Вроике тем, что ни зелени перед глазами, ни травы под ногами тут не было. Выходя на прогулку, Роза Люксембург видела лишь серые камни двора. Она предпочитала рассматривать их, а не арестантов, на лицах которых долгая неволя оставила свой не стираемый след. В облике и повадке каждого сказывалось действие медленной нравственной деградации.
Стоя возле тюремных дверей, Роза старалась не смотреть туда, где работали арестанты. Но одно женское лицо привлекло ее взгляд, и ома невольно засмотрелась.
У молодой арестантки было упругое, стройное тело, строгий профиль, и движения привлекали своей соразмерностью.
Роза вспомнила, как в тюрьме на Барнимштрассе однажды жестоко ошиблась. Ее и там привлекла женщина с фигурой, словно выточенной, и с удивительно благородной осанкой; она работала истопницей. А та на поверку, при более близком знакомстве, оказалась существом вульгарным, распущенным и примитивным. Потом уже, стоило ей появится в камере, Роза ловила себя на острой неприязни к ней.
«Я подумала тогда, что Венера Милосская потому только сохранила в веках репутацию прекраснейшей женщины, что молчала. Открой она рот, и весь ее «шарм» полетел бы к черту».
И все же тут, в Бреславле, совершенная красота опять подкупила ее. Роза глядела на женщину.
«Как раз сейчас она прервала работу… Солнце уходит за высокие строения и почти скрылось. В вышине плывут, бог знает откуда, скопления маленьких облаков: посредине они окрашены в нежный серый цвет, по краям серебрятся, волнистые контуры их уползают на север… Разве можно быть мелочным или злым при таком вот небе?! – И закончила, обращаясь к Соне: – Если хотите быть «хорошей», никогда не забывайте смотреть на мир вокруг себя!»
Наблюдения, обобщения, поэтические сопоставления и политически острые ее заключения сменяли одно другое, и никакие силы присмотра не властны были над ними.
Однажды во двор, где Роза совершала обычную прогулку, прибыли телеги, нагруженные солдатскими мундирами и рубахами. Такая одежда нередко доставлялась в тюрьму: с нее смывали присохшие кровь и грязь, затем арестанты штопали ее и латали, чтобы можно было пустить снова в дело.
Телега, запряженная буйволами, подошла к крыльцу. Впервые перед Розой оказались так близко эти медлительные животные: плоские головы с изогнутыми рогами; черные туловища и глаза, полные кротости.
Буйволы были военным трофеем, захваченным на румынской земле. Они живо напомнили, с какой жестокостью грабит Германия земли, куда ступает нога ее солдат.
Пока телега разгружалась, солдаты курили и спокойно рассказывали стражникам, как трудно было поймать буйволов.
– А приучить к упряжке!.. А кнута, а хлыста сколько отведали!
Телега была нагружена доверху, животные подтащили се к крыльцу через силу.
Когда понадобилось передвинуть ее через бугор, они уперлись, вытянув ноги, и, измученные, стали.
– А ну, окаянные! Вперед! – крикнул солдат помоложе.
Справляться с животными он умел лучше других, но сердце у него было жестокое. С таким исступлением лупил он буйволов толстой палкой, что смотреть было почти невозможно.
Роза, не в силах отвести взгляд от раздирающей душу сцены, оцепенела. Чем безнадежнее становились усилия животных, тем ужаснее делалось истязание.
Надзирательница и та не выдержала:
– Разве можно так мучить животное? Жалости в тебе нету!
Солдат мрачно отозвался:
– А нас кто-нибудь жалеет?!
Буйволы наконец одолели бугор, но спины были у них окровавлены. Та самая буйволиная шкура, грубость которой вошла в поговорку, была вся иссечена, из нее обильно лилась кровь.
«Животные стояли совершенно тихо, и то, которое было покрыто кровью, напоминало выражением черной морды и черных кротких глаз заплаканного ребенка… Я стояла вблизи, и животное смотрело на меня. Из моих глаз брызнули слезы.
Как далеки, как безвозвратно потеряны свободные, сочные, зеленые равнины Румынии! Совсем иначе сияло там солнце, иначе дул ветер, совсем не так звучали радостные голоса птиц и возгласы пастухов, а здесь, в этом чужом страшном городе, – в душном стойле затхлое сено, смешанное с гнилой соломой, чужие страшные люди и – Удары, кровь, струящаяся из свежих ран… О, мой бедный буйвол, мой бедный любимый брат! Мы стоим здесь оба бессильно и тупо; мы – одно в нашем страданье, в нашем бессилье, в нашей тоске…
В это время заключенные деловито суетились возле телеги, выгрузили тяжелые мешки и перетащили их в дом, а солдат засунул руки в карман брюк и большими шагами прогуливался по двору. Он улыбался и насвистывал какой-то уличный мотив… И вся великолепная война прошла передо мною…»
Письмо, адресованное Соне Либкнехт, было написано незадолго до того, как солдаты, доставленные в Берлин, расстреливали бастующих рабочих, репетируя будущие решающие схватки.
XVI
Истерзанная войной Россия нуждалась в передышке во что бы то ни стало. Но Троцкий, сделав напыщенный и безответственный жест, сорвал второй тур переговоров и этим оказал большую услугу Германии. За спиной у московской делегации немцы продолжали вести секретные переговоры с Украинской радой и девятого февраля 1948 года подписали с ней сепаратный мир. На следующий день переговоры в Бресте были прерваны.
Статс-секретарь иностранных дел Кюльман, представлявший имперское правительство, получил строжайшее предписание: если Россия все же станет добиваться мира, предъявить ей требования куда более жесткие.
Чтобы утвердить план нового наступления на востоке, Вильгельм, находившийся в это время в Гамбурге, вызвал к себе на совещание руководителей своего кабинета и ставки.
Генерал Людендорф стал докладывать, по каким направлениям предполагается нанести удар.
– Мы двинем войска в сторону большевистской столицы. Армии у большевиков нет. То, что они собрали, разбежится после первых наших атак. Помимо того, войска центра, а также на южном направлении возобновят свой марш на восток.
Вильгельм спросил, сколько дивизий намерена туда перебросить ставка.
– Ни одной добавочной, ваше величество. Мы обойдемся наличными силами.
Выслушав краткий доклад, задав еще несколько вопросов генерал-квартирмейстеру и его шефу, Вильгельм, оторвав глаза от развешанных в зале карт, сказал:
– С чувством гордости за армию я констатирую, что в эти дни моя ставка оказалась на высоте исторических задач.
Гинденбург почтительно приподнялся. Затем Вильгельм, любивший произносить речи, торжественно заявил:
– Из русских мы выкачаем все до последнего грамма. Они должны заплатить нам и за вероломство царя, и за безумие своих анархических вожаков. Господь воздает нам за все испытания, которые перенес мой народ. Я жду от вас, господа, что вы покажете теперь французам и англичанам истинную силу нашего оружия.
– Это уже планируется, ваше величество, – вежливо пояснил Людендорф.
Все было списано со счетов: и волнения в стране, и недовольство народа, и голод. Мир с Россией, казалось, возмещал все.
– Что касается моего правительства, – Вильгельм обратился к канцлеру Гертлингу, – то я ожидаю, граф, что под вашим руководством страна получит покой и вновь проникнется неограниченным доверием к власти.
– Ваше величество… – начал Гертлинг.
Вильгельм недовольно нахмурился: он не любил, чтобы его прерывали.
– Надеюсь, граф, ваше правление окажется куда более продолжительным, чем у печального вашего предшественника.
– Приложу все усилия, ваше величество.
– Ведь соци вам помогают? Я еще в начале войны прибрал их к рукам. Ведь они ручные, не так ли?
– Ваше величество, не совсем.
– Ну так бросьте им кость! Они требуют реформы избирательного права в Пруссии? Как прусский король я не возражаю. Только умело водите этой приманкой перед их носом.
Он был сегодня в ударе и от своих словечек получал удовольствие сам. Он сознавал себя победителем в величайшей схватке.
Шестнадцатого февраля Германия объявила, что через два дня будет считать перемирие между нею и Советской Россией прекращенным.
Россия, располагавшая молодыми и необстрелянными революционными частями, оказала неожиданный отпор. Под Нарвой и Псковом немцы встретили сопротивление. Но предательство Троцкого стоило России напрасно потерянных земель.
По настоянию Ленина переговоры с Германией возобновились, начался третий тур. На этот раз пришлось согласиться на условия несравненно худшие. Третьего марта в Бресте был подписан тяжелый, унизительный для России мир.
Грабеж начался с первых же дней. Направляя немецкие части на Украину, Людендорф давал твердые указания, сколько хлеба, жиров и всего прочего вывозить. Австро-Венгрия требовала своей доли награбленного, но это только раздражало его. Он предпочитал выглядеть благодетелем своей страны: пускай, получая украинские хлеб, сало, уголь, немцы ощутят блага опеки военных. Вот они бастовали, сеяли смуту, требовали невозможного, а когда пришла наконец победа, о них позаботились – командование, а не смутьяны.
Впрочем, продовольствие досталось главным образом армии. Но газеты, партии рейхстага, в том числе социал-демократы, профсоюзные лидеры выражали, каждый по-своему, ликование.
Германия предполагала большую часть войск перебросить на запад, однако, чтобы выкачивать все с завоеванных земель, приходилось держать на востоке миллионную армию.
И все же до некоторой степени руки были развязаны. Можно было преподать урок французам и англичанам. Можно было уверять также, будто Германия повергла в прах самодержавие и, объявив независимость балтийских стран, Польши и Украины, сыграла в ходе войны освободительную роль.
XVII
Двадцать второго февраля рейхстаг утвердил мирный договор с Украиной. Итоги сепаратных переговоров были одобрены всеми. Шейдеман заявил, что следует искренно поблагодарить канцлера Гертлинга за то, что Германия признала за каждой нацией право на самоопределении. В договоре с Украиной, этой великой и богатой страной, социал-демократы видят воплощение их давней доктрины о праве народов на самостоятельность.
Но когда пришло время утвердить договор с Россией, у социал-демократов не хватило единодушия: выдать открытый грабеж за акт справедливости было не так-то легко.
После жарких споров победила в конце концов осмотрительность: решили, что фракции лучше при голосовании воздержаться.
Канцлер Гертлинг заявил, что с Россией при помощи меча достигнут мир умеренный и справедливый. Слова его убедили всех наивных и всех, кто жаждал мира любой ценой.
После этого взоры немцев обратились на запад, где судьба войны должна была решиться окончательно.
В марте после тщательно проведенной подготовки началось наступление на Марне. Немцы взломали сильно укрепленный фронт и продвинулись глубоко. В Париже началась паника. В Берлине поверили, что развязка близка. Двадцать шестого марта «Форвертс» написал, что наступление, которого все так ждали, приведет к победе и миру.
Март и апрель прошли в радостном возбуждении. Власти зорко следили за тем, чтобы движение протеста не вспыхнуло снова. Но рабочий класс так обессилел в январских схватках, так нелегко набирался новых сил, что энергии на сколько-нибудь внушительные демонстрации Первого мая у него не хватило.
Так тянулось вплоть до лета. А летом англичане и французы перешли в ответное наступление. Кровь полилась рекой. Ставка не успевала подбрасывать резервы, затыкая дыры то здесь, то там. Пришлось даже с Украины забрать много военных частей, хотя положение немцев было там непрочное. Солдат, немного откормившихся на украинских хлебах, спешно перебрасывали на запад. Но что это были за войска! Дух разложения охватил их сверху донизу.
Каждое утро Людендорфу, когда он приходил в свой по-спартански обставленный кабинет, дежурный по штабу докладывал, что произошло за ночь: сведения были неутешительные.
– Некоторые подразделения на востоке сделали попытку вывесить на вагонах красные тряпки.
– Отнюдь не тряпки, господин полковник, а символ опаснейшего брожения.
– Именно это я имел в виду, ваше высокопревосходительство.
– Так… Дальше?
Людендорф, прямой, неумолимый и замкнутый, распоряжения свои отдавал тоном, не допускавшим возражений: указывал, на каком участке произвести замену частей и куда влить подразделения, прибывшие с востока.
– Там серьезных атак противника я пока не предвижу.
– Но дух разложения распространился и на части, которые мы до сих пор считали боеспособными.
– Всех зачинщиков выявлять немедля и расстреливать на месте!
– Мы такое указание направили еще неделю назад.
– Тогда несколько дней подождем, затем потребуем в форме еще более категорической… А настроения в тылу?
– Блок средних партий более или менее устойчив…
– Полковник, мне нужны сведения о том, что предприняли мы. Мы ведь свое мнение выражали канцлеру не раз. А он продолжает миндальничать со смутьянами?
– Ваше высокопревосходительство, я полагал бы полезной встречу руководителей ставки с так называемыми левыми.
Людендорф поднял на него глаза.
– По-вашему, это принесет пользу? – Он помедлил. – Хорошо, запишите в числе наших ближайших мероприятий.
Положение сложилось такое, что за судьбу страны отвечала теперь ставка, и никто больше. Мир с Россией был использован целиком. Но на западе упорство и мощь противника оказались трудно одолимыми. Дела на фронте с каждым днем становились все хуже. Да тут еще фон Кюльман, выступая в рейхстаге двадцать третьего июня, позволил себе заявить, что военной победы больше ждать не приходится. То, о чем наверху говорили шепотом, он опрометчиво сделал достоянием всех.
– Полюбуйтесь-ка, как ведут себя эти господа в тылу, – заявил Гинденбург, пригласив к себе утром Людендорфа.
Тот стал читать с выражением бесстрастия, не нагибаясь и не приближая текста к глазам.
– Так что вы об этом думаете? – спросил Гинденбург.
– На языке войны это называется предательством. Мы не имеем права молчать…
– И что же вы предлагаете?
Людендорф сделал несколько шагов по кабинету. За эти нелегкие годы работа сблизила их, и он позволял себе иной раз некоторые послабления. Из окна были видны газоны и клумбы перед домом: все в цвету, все полно изумительных красок. По дорожкам, посыпанным гравием, шагали старшие офицеры – все как на подбор, статные, хорошей породы, с отличной выправкой. И с такими кадрами Германия на краю катастрофы?! Проклятая гражданская распущенность!
Он вернулся к столу.
– Я полагаю, надо потребовать отставки фон Кюльмана. С такими господами в правительстве мы далеко не уйдем.
– Канцлер, сколько я с ним ни беседовал, уверял меня, что кабинет целиком предан делу армии.
– По-видимому, ваше сиятельство, он бессилен. К власти подбирается левая камарилья, я располагаю точными сведениями. Лишь с большим трудом удалось предотвратить забастовки первого мая. Я дал указание немедленно предавать зачинщиков суду и подвергать суровому наказанию.
– Хорошо, – сказал Гинденбург.
– Мы этот идиотский день кое-как пережили, но любой следующий может стать для нас днем первого мая. Допустим, кайзер согласится убрать фон Кюльмана…
– Почти уверен, что его величество согласится.
– Но главного это не решит. Надо пришпорить социалистов.
– Они довольно послушны, я бы сказал.
– Да, но с каждым месяцем теряют в глазах рабочих свой авторитет. Надо подбодрить их, объяснить, какие надежды на них возлагаются. И выжечь язву либкнехтизма из тела народа.
– А вы не преувеличиваете? – с сомнением спросил Гинденбург. – Либкнехт под замком, имя его почти забыто…
– На любом собрании, во время любой демонстрации его имя произносят самые отъявленные и дерзкие. Нет, эта опасность далеко не устранена. Тем более следует поддержать умеренных социалистов. И потом, ваше сиятельство, мир должен быть заключен во что бы то ни стало, и соци с их международными связями могли бы сыграть тут полезную роль.
Гинденбург рассматривал кольцо на безымянном пальце. Оно связывало его с домом, с семьей и в трудные минуты напоминало, что есть на свете что-то такое, чего даже поражение не может отнять у него.
– Хорошо, я согласен, – произнес он. – А относительно фон Кюльмана выскажу его величеству нашу точку зрения.
XVIII
Посулы социал-демократов, их обещания близкого и почетного мира вылетели в трубу. Восемнадцатого июля Германия потерпела на западе тяжелейшее поражение. Как раз в тот день нормы снабжения жителей были урезаны еще больше. И надо же было, чтобы Шейдеману пришлось в тот же день делать доклад на собрании активистов в Золингене!
Он поехал туда с дурным предчувствием. Форштанд поручил ему, по возможности, выровнять там положение.
Лица встречавших были невеселые. По пути в гостиницу ему сообщили, что в организации царят нездоровые настроения.
– С продовольствием совсем плохо, снабжают – хуже нельзя. Так что рабочих можно понять.
Шейдеман заметил сочувственно, что такое же положение всюду. Фракция не раз обращала на это внимание правительства.
Он не стал пересказывать того, что пока не обнародовано: что очередное немецкое наступление на западе провалилось. Спросил лишь, каких тем лучше здесь не касаться.
– Трудно сказать, товарищ Шейдеман: острой может оказаться любая.
– Ну ладно, как-нибудь, надо думать, столкуемся. Ведь мы стоим на одной платформе.
Выступать тут ему уже приходилось, он хорошо знал помещение, где собирались активисты.
Явившись туда вечером, Шейдеман приветливо пожимал руку одному, другому, кивал: его радовало, что знакомых лиц много.
Большинство, впрочем, смотрело на него неприязненно. «Э-э, – подумал Шейдеман, – этот орешек разгрызть будет нелегко!»
В комнатку, где он ждал, вошел расстроенный организатор:
– Черт знает что! Эти спартаковцы наводнили весь зал листовками!
– Так соберите и выбросьте их в мусорный ящик, – посоветовал Шейдеман.
– Их уже расхватали.
– О чем же пишут? – справился он без видимого интереса.
– О вас, товарищ Шейдеман.
– О-о, много чести…
– Призывают сорвать ваше выступление.
– Ну, я ведь не новичок. И не в таких переделках бывал.
Затем появились другие организаторы, тоже смущенные.
– Так начнем все-таки?
– За мною остановки нет, я к вашим услугам.
Пройдя в узкую боковую дверь, Шейдеман с удовлетворением отметил тишину в зале. Годами накопленный авторитет действует, как-никак. Надо думать, все пройдет хорошо.
Он начал спокойно, не напрягая голоса; говорил гладко и плавно. Но вскоре до слуха его донеслось странное гуденье зала. Шейдеман продолжал, несколько настороженный.
Речь вначале касалась лишений, трудного положения рабочих. Он собирался заговорить и о жертвах, необходимых для спасения страны, но нет, лучше уж этого не затрагивать.
Вдруг все резко переменилось.
– Чем молоть эту чушь, – крикнули из зала, – лучше расскажите, как вы предали рабочих в начале войны!
– Что имеет в виду товарищ, задавший вопрос?
– Измену в рейхстаге. Четвертое августа, вы отлично знаете!
– Такова была позиция немецкой социал-демократии. Партия разъясняла ее потом не раз и встречала полное понимание.
– Ложь! Наше мнение подтасовывалось всегда, в этом природа вашего предательства!
Шейдеман был бы рад избежать перепалки, он терпеливо ждал тишины. Но момент был упущен – в зале дружно закричали:
– Ваше дело было обманывать, где можно, а мнение рабочих выражал один только Либкнехт!
– Если он и выражал чье-либо мнение, – возразил Шейдеман, – то самых крайних и самых отсталых, так думаю я.
– Такие, как вы и привели рабочий класс к капитуляции! Гнать вас надо с трибуны!
– Товарищи, на таких началах встречу продолжать нельзя. – Ему показалось, что голос ему изменяет и звучит слишком пронзительно. – Высказывать свою точку зрения может каждый, но, раз меня сюда пригласили потрудитесь выслушать прежде всего меня.
– Пускай те и слушают, кто пригласил, а с нас довольно! Хватит, долой!
Но у него нашлись и сторонники, тоже повскакавшие с мест. Давняя вражда между правыми и спартаковцам разгорелась в открытую. Со своего возвышения Шейдеман наблюдал эту стычку, грозившую перейти в свалку. Бранных слов по его адресу было меньше, потому что большая часть доставалась местным людям. Но и его вспоминали, называя то изменником, то предателем, то еще бог знает как.
Через боковую дверь на эстраду прошли два организатора и начали что-то ему говорить, но он в шуме не разобрал. Тогда его взяли под руки и почтительно повели к выходу.
– Скатертью дорожка! – понеслись вслед голоса. – Можете больше не появляться, мы вас раскусили!
Шейдеман выслушивал извинения руководителей. Он утешался спасительной мыслью, что, когда служишь людям, приходится очень многое сносить из-за их отсталости и темноты.
XIX
В начале августа союзники в решающем наступлении при Амьене прорвали немецкую оборону. Восьмое августа Людендорф позже назвал черным днем Германии. Мир стал совершенно необходим, но искать его можно было лишь после политической перегруппировки внутри страны. Без такой перегруппировки противник не согласился бы вести переговоры со страной, проигравшей войну. Социал-демократы узнали, что назавтра приглашены к начальнику генерального штаба. Другие фракции были приглашены тоже, но у социалистов положение было особое, они отдавали себе в этом отчет.
Шейдеман заговорил было с Эбертом, какой линии держаться и какой тон взять с генералами, если они позволят себе хотя бы оттенок надменности.
– Каких тебе почестей еще надо? – недовольно заметил Эберт. – Сами же сюда прибыли, чтобы встретиться с нами. Не у нас с тобой болит голова от потерь, которые несет армия.
– Она болит из-за другого, но болит все равно.
– Э-э, все будет видно на месте, подождем до завтра.
Когда они прибыли в генеральный штаб, адъютанты встретили их подчеркнуто предупредительно, но попросили подождать.
– Пожалуйста, что ж, – пробормотал Эберт.
Он грузно опустился в кресло и положил шляпу на колени. На толстых коленях шляпа покоилась надежно. Тем ие менее адъютант предложил избавить его от такой заботы.
– Не утруждайте себя, – сказал Эберт, – я привык.
– Нет уж, разрешите. Повешу ее в гардеробе и при выходе вручу вам.
«Почему Фридриха тут сочли первым?» – ревниво подумал Шейдеман.
Но времени для размышлений не осталось: дверь широко распахнулась, и депутатов любезно пригласили войти.
Генералы сидели за большим столом. Глазом искушенного человека Шейдеман оценил того и другого: Людендорф представительнее, элегантнее и больше располагает к себе. Гинденбург ниже, чем он себе представлял, и выглядит менее значительным. Но страна именно его окружила ореолом. Так всегда, подумал Шейдеман: тот, на ком вся тяжесть ответственности, пребывает в тени, слава же достается другому.
При виде вошедших генералы поднялись. Гинденбург еще издали протянул им навстречу руки:
– Очень рад видеть вас, господа.
Когда очередь дошла до Шейдемана – Эберт и на этот раз оказался почему-то первым, – Гинденбург посмотрел на него с явной симпатией.
– Итак, господа, речь идет об условиях, на которых Германия могла бы вступить в переговоры с противником, – начал Людендорф и обратился к Шейдеману. – Нам известна позиция вашей партии в этом вопросе; в ней, надо признать, немало государственной мудрости.
Слегка наклонив голову, Шейдеман воздал должное генеральской любезности.
– Как ни сильно наше желание прекратить кровопролитие, страна, с таким самоотвержением сражавшаяся фактически одна с целым миром, имеет право на большее, согласитесь. Ведь вы требуете мира без всяких аннексий…
– Ваше высокопревосходительство, – вежливо, но твердо сказал Шейдеман, – я не стану касаться тут наших принципов, да и вряд ли вы были бы склонны считаться с ними…
– Но вклад, который германская социал-демократия внесла в оборону страны, мы ценим высоко.
– Позвольте мне задержаться сейчас на другом. В рядах парламентских фракций нет единства по вопросу, который, без преувеличения, предопределит будущее нашей страны. Вы, конечно, знаете, как сильна группа аннексионистов…
По лицу Людендорфа скользнула тень: ему хотелось бы, по возможности, избежать этого режущего слух слова. – Независимо от партии я как военный человек поделил бы членов рейхстага на тех, кто глубоко озабочен будущим родины, и тех, кто за сегодняшним днем видеть будущего не желает. Или неспособен.
Гинденбург посматривал на социал-демократов без тревоги: он знал, что Людендорф ничего не упустит и ил в чем не уступит. Он хорошо понимает, в каких границах возможна дискуссия. Формулировки генерал-квартирмейстера Гинденбург подправлял или несколько уточнял лишь в отдельных случаях. Его больше устраивала позиция наблюдателя.
Искушенности Шейдемана он готов был воздать должное, хотя расположения к нему не почувствовал: что-то извилистое, слишком сложное и немного опасное заключала в себе его личность.
Шейдеман старался уверить руководителей армии, что иных предложений, кроме тех, какие внесли социал-демократы, не может быть. Если правительство не пойдет на уступки, оно придет к банкротству и краху. Людендорф примирительно заключил: – Я нахожу, что несовместимости в наших позициях нет. Немецкие социал-демократы воодушевлены теми же благородными чувствами, что и весь народ, с первых дней трагической войны. Но мы люди трезвые: из столкновения с противником Германия не вышла бесспорной победительницей, хотя все моральные преимущества по-прежнему на ее стороне. Все, что в результате переговоров можно получить, следует безусловно потребовать. Немецкий народ никогда не простит нам, если в эти трудные дни мы предадим его интересы.
При том, что они формально с социалистами не договорились, генералы остались довольны встречей. Пожалуй, фигура Эберта осталась менее разгаданной. Он сидел ссутулившийся, похожий на крупное корневище, сросшееся всеми своими узлами, хмурый и в то же время готовый к уступкам. Несколько его реплик – он вовсе не рвался быть первым, и это понравилось генералам – показали, что с ним легче прийти к компромиссу, чем с Шейдеманом.
Все представляло как бы наметки для будущего: достаточно было и этой осторожной рекогносцировки, чтобы понять друг друга.
Генералы жали руки социал-демократам. Людендорф даже проводил их, но до двери не дошел – сделал лишь несколько шагов. Этого было достаточно, чтобы подчеркнуть особый характер встречи.
XX
Предвидеть, что произойдет в ближайшее время, Людендорф все же не сумел. Наступление войск Антанты продолжалось и приняло такие размеры, что стало угрожать развалом немецкого фронта. Лишь экстренные меры могли еще спасти Германию от катастрофы.