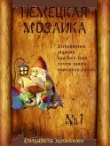Текст книги "Немецкая трагедия. Повесть о Карле Либкнехте"
Автор книги: Осип Черный
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Книга первая. «Да» и «нет» Либкнехта
I
Город бурлил, демонстрации сменяли одна другую, вызывая горячее одобрение толпы. Дамы в шляпках с разноцветными лентами, мужчины в панамах и котелках, разносчики, продавцы, официанты, содержатели ресторанов, кафе толпились на тротуарах, с энтузиазмом приветствуя колонны буршей, чиновников, гимназистов, подразделения солдат и конницу. Твердая выправка, четкий шаг воодушевляли немцев: они выражали единство и силу их родины.
Дух единства старались подчеркнуть решительно все. То, что еще вчера разделяло сословия, отодвинулось назад. Ведь сам кайзер провозгласил, что для него нет больше враждующих партий, а есть патриоты, готовые пожертвовать собой во имя Германии.
Красивая статная женщина в светлом жакете и широкополой соломенной шляпе вместе с сыном, молодым человеком, с трудом пробиралась в густой толпе. Фанатичные выкрики, цоканье лошадиных подков, возгласы «Hoch!»[1]1
Ура (нем.).
[Закрыть] – все звучало чуждо и отзывалось в ее сердце пустотой.
Что произошло с этими недавно еще благодушными людьми? Еще на прошлой неделе соседи по столу в пансионе обращались к ней за поддержкой: «Ведь все уляжется, правда? Ваша страна не ищет же столкновения с нами? Мы мирный народ и больше всего жаждем покоя!» Даже военные, срочно отзываемые в свои части, прощались с благовоспитанной русской дамой дружески, уверяя, что все в конце концов обойдется.
И вот случилось невообразимое: за каких-нибудь пять-шесть дней узы общности оборвались. На курорте Кольгруб, где жила русская с сыном, она почувствовала себя совершенно чужой и, прервав лечение, решила уехать немедленно.
На станции царила растерянность, близкая к панике.
В Мюнхене, куда добрались с трудом и где надо было пересесть на берлинский поезд, был форменный ад. Толпа скопилась огромная, эшелоны с солдатами отправлялись один за другим, а будет ли пассажирский состав, никто не мог сказать.
Носильщик, которому русская отдала свои вещи, пропал. В добавление ко всему она вспомнила, что в чемодане у нее документы и деньги.
Наконец поздно вечером прибыл берлинский поезд, и все ринулись в вагоны. Ее и сына буквально втолкнули внутрь. Но как было уезжать без вещей и без денег?
К счастью, в последнюю минуту носильщик сумел разыскать их: чемоданы он запихнул через окно и на лету поймал деньги.
Германия, объявившая войну России, как будто помешалась: в течение нескольких дней она превратилась в страну, полную мнительности и фанатизма.
…Толпа на берлинских улицах неистовствовала и выкрикивала верноподданнические лозунги.
Зрелище внезапного перерождения вызывало недоумение. Тем более, что в демонстрациях участвовали и рабочие, а русская считала, что они находятся под сильным влиянием социал-демократической партии.
Впрочем, два года назад она сама писала о пагубном оппортунизме, которым заражена германская социал-демократия. Так не в нем ли скрывалась причина?
О том, чтобы достать извозчика, не приходилось думать: даже на проезжей части улиц люди стояли плотными группами.
– Ты не очень устал, Миша? – спросила у сына русская. – Придется идти до Грюневальда пешком.
– Ну, конечно, дойдем.
– Авось хозяйка пансиона примет нас, как принимала прежде. Она дама благоразумная и вряд ли тоже стала жертвой психоза.
Уже несколько раз до них донеслось зловещее слово «шпионы». Оповещения предостерегали жителей: агенты врага, проникшие в город, взрывают мосты, бесчинствуют, поджигают склады…
Как бы в подтверждение этого они услышали отчаянный крик впереди. Толпа мгновенно устремилась туда.
– Что там случилось? – на отличном немецком языке спросила женщина.
Долговязая немка, прикованная к происходящему, даже не обернулась.
– Провокаторов ловят, фрау; с самого утра вылавливают.
– Господи, все помешались! Какие там еще провокаторы?!
Услышав это, немка посмотрела на нее из-под тяжелых, в мелких складках, век.
– Вы, фрау, с неба, что ли, свалились? На нас же напали казаки!
Ее ошалело подозрительный взгляд упал на Мишу, и мать потянула сына за собой.
День был томительно жаркий. Небо с молочной пленкой на синеве было обычное, городское, застланное фабричным дымом и пылью.
Пока добрались до Грюневальда, мать и сын устали порядком. В этом благонамеренном районе вблизи Бисмаркплац царила сравнительная тишина. Аллеи каштанов словно загораживали улицы от испарений шовинизма, окутавших весь Берлин.
Подошли к двухэтажному, в зелени, дому, где прежде они встречали чисто немецкое, заботливое гостеприимство. Не успела появиться хозяйка, как сразу взволнованно заговорила:
– Ах, что у нас происходит, госпожа Коллонтай, если бы вы только знали! Это какой-то кошмар! Все в страхе, все ожидают худшего!
– Но что случилось? Объясните, прошу вас!
– Мой пансион, вы ведь знаете, был широко открыт для всех. Но стоит представить себе, что в Берлин входят казаки и начинают расправу…
– Милая госпожа Шнабель, какой сумасшедший напугал вас?
– Ну да, к казакам и к их царю вы относитесь, как и мы. Но само слово «русский» стало страшить, приводит всех в ужас.
– Нет, это не ваши слова, вы повторяете чье-то чужое.
– Может быть, может быть… – согласилась, вздохнув, хозяйка. – Но что поделаешь, у всех на устах одно и то же.
Русские, жившие в пансионе фрау Шнабель, тоже успели сообщить Коллонтай кучу нелепостей и вздорных слухов. Она решила немедля искать источник сведений более надежный. Наскоро устроившись в комнате, отведенной хозяйкой, Коллонтай сказала, чтобы Миша обедал без нее, а сама отправилась на розыски знакомых.
II
Человек в темных очках и белой войлочной шляпе с рюкзаком за плечами шагал по горной тропинке. Синеватые горы лежали в дымке, леса по склонам походили на перевернутую кверху щетку. Отсюда щетина ее казалась идеально ровной.
Чем выше, тем красивее становился вид. Человек сдвигал очки на лоб, чтобы рассмотреть все в неискаженном цвете – небо, дымку гор, зеленые очертания леса, – затем шагал дальше.
Благодушные мысли сменяли одна другую. Это был его отдых, законный отдых, и не хотелось вспоминать, что отправился он путешествовать в тревожное время. Нет, в войну Германия не ввяжется – в этом он был почти убежден. Из-за того, что австрийский наследник убит в Сараеве, мировая свалка не начнется. Два года назад на всемирном конгрессе в Базеле социалисты подтвердили солидарность рабочего класса всех стран и вновь напомнили буржуазии: если война будет развязана, она неминуемо кончится революцией.
Там, где тропа делала резкий изгиб, вид открывался еще более красивый. Внизу лежала, вся в мягких переливах, долина. Леса тянулись спокойной линией, а небо было той синевы, какая бывает только в горах.
Турист решил сделать привал; распустил ремни рюкзака, достал флягу с какао, корейку и джем. Затем вынул книжечку и внес в нее несколько записей, которые могли пригодиться в будущем. Посидел, помечтал.
И только вечером, проделав длинный спуск, попав в тирольский городок, он от мальчишек-газетчиков, которые ошалело носились по улицам, выкрикивая последние новости, узнал, что Австрия предъявила Сербии грозный ультиматум. За те дни, что он бродил по горам, мир изменил свое лицо.
Уютный маленький городок с нарядными витринами напоминал улей, в котором все пришло в возбуждение. Мальчишки, выкрикивая каждый свое, бежали, не задерживаясь, швыряя номер на ходу и ловко подхватывая монету.
Турист развернул прилипавший к пальцам свежий газетный лист. Да, ультиматум, и ответ должен быть дан не позже послезавтра; условия почти невыполнимые. Миру брошен грубый вызов, Европа на краю катастрофы.
Магазины были еще открыты. Турист подумал, что ему понадобится тетрадь для записей. Он дошел до писчебумажной лавчонки. Зазвеневший колокольчик исполнил мелодию из шести звуков. Хозяин с сочувствием наблюдал, как протискивается внутрь через узкую дверь человек с рюкзаком.
– Вы, как видно, издалека?
– Ну да, из Берлина.
– О-о… Можно себе представить, что творится у вас. Хозяин спросил, чем может быть полезен покупателю.
– Мне тетрадь нужна, только основательная, потолще.
И стал выбирать из того, что положил на прилавок хозяин.
Тем временем мысли его вращались вокруг ультиматума. Зачем в таком случае кайзер направился к берегам Скандинавии? Что это за уловки? Или австрийцы ринулись в авантюру сами, не посчитавшись ни с кем? Впрочем, на кухне войны блюда всегда готовятся втихомолку, лишь главный повар знает, что и когда поспеет.
Наконец он выбрал плотную тетрадь в темном коленкоре.
– Сынишке покупаете?
– Вернее сказать, для себя. – Покупатель усмехнулся: – Записи, которые делаешь по свежим следам событий, потом бывают весьма полезны.
– О-о, без сомнения!
– Это, если хотите, живые свидетели происходящего. – Он заплатил, кивнул на прощанье и направился к выходу.
Опять колокольчик сыграл свои шесть простеньких звуков и замолк. Хозяин, смотря вслед необычному посетителю, думал: примета хорошая – в такой беспокойный час в лавочке все-таки кто-то появился.
А его посетитель, один из виднейших руководителей социал-демократов Германии, Филипп Шейдеман, призванный историей к выполнению своей миссии, расспросил, как дойти до вокзала, и зашагал туда, чтобы с первым же поездом вернуться в Берлин, куда его призывал высокий долг партийного руководителя.
III
Здание рейхстага выделялось среди окружавших его домов своей тяжелой монументальностью. Центральный портал с колоннами, венчавшая его купол башня, две меньшие башни по краям, высокие окна первого этажа – все было в нем симметрично.
Коллонтай подошла к депутатскому входу и без колебаний взялась за медную ручку двери. После того, что она наслышалась, все показалось здесь полным представительности и спокойного благообразия.
Церемонный швейцар в ливрее шагнул навстречу ей:
– Ах, фрау Коллонтай? Пожалуйста! На вас ведь запрет не распространяется? Я полагаю, так… В какое тревожное время изволили прибыть!
Он обратился к ней с той почтительной приязнью, с какой встречал завсегдатаев, постоянных гостей.
– Из фракции кто-нибудь есть?
– Все в полном составе: заседают, с утра заседают.
Коллонтай была тут одно время своим человеком, близким к фракции социал-демократов. Ему и в голову не пришло, что все переменилось и она теперь прежде всего чужестранка.
В коридорах было пусто. Первый, кто встретился ей, был заметно состарившийся за время, что она его не видала, маленький седой Карл Каутский, представитель центристского направления социал-демократии.
С рассеянной любезностью он протянул к ней обе руки.
– Какие скверные времена пришли! Кто мог бы подумать… Германия воюет! Одна против всех стран Антанты!
– Но с вами Австро-Венгрия, Турция!
– Увы, тяжесть неминуемых ударов падет главным образом на нас. Совещание там, в боковом секторе, вы ведь знаете где. – И двинулся дальше, озабоченный, погруженный в свои думы.
Свернув в боковой коридор, Коллонтай оказалась в холле, где расхаживало много народу. Заседание фракции затянулось: то один депутат, то другой выходили сюда.
Ее приветствовали как старую знакомую, однако она уловила и недружелюбные, косые взгляды.
– Коллонтай среди нас – как это так? – донесся чей-то враждебный голос – Странно, кто ее допустил?
Депутат Гере, которому она стала говорить о бедственном положении русских в Берлине, слушал так, будто слова ее доходят сюда из другого мира. Полиция чинит препятствия, денег не меняют, марок не оказалось почти ни у кого…
– Что поделаешь, – прервал ее Гере, – трудности неизбежны, ведь и мы, немцы, страдаем тоже.
– Но никто из коренных жителей не поставлен же вне закона!
– Ну еще бы: здесь как-никак наша родина!
После нескольких минут разговора она почувствовала себя почти как в уличной толпе. Ее охватило сознание отъединенности.
– И бессмысленные аресты вы тоже готовы оправдать?!
– Тут я сказать ничего не могу, – рассудительно отозвался Гере. – Это исключительно в компетенции оберкомандо.
– Разве «Форвертс» не обязан был выступить против нелепых варварских притеснений?!
Гере уклончиво повторил:
– Я посоветовал бы вам обратиться прямо в оберкомандо.
– Там и разговаривать с русской не станут!
– Но почему же? Мы европейская передовая страна. Наши военные, во всяком случае, достаточно вежливы.
Уклончивость Гере объяснялась тем, что именно в эти часы решался вопрос самый важный и роковой – об отношении социалистов к войне. В кулуары проник уже невероятный слух, будто социалисты определили свою позицию в поддержку войны.
На лицах можно было прочитать замешательство, решимость, неловкость, скрытое торжество. Двое депутатов явились в военной форме, предпочтя определенность всяким спорам. Их вид выражал готовность разить врага.
– Никаких колебаний, никакой рефлексии, – усмехнулся Гере, посмотрев в их сторону. – Все решено. Пожалуй, позавидуешь им.
– А социалистические убеждения – как быть с ними?!
– Я говорю только, что их можно понять. Когда противник в воротах твоей страны, поступаешься самым важным… И потом, согласитесь: защищая себя, немецкий рабочий будет сражаться и за всеобщие интересы.
– Когда же это бывало в истории, чтобы, стреляя друг в друга, рабочие защищали и противника и себя?!
Вокруг собралось несколько человек. Они молчали, но сочувствие их было не на стороне Коллонтай.
– Лично я стрелял бы во всякого, – вызывающе заявил один, – кто ослабляет волю рабочего класса.
Немного шокированный такой прямотой, Гере возразил:
– Ну, это уже слишком. Разговор у нас чисто теоретический.
– Вот и надо расстреливать, чтобы такие разговоры не распространялись дальше!
Готовый к прямым действиям молодой социал-демократ был одет в военную, с иголочки, форму. В его светлом и жестком взгляде не было колебаний, одна лишь готовность действовать.
Из помещения фракции вышел старый ее знакомый, высокий, представительный человек. Оставив Гере, Коллонтай шагнула к нему.
– Товарищ Гаазе, у меня сегодня сына арестовали. Не призывного возраста, и все равно увели…
– Поистине мрачные времена, – сочувственно отозвался он. – Куда увели, не сказали?
– Говорят, их будут переправлять в особые лагеря.
Он смотрел на нее с сожалением. Пятидесятилетний, с бородой пророка, он признавал, казалось, свою нравственную сопричастность происходящему.
– Как все печально… Но что можно предпринять? Просто ума не приложу!
– Я пыталась втолковать им, что он не призывного возраста. Где там, не слушают…
– Глупо, нелепо… Вообще-то с нами стали считаться больше, перед нами даже заискивают. – Сказано это было не без усмешки, но в глазах его промелькнуло тщеславие.
– Так, может, фракция вмешалась бы? Или газета подняла бы голос?
Гаазе смотрел вдаль, словно взвешивая что-то.
– Первые дни войны, а социалисты начнут выступать против простейших функций военной власти; да еще при таких настроениях народа…
Коллонтай рассматривала его строгое лицо, на котором было написано желание оправдаться; знакомое уже отчуждение охватило ее.
И тут она заметила еще одного депутата: худощавый, с немного вздернутой головой, в пенсне, с лицом умным и нервным, он вышел из помещения фракции явно расстроенный и повернул в сторону, будто желая скрыться от всех.
Коллонтай нагнала его.
– Карл… Он обернулся:
– Вы здесь?! Вот странно, даже не верится.
– Мне нужна ваша помощь, Карл.
– Помощь? Ну, конечно, если я только смогу. Скоро должны объявить перерыв. Или я вам нужен сейчас?
– Я подожду, – сказала она.
Карл Либкнехт попросил ее рассказать суть дела. Во взгляде его была пристальность человека, привыкшего слушать. Он вникал, казалось, в каждое ее слово. Уж его-то убеждать не пришлось.
– Это гнусно, и действовать надо немедленно. Слишком большой подарок мы сделаем, если будем замалчивать их делишки… Так вы меня подождете?
– Разумеется, Карл!
Она отошла к окну, непричастная к тому, что творилось вокруг: наблюдатель, но отнюдь не союзница, почти посторонний человек.
IV
В знаменитом кенигсбергском процессе 1904 года обвиняемых защищали Либкнехт и Гаазе. Несколько немецких социал-демократов были привлечены к суду за то, что помогали русским переправлять на их родину нелегальную литературу. Собственно, по немецким законам их нельзя было привлекать к ответственности: соответствующей конвенции между Германией и Россией не было. Но русский консул Выводцев взял на себя неблаговидную миссию: сделал переводы нелегальных брошюр и препарировал так, что содержание их прозвучало угрозой и вызовом как для России, так и для Германии.
Либкнехт и Гаазе, блестящие адвокаты оба, сумели повести судебный разбор по пути, не предусмотренному властями. В материале, представленном Выводцевым, и русские, и помогавшие им немецкие социал-демократы выглядели чуть ли не бандой анархистов-громил. Либкнехт же раскрыл, против чего борются русские, и убедительно доказал, что суд имеет дело не со злодеями заговорщиками, а с самоотверженными борцами. Кроме того, он потребовал, чтобы переводы Выводцева, как слишком сомнительные, были сличены с оригиналами.
Несколько дней в суде шло чтение гневных статей, ничего общего не имевших с фальшивкой Выводцева. Судебный зал, против воли судей, обратился в трибуну революционной агитации. Стало ясно, что услужливый консул подтасовал все грубо и неуклюже.
Судьи сидели, опустив головы. Вдохновители процесса оказались в условиях очень невыгодных – приходилось выпутываться из положения, в какое их завела низкопробная подделка.
Кенигсбергский процесс принес социал-демократам огромный успех. Имена Либкнехта и Гаазе были подняты высоко левой прессой Германии.
…Десять лет пронеслись, как одно мгновение. Тогда оба имени стояли рядом. А теперь? Не избирал ли каждый в этой трагической обстановке свой путь и не разошлись ли их пути уже в первые дни?
Вообще в социал-демократической фракции происходило что-то очень серьезное и, возможно, непоправимое.
Когда руководители фракций рейхстага с участием канцлера утверждали порядок открытого заседания, все, казалось, было предусмотрено до мельчайших деталей. Но по одному пункту чуть было не разошлись.
После декларации канцлера и выступлений партийных лидеров рейхстаг должен был провозгласить «Hoch» императору. Социал-демократы согласились уже на многое, но стать участниками монархической акции не пожелали. Единство, возникшее в час опасности, грозило распасться. Тогда Филипп Шейдеман, мастер компромисса, внес предложение:
– Если бы коллеги со мной согласились… – Он помедлил. – Что, если бы рейхстаг провозгласил «Hoch» не одному только кайзеру, а, скажем, кайзеру и нашей родине? – И посмотрел на социалистов. – Нам надо самим сочетать достоинство партии с интересами нации.
Гаазе собрал в кулак бороду и недовольно поморщился. Однако Шейдеман понял, что, несмотря на все свои протесты, несогласия и даже угрозы, против большинства он не пойдет. А за Эберта вообще можно быть спокойным.
– Итак, коллеги, – уточнил Шейдеман, – готовы ли вы поддержать меня?
Канцлер Бетман-Гольвег заметил с облегчением:
– Предложение мудрое, господа, и по духу своему компромиссное. Я думаю, к нему присоединятся все?
Честь предложенной формулировки осталась, таким образом, за социалистами. Это отвечало той новой роли, которую история возложила на них: из партии оппозиции они становились партией сотрудничества с правительством. Шейдеман не напрасно прервал свой отпуск и вернулся в Берлин.
Правда, Гаазе и небольшая группа левых пробовали вначале возражать, но их возражения серьезной опасности не представляли. Убедить их, склонить, наконец, сломить оказалось делом нетрудным. Именно Гаазе пусть и прочитает декларацию социалистов в рейхстаге, чтобы пути к отступлению для него были отрезаны окончательно.
Иное дело Карл Либкнехт, тот занял позицию непримиримую. На заседаниях фракции он нападал, громил, изобличал. И кого? Большинство, явное большинство! Это вызывало ответное возмущение.
– Товарищи с большим авторитетом посчитались с нашим мнением. Да, мы патриоты, мы готовы к защите отечества! А он?! Кто дал ему право клеймить нас всех? Что за самонадеянность! – кричали отовсюду.
В небольшом зале, где фракция заседала не первый уже день, царило сильнейшее возбуждение.
– Не желает быть с нами, пускай убирается! – выкрикнул один из тех, кто уже облачился в военную форму.
Шейдеман постарался ввести разгоревшийся спор в русло пристойности:
– Мы не в силах заставить его принять платформу, на которой объединились все. Зато фракция может потребовать, чтобы уважалась воля большинства. Вряд ли у товарища Либкнехта хватит смелости пойти против всех.
– Вы предаете социализм, перечеркиваете наши интернациональные обязательства! Это прямая измена рабочему делу!
С выражением терпения и выдержки Шейдеман произнес:
– Итак, товарищи, будем голосовать?
Он знал, на чем можно сыграть. В семье Либкнехтов понятие дисциплины почиталось незыблемым. Отец Карла, Вильгельм, один из создателей партии, в самые тяжкие годы, когда Бисмарк загнал социал-демократов в подполье, не раз повторял, что воля партийного большинства священна и ей обязан следовать каждый.
…Объявили перерыв. Либкнехт, вконец расстроенный, весь еще в пылу яростных споров, вышел к Коллонтай.
На улице он первое время молчал. Рядом шла единомышленница, интернационалистка, ее взгляды были ему давно известны.
– Я должен вам сделать одно признание, – не выдержал Либкнехт.
– Признание, Карл? Какое?
– Я принужден буду голосовать за военные кредиты…
– Вы?! – Это прозвучало так неожиданно, что она даже остановилась. – Вы, такой последовательный во всем?!
– Я боролся, как мог… но все, кто был со мной, отступили один за другим.
– Карл, но ведь это противно вашим взглядам!
Ответный жест означал ожесточенность и бессилие.
Улицы были переполнены толпами. Демонстрации с флагами шли и шли, победно гремели оркестры. На углу Вильгельмштрассе толпа обступила столики, стоявшие прямо на улице, – гимназисты, чиновники, даже пожилые люди. Шла запись добровольцев.
Либкнехт прищурился, снял пенсне. Болезненная напряженность взгляда стала еще заметнее.
– Народ, сплотившийся вокруг трона, – инсценировка, достойная великого режиссера Макса Рейнгарта… Еще на прошлой неделе по этим же улицам шагали антивоенные демонстрации. В общем, игра проведена ловко: сами подвозили бочки с горючим, а когда пожар разгорелся, стали вопить, что поджог сделан другими.
Если бы не его признание!.. Оно стояло сейчас между ними.
Немного погодя, чувствуя это, он заключил сам:
– Вот так, Александра Михаловна: сегодня мы разваливаем Второй Интернационал. – И надел пенсне, словно бы заслоняясь от враждебного мира. – Партия помешалась, целая партия…
– Коллектив может сбиться с пути, но помешанным не бывает, – возразила Коллонтай.
– А это?! – жест в сторону демонстрации. – Разве не коллективное помешательство? Не психоз одураченных масс?
Трубили горнисты, подростки в военной форме выбивали на маленьких барабанах частую дробь. Но не шум, не мерное цоканье лошадей угнетали, а решимость, выгравированная на лицах.
Будто освобождаясь от наваждения, Либкнехт сказал:
– Но последнее слово не сказано, нет! Посмотрим, кто его произнесет… Идемте скорее. Я обязан еще присутствовать на комедии единства, которую разыграют сегодня по сценарию канцлера.
Подошли к массивному серому зданию оберкомандо.
Дежурный, к которому они обратились, предложил подождать, но сесть не предложил. Либкнехт принес стул для Коллонтай сам, затем зашагал по большой приемной, кривя губы.
Подошел адъютант и строго произнес:
– Здесь расхаживать не положено.
– А депутату рейхстага ожидать в качестве просителя?!
– Последнее вряд ли существенно… Вы будете приняты в свое время, потрудитесь подождать.
– Мы только тем и занимаемся, что ждем!
Он зашагал с прежним упорством, но несколько тише. Военные с враждебным недоумением оглядывались на обоих посетителей. Словно безупречно работающий механизм мог пострадать от этих попавших в него песчинок.
Наконец они были приглашены к дежурному генералу. Он сидел за огромным столом, прямой как столб; вынул из глаза монокль, прищурился и уставился на вошедших.
– Я, депутат рейхстага Либкнехт, сопровождаю русскую даму, ставшую жертвой несчастного стечения обстоятельств – она застряла в Берлине, ее лишили возможности выехать.
– В таком положении многие, – бесстрастно ответил генерал.
– Но ее сын не призывного возраста арестован и уведен сегодня неизвестно куда.
– Не он один. Арестованы все, кто показался полиции подозрительным.
– Я все же прошу, чтобы госпоже Коллонтай были предъявлены доказательства виновности ее сына.
– Повторяю: раз арестован, значит, показался органам власти подозрительным.
– Юноша, ни в чем не замешанный, ни к чему не причастный?!
– Если сын госпожи Коллонтай, как вы утверждаете, невиновен, его рано или поздно освободят. Или, если будет сочтено полезным, изолируют в числе других. Рано или поздно.
– Простите, – возразил Либкнехт. – Тут очень существенная разница – произойдет это рано или поздно?
– Таким педантизмом мы себя не обременяем, господин Либкнехт. Германия воюет, и у нее есть дела поважнее!
Он поднялся, отлично вытесанный, идеально прямой, дожидаясь, пока посетители покинут его кабинет. На улице Либкнехт раздраженно откашлялся.
– Вот воплощение системы, на службу которой идут наши соци! – Затем с жаром добавил: – Только не считайте, что визитом сюда исчерпаны наши хлопоты. Я ведь тоже упорный и с подобными господами имею дело давно… Они лишены чести и совести, притязания у них огромные и вертеть страной будут, пока их не разобьют вдребезги.
– Вы верите в это, Карл?
– Их победа означала бы торжество пруссачества, мракобесия, – это было бы просто ужасно!
Напоследок он сказал:
– Но немцы не все такие тупицы, и кодекса дружбы и братства мы не забыли. Приходите к нам – пожалуйста, непременно: мы с Соней будем вас ждать.
Либкнехт приподнял шляпу и с подчеркнутой твердостью пошел обратно к рейхстагу, где его ждало самое тяжкое испытание дня.
V
Все готовилось в превеликой тайне. Задача стояла нелегкая: застигнуть врасплох противника, а немецкий народ убедить в том, что войны Германия не желала и она ей навязана.
От канцлера Бетман-Гольвега потребовалось много ловкости и искусства, чтобы завлечь в русло имперской политики всех, включая социал-демократических вожаков.
В конце июля в Берлине вспыхнули демонстрации. Одна за другой следовали колонны рабочих, выкрикивая лозунги против правительства. Двадцать пятого июля Форштанд, главный штаб социал-демократов, осудил ультиматум, предъявленный Сербии Веной. Политику Австро-Венгрии он назвал легкомысленной и провокационной, а сам ультиматум беспрецедентным. Но дальше этих деклараций руководство социал-демократии не пошло.
В дни июльских уличных демонстраций Вильгельм II, любивший делать заметки на полях донесений, написал:
«Если это повторится, я объявлю осадное положение и прикажу арестовать всех без исключения вожаков… Мы не можем в настоящий момент больше терпеть никакой социалистической пропаганды!»
Прошло всего несколько дней. Умело приготовленное блюдо военного шовинизма поспело, запах его приятно ударил в нос. В день объявления войны Вильгельм с балкона дворца мог наблюдать ликующие толпы людей, готовых сражаться за него. Он произнес пылкую речь и заявил, что для него нет больше партий, а есть немцы, готовые пожертвовать всем для спасения страны. С балкона выступал отец своих подданных, заботливый попечитель, отправляющий сыновей на фронт. Кому пришли бы на память его давние выступления!
Когда-то, в дни рабочих волнений в Аугсбурге, Вильгельм II заявил: «Пока солдаты не выведут из рейхстага социал-демократических вождей и не расстреляют их, надеяться на улучшение положения нельзя. Нам нужен закон, по которому можно было бы каждого социал-демократа сослать на Каролинские острова».
Предшественник Бетман-Гольвега, канцлер Бюлов, не раз бывал свидетелем вспышек кайзера или слышал о них от других.
«Все люди свиньи, – заметил однажды Вильгельм. – Сдерживать их и управлять ими можно только четкими приказами». Своих главных противников он видел в социал-демократах и рассматривал их как банду неистовых заговорщиков и поджигателей.
В начале века, когда в Китае был убит германский посланник, Вильгельм, отправляя войска для карательной операции, выступил с такой речью:
«Пощады не давать, в плен не брать! Как тысячу лет назад при короле Этцеле гунны оставили память о своей мощи… точно так и теперь имя немцев в Китае должно запомниться на тысячу лет, чтобы китайцы не смели никогда даже косо взглянуть на немца».
Бюлов, тогдашний статс-секретарь иностранных дел, обязал журналистов без его визы не публиковать речь кайзера. Но один из них ухитрился застенографировать ее всю. В тот же вечер она появилась в газете ближнего городка Вильгельмсгафена.
Вильгельм благодушно курил сигару, когда появившийся Бюлов положил перед ним газету.
– А-а, превосходно! Вот так и должны действовать настоящие журналисты!
– Ваше величество, ведь в вашей душе живут чувства, присущие лучшим людям христианской цивилизации, – тихо и твердо заметил Бюлов.
– Ну да! И что же?
– Подумайте о впечатлении, какое ваша речь произведет в мире.
– Любой противник вынужден будет впредь считаться с нашей мощью и нашей решимостью.
– Вы говорили, ваше величество, о беспощадности, о политике огня и меча… Это может сильно нам повредить.
«Если миллионы людей на всех языках называли гуннами добрый и благородный немецкий народ, – писал много лет спустя Бюлов, – …то это было последствием злосчастной речи, которую Вильгельм II произнес в Бременгафене».
С той поры прошло четырнадцать лет. Сейчас кайзер имел право радоваться единодушию нации. Убежденный в победе Германии, он развязал мировую войну. Впрочем, в ее подготовке участвовали обе стороны в равной мере.
Но август четырнадцатого года открывал, казалось, перед немцами широчайшие перспективы. В это верили не только те, кто стоял у власти: веру сумели внушить и народу. Предстояло лишь внести в фонд победы миллионы жизней.
VI
Стремление к захватам новых земель Германия показала с первых лет нового века. Она создавала флот, лишавший покоя Англию, а ее промышленность досаждала всем конкурентам.
Союзница Австро-Венгрия, разноземельная и разнонациональная, тоже старалась прихватить то, что плохо лежит. В 1908 году она отняла у Турции Боснию и Герцеговину. Когда Сербия попробовала заявить на них свои претензии, от нее в самой унизительной форме потребовали отказа от каких-либо притязаний.
Россия, у которой были традиционные интересы на Балканах, взяла, конечно, сторону Сербии. Война всех против всех готова была вспыхнуть вот-вот. Но и тогда и позже, в 1912 году, когда война чуть было не разразилась, стороны были еще не готовы. Огонек, однако, бежал по шнуру, приближаясь к пороховой бочке.