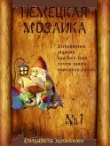Текст книги "Немецкая трагедия. Повесть о Карле Либкнехте"
Автор книги: Осип Черный
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
Уже вчера, повидав кое-кого из тех, с кем он установил прежде связь, Либкнехт убедился, что линию информации, словно невидимый подземный кабель, удалось проложить. Гуго Фриммель, с которым у него было несколько встреч в начале зимы, на этот раз выглядел более бодрым. Он заговорил сам, и не без охоты, что нужный пропагандистский материал, с которым им, активистам, легче работать, в последнее время появился.
– Много ли у вас активистов?
– Ты меня извини, Карл, но даже тебе я не могу сообщить точных цифр. Скажу только, что с тех пор, на к мы виделись, количество возросло сильно.
– А профсоюзные функционеры продолжают по-прежнему жать на вас?
– Это их должность, их хлеб. Но мы времени не теряем тоже.
Поговорили более или менее обстоятельно, хотя Карл торопился, и это было заметно, и Фриммель остался этим недоволен.
– Ради бога, прости меня, – сказал напоследок Либкнехт, – но я должен держать речь в ландтаге, а у меня не все сведения в руках.
– До нас твоя речь дойдет?
– Думаю, да; не сразу, конечно… Газеты если и упомянут, то двумя-тремя словами, притом самого скверного свойства. И все же дойдет, очень на это надеюсь.
– Важно, чтобы доходило все. Рабочему надоело читать то, что он видит в газетах. Он начинает шевелить мозгами сам, и ему надо знать, что происходит на самом деле. Победа, победа… О победе не перестают писать, а он видит только лишения. Одно стало хуже, другое, третье… Ему объясняют, что это неизбежное следствие войны. Но он стал сомневаться: а на какого лешего война, которая тянется, тянется и которой не видно конца? Если уже теперь стало настолько хуже, что же будет, думает он, через год или два? Вот тут и нужен агитационный материал.
– Я тебя понимаю, – сказал Карл, – и поверь, все будет делаться, чтобы он до вас доходил.
С ощущением того, как важна любая речь, направленная против войны, он подходил к парадному зданию ландтага – парламента Пруссии.
Социал-демократическая фракция была здесь малочисленна и не играла той роли, как в рейхстаге. Он был и тут одинок, союзников у него не было.
Он быстро прошел к трибуне. Как концертмейстер в оркестре, направив взор на дирижера, ждет первого взмаха, так Либкнехт, потребовав слова, ждал той минуты, когда можно будет начать. Поблескивая пенсне, выбрасывая вперед правую руку, он стал кидать в зал слова страстного обличения.
Перед владельцами тучного свиного поголовья, хорошо раздоенных коров и крепких рысистых лошадей Либкнехт клеймил пруссачество и немецкую буржуазию, их готовность лить кровь во имя собственного благополучия.
– Вы, господа, всегда были верны себе. Говоря о счастье народа, имели в виду прежде всего себя. Ваше благополучие народ обязан был всегда принимать за собственное. Он гнет спину, отдает свои жизни, а доходы со всего снимаете вы!
Депутаты были ошарашены. В то время как их сыновья и зятья сражаются на фронте, водя батальоны и роты в атаку, этот адвокатишка, которого выше, чем на солдатскую работу, не взяли, – этот крикун твердит о бессмысленности бойни!
Речь Либкнехта звучала неслыханно дерзко. Они начали колотить по пюпитрам, орать и топать.
– Изменник! К суду военного трибунала! Долой! Л он с той горячностью, которая от пребывания на фронте стала еще горячее, требовал прекратить ложь гнусных захватнических притязаний, прикрытых словами о защите отечества.
Домой Либкнехт вернулся измученный еще больше, чем на фронте, будто ему пришлось перетаскивать на себе бог знает какие тяжести.
Но эта тяжесть была по нему, соответствовала его душевным силам, и он готов был обрушить ее на противника, рассчитав направление удара.
Такой же крепкий удар Либкнехт намерен был нанести на очередном заседании рейхстага. Предстояло утверждение новых кредитов, и Либкнехт готов был вновь произнести свое «нет!». Оно, разумеется, не прозвучало бы столь оглушительно, как в первый раз, но свое дело должно было сделать. Тем более, что заседание фракции показало, что у него наконец появился союзник; депутат Отто Рюле тоже решил поднять руку против военных кредитов. А большая группа членов фракции, не осмелившаяся выступить открыто, предупредила, что покинет зал в ту минуту, когда начнут голосовать.
VII
Фронт социал-демократов давал первые трещины. Во время той же сессии, на заседании фракции, депутат Гаазе выступил с едкой речью. Он даже не заикнулся о самообороне, о которой без конца твердили социалисты с начала войны. Да и уместно ли было говорить о ней, если немцы захватили столько чужих земель! Правительство и не думало возвращать эти земли обратно: наоборот, все чаще говорилось о праве пересмотреть прежние границы.
Крен Гаазе влево настораживал. В том, что Либкнехт громит руководство, ничего нового не было. По отношению к нему меры были уже приняты, поэтому его и держали подальше в окопах, и отпускали в Берлин в крайних случаях. Так молчаливо порешили и в имперском кабинете, и во фракции социал-демократов. Но Гаазе надо было деликатно прибрать к рукам.
Как и в начале войны, Шейдеман вовремя подсказал ход.
– Нужны лишь кое-какие уточнения в духе большинства, тогда ваше выступление можно будет принять за основу.
– Но в том-то и дело, что я вашей точки зрения не разделяю! – возразил Гаазе.
– Вы достаточно дисциплинированны, чтобы посчитаться с большинством. Ведь у нас коренных расхождений нет: крен, небольшой крен… Чуть-чуть выровнять. Мы просим вас внести исправления, вернее сказать, уточнения, и ваши мысли положим в основу платформы фракции.
– Постойте, постойте… – Гаазе тряхнул бородой и, вскочив, запальчиво произнес: – Я утверждаю, что цели, во имя которых Германия вступила в войну, достигнуты. Несмотря на это, борьба продолжается. Значит, одно из двух: либо появились новые цели, либо война никому но нужна и мы обязаны первыми протянуть руку мира.
– Не обманывайте себя, – сказал Либкнехт, иронически усмехнувшись. – Цели те же, что и вначале: захватнические, империалистические.
Шейдеман нетерпеливо помотал головой, как будто отгоняя муху; затем обернулся к Гаазе:
– Из того, что правительство не огласило декларации о целях воины, нельзя еще делать вывод, будто оно что-то скрывает. Стать на такой путь мы не можем, надо подождать.
– Сложа руки?!
– Готов уточнить, чтобы вам было спокойнее. И может быть, товарищу Либкнехту тоже будет легче проявить хоть каплю выдержки… – Он покосился небрежно на строптивого депутата и продолжал: – Не сложа руки, как вы говорите, а, наоборот, настойчиво требуя, чтобы цели войны были оглашены. Устраивает вас?
Гаазе шумно вздохнул:
– Вы мастер ставить вопросы с ног на голову, знаю!
– Не больше, чем вы. Я ведь не говорю, что у нас с вами не может быть несогласий. Я только утверждаю, что причин для серьезных расхождений пока нет.
Эберт сидел хмурый. Выпятив губы, он скучно раскачивал массивное пресс-папье.
– Пустое препирательство, – буркнул он. – И находятся же охотники до словопрений в такое время!
– Ты неправ, – возразил Шейдеман. – Это вопрос большой важности.
Он считал, что Эберт нечуток к тонкостям политической тактики.
Обстановка во фракции таила в себе нечто такое, что надо было вовремя оценить. Даже незначительное сопротивление основной линии грозило расколом. Шейдеман с яростью наблюдал за Либкнехтом, не скрывавшим удовлетворения, когда один за другим депутаты заявляли, что за кредиты голосовать на этот раз не будут.
– Так вы что же, коллеги, намерены последовать пагубному примеру Карла Либкнехта?!
– О нет, – выкрикнул тот, – можете быть спокойны, так далеко они не пойдут! Пока что. Я подчеркиваю – пока!
– Неужели же вы не видите, что вы тут полностью изолированы? – обратился к нему Шейдеман, смотря на него уничижающим взглядом.
– Не полностью, нет, – неожиданно объявил дрезденский депутат Отто Рюле. – Я буду тоже голосовать против.
Так, довольно печально для руководства, закончилось заседание фракции. Фридрих Эберт долго ворчал потому что Шейдеман напрасно миндальничал. Шейдеман же считал, что его совесть чиста: все, что было можно, он сделал; стремясь удержать на наклонной плоскости неустойчивых членов фракции, проявил максимальную выдержку.
VIII
Из тюрьмы Роза Люксембург писала, что каждое выступление Либкнехта означает для правящих классов черный день.
Хотя он понимал, что важнейшим местом борьбы окажется вскоре не рейхстаг и борьба будет перенесена на заводы, в гущу рабочих масс, однако для своих выступлений старался использовать любую возможность.
Надо было позаботиться и о том, как сделать устойчивой связь с недовольными – теми, кто все больше задумывался о положении страны.
На свободе оставалась небольшая, по сильная группа единомышленников – Вильгельм Пик, Юлиан Мархлевский, Лео Иогихес, Кете Дункер и Герман Дункер. Каждый из них недвусмысленно определил отрицательное отношение к войне. За плечами у них были годы партийной работы – у кого больше, у кого меньше, но облик каждого был ясен и политический почерк достаточно четок.
Признанным патриархом группы можно было считать Франца Меринга. Ему было уже под семьдесят. Годы брали свое, он часто хворал и тем не менее принимал живое участие в деятельности левой группы.
Раза два он посетил Люксембург в тюрьме. Седой, бородатый, представительный, профессор с виду, он внушал доверие. Тюремщики принимали его за родственника заключенной и вовсе не знали, сколь он опасный противник режима, который они охраняют.
Присутствуя при свиданиях невысокой, слабой здоровьем женщины и такого солидного старого человека, они меньше всего могли заподозрить его в злом умысле.
Меринг расспрашивал Розу, как она себя чувствует, выходит ли на прогулки, довольна ли книгами, которые получает. О каких-то записках к родственникам упоминалось вскользь.
– Почему они молчат? Я же просила ответить!
– Насколько я знаю, ответ был послан.
– Но я его не получила!
– Кузины Кете и Клара постоянно справляются о твоем здоровье.
– Лучше бы позаботились о моей библиотеке!
– Ни один листок из нее не пропал.
В утомительной для чужого слуха словесной будничной вязи мелькала ниточка одного какого-то тона, которую оба старались не упустить. Когда она вдруг исчезала, Роза с тревогой задавала новый вопрос, который помог бы ей разобраться в запутанном положении.
– Так я жду! – Она протянула ему свою руку.
Он пожал ее с заботливой, почти отеческой неторопливостью, словно хотел удержать тепло руки, запомнить силу ее пожатия.
Уже выйдя за ограду тюрьмы, Меринг, державший руку так, точно, изменив ее положение, потревожил бы память о Розе, осторожно сунул ее во внутренний карман пиджака.
Дело затеялось не вчера, оно велось вот уже две-три недели. Роза напрасно нервничала, опасаясь, что ее усилия принимаются во внимание недостаточно. Наоборот, предпринималось кое-что немаловажное, обещавшее дать плоды в ближайшее время.
Вскоре к Мерингу явился неуловимый Лео Иогихес, самый таинственный человек в их группе – не по тому, как себя вел, а по тому, как умел неожиданно исчезать. Энергичный, с суровым строгим лицом и металлическим взглядом, Иогихес оказался в нелегальных условиях организатором незаменимым. Истинным его призванием была конспирация. Такой хладнокровный и смелый человек был теперь нужен небольшой группе левых как воздух.
Когда они заперлись в кабинете, Иогихес сказал:
– Кое-что получается. Журнал удастся, кажется, напечатать. Но материалы, где материалы?
– У меня две статьи Розы…
– Ого, даже две?!
– Вторая будет подписана псевдонимом Мортимер.
– Так… А Карл прислал что-нибудь?
– Пока нет. Сделаем все возможное, чтобы получить от него.
– Время не терпит: нельзя упускать благоприятного случая.
– А типография? Удалось договориться?
Они пробовали было связаться со Штутгартом, городом книжников, но Цеткии дала оттуда знать, что власти шарят повсюду и вряд ли там что удастся. Попробовали и в других местах.
– Типографию я найду, – сказал Иогихес твердо. – Надо, чтобы весь материал был собран. Название для журнала придумано?
– Мы с Розой думали. «Интернационал» подойдет?
– Это удачно, мне нравится. Боюсь только, что, пока будем ждать статью от Карла, сорвется с печатанием.
Иогихес был моложе Меринга лет на двадцать, но тот в каком-то смысле принимал его руководство, признавал в нем твердую волю организатора.
– Есть еще статьи Клары, Кете Дункер… Да и я напишу, разумеется, – сказал Меринг.
Так появился на свет журнал с немыслимо вызывающим названием – «Интернационал» – в стране с осадным положением и разрушенными международными связями.
От Либкнехта материал так и не удалось получить. Наиболее значительными и важными в нем оказались статьи Люксембург и Меринга. Они заключали в себе не только полный идейный разрыв с правой социал-демократией, но и разгром центриста Каутского. Каутский был назван Розой вождем «болота», который готов прибегнуть к любым софизмам, только бы оправдать войну и предательство социал-демократов. В статье же, подписанной Мортимером, Роза Люксембург с бичующей едкостью изобличала попытки Каутского «усовершенствовать» империализм. Она сравнивала их с наивным намерением обрезать когти у тигра и после этого доказывать ему, будто в его же интересах начать питаться овощами и медом. Меринг вскрыл жалкие увертки правых социал-демократов, которые измену решениям и духу Штутгартского и Базельского конгрессов пытаются оправдать ссылками на позицию Маркса и Энгельса в оценке войн прошлого века.
Выход «Интернационала» весной пятнадцатого года явился крупнейшим событием в революционном подполье Германии. Ускользнуть от внимания властей он не мог. Как только журнал отпечатали в Дюссельдорфе, за ним началась охота, экземпляры немедленно изымались. Продолжить издание так и не удалось.
Но дело было сделано. В «Интернационале» прозвучала неумолимая правда о происходящем, та правда, какая была возможна на исходе первого года войны.
IX
Первого мая в Вогезах, на Западном фронте, на одной из вышек, уцелевших в зоне военных действий, взвился дразнящий красный флаг. Произошло это не в том батальоне, где служил Либкнехт. Установить, кто это сделал, так и не удалось. Но от опасного солдата все равно решили избавиться.
На Западном фронте шли тяжелые бои, и дух войск подвергался опасному испытанию. А тут еще Либкнехт! На востоке дела обстояли лучше, наступление вели немцы. Надо было переправить его туда.
Прощаться с Либкнехтом собралось множество народа. На дорогу притащили уйму продуктов.
– Да что вы, товарищи, куда мне так много! – говорил он. – Я же не довезу. Сейчас все по-братски разделим.
– Бери, бери, еще неизвестно, что тебя ожидает. А тут остаются друзья, запомни.
Они долго жали ему руку; хотелось, чтобы час расставания сохранился в его памяти крепко.
Ротный, сержанты стояли в стороне и неприязненно наблюдали, как провожают смутьяна. Лучше переждать, чем вмешиваться, рискуя навлечь на себя открытое недовольство. Они были рады, что освобождаются наконец от опасного человека, и предпочли быть снисходительными. Потом ротный подозвал его и хмуро сказал:
– Так вот, получите свои документы, Либкнехт. Поедете с сопровождающими.
– Это для какой еще цели?
– И вам будет спокойнее, и нам.
– Какое же беспокойство, если я больше за вами не числюсь?
– Мало ли что вам вздумается в пути!
Возле казармы стояла плотная толпа провожающих. Ротный приказал всем разойтись, а они не расходились. Либкнехт махал им рукой на прощание.
Наконец повозка двинулась. Сопровождающие уселись, один чуть не отдавил Либкнехту ногу.
– Ну, кончился этот спектакль, – заметил он пренебрежительно. – Как только не надоест людям заниматься такой ерундой! Родственник ты им, что ли? Что за проводы!
По их понятиям выходило, что кто не свой, тот чужой. Война подтачивала этот собственнический мир пока еще медленно. Вступать в разговор Либкнехту не хотелось.
– Ладно, не будем ссориться, – миролюбиво сказал он. – Жара какая, расстегнуть, что ли, воротник. – И, обнажив шею, подставил ее ветерку.
Ветерок был слабый, едва ощутимый.
Слушая рассуждения солдат, Либкнехт подумал, что с рабочими чувствует себя легко, а вот когда сталкивается с косностью крестьянина, испытывает какой-то гнет.
Отчего? Оттого ли, что собственничество ему чуждо? Тогда тем более надо смелее вступать в спор, выпускать хотя бы по капелькам гной, накопившийся у него в крови.
Это было очень важно. Его отношение к крестьянству еще не ясно, сказал он себе.
Июльское солнце стояло в небе высоко и палило безо всякого сожаления. Нигде не было видно засеянных полей, лишь клочки, небольшие участки. Крестьяне были выселены почти все. Война давала знать себя на каждом шагу: снарядные гильзы, разбросанные в траве; сломанные, без днищ двуколки; трупы лошадей, над которыми кружили птицы.
– Сколько же всего пропадает зря, подумать только! – заметил один из сопровождающих.
– А тебе что, жалко? Не наше ведь, – отозвался второй.
– Я скажу так: успех вещь ненадежная; сегодня мы здесь, а завтра нас погонят и бои пойдут на нашей земле.
– Упаси бог!
– Ты что – католик?
– Католик…
Либкнехта чуть-чуть укачало, он слышал разговор сквозь дрему и снова подумал, какое множество закостенелых понятий живет в душе крестьянина. Как одолеть их? Не разрушить сразу, нет, а хотя бы сдвинуть с вековечных оснований?
X
Он прибыл в район Двинска, в Прибалтику. Шло летнее наступление пятнадцатого года. Центральная часть фронта выдвинулась далеко вперед по направлению к Минску, фланги же продвигались мало: русские войска вели себя здесь активно, и немцам после нескольких попыток наступления пришлось перейти к войне позиционной.
Пастельные тона местности успокаивали глаз. Все выглядело более блеклым, чем на западе, без яркой сочности и изобилия, но мягче по краскам. Россия это или еще не совсем Россия? – спросил себя Либкнехт.
У него было проверенное временем прочное тяготение ко всему русскому: увидеть своими глазами, ощутить колорит и характер жизни, хотя бы немного проникнуть в тот мир, который так давно его привлекал.
Еще в 1905 году Либкнехт убежденно призывал немецких рабочих «стать под знамя русской революции». Спустя несколько лет он начал изучать русский язык: то ли чтобы понять Достоевского и Толстого в их родной языковой стихии, сделать более доступными для себя, как доступны были ему Шекспир, Стерн, Вольтер, Бомарше; то ли чтобы получить доступ к тому, что представляла собой пережившая революцию девятьсот пятого года Россия. С тех пор как он связал свою жизнь с Соней, все русское стало ему еще ближе. В сущности, каждый революционер обязан был знать как можно больше об этой стране, о ее культуре, идеях, народе.
И вот Либкнехт очутился вблизи русских земель. Работая на передовой, можно было слышать голоса с той стороны фронта. Когда лопаты или кирки стучали слишком громко или немцы, забывшись, заговаривали в полный голос, с той стороны начиналась стрельба.
Днем артиллерия и авиация старались уничтожить укрепления противника. А по ночам солдаты рабочих рот восстанавливали го, что было разрушено за день.
Свои окопы и блиндажи русские строили так же тщательно, как и немцы. Артиллерия их била метко. Война вступила в ту фазу методичного истребления, при которой конца ей не предвиделось. То, что на первом ее этапе меньше принималось в расчет – ресурсы металла, людские резервы, моральный дух масс, – получало все большее значение.
Либкнехт на собственном опыте узнал, что такое запущенность, грязь и фронтовая антисанитария. На хуторе, где разместилась рабочая рота, полно было вшей в блох. Солдаты возвращались под утро с передней линии измученные вконец. Они мечтали только поспать, хоть три-четыре часа. Но насекомые обсыпали все тело, впивались в людей.
Иной раз рота работала под прикрытием высотки, в другой – без всякого укрытия. Стоило чуть высунуть голову, как противник открывал стрельбу.
Однажды им пришлось рыть ночью окопы на старом запущенном кладбище. Ракеты то освещали их участок работ, то гасли, и все погружалось в полный мрак. Стрельба шла совсем близко. Один солдат провалился в могилу: он очутился в яме и с ужасом понял, что под ногами у него разложившийся человеческий труп.
Случалось, в окоп попадал снаряд. Убрав раненых и убитых, солдаты команды опять продолжали работу.
Новые испытания Либкнехт переносил нелегко. Вдобавок над солдатами строительной роты висела угроза, что им прикажут взять ружья и пошлют стрелять. Такой приказ мог последовать в любой час: убыль в людях была большая.
Командир роты любил даже припугнуть:
– Вот пошлю всех, и, как миленькие, начнете палить. Ишь неженки подобрались, скажите!
При этом он поглядывал на солдата в пенсне. Солдат в пенсне был у него бельмом в глазу.
Несколько раз во время ночных работ Либкнехт ухитрялся терять пенсне. Товарищи шарили вместе с ним, пытаясь найти эти чертовы стекла.
– Что еще за порядки?! Вот антимонии какие! А ну, вперед! И быстрее в окопы!
Повторялось то, что Либкнехт успел пережить на Западном фронте, но в еще более тягостном виде.
Он твердо решил, что стрелять не будет ни при каких обстоятельствах.
Однажды ротный услышал это и, озадаченный, переспросил:
– Что, что? То есть как не будешь?
– Это противно моим убеждениям.
– Как?! – заорал ротный. – У тебя есть свои убеждения?! А зачем они мне? Что я буду с ними делать?
– Дело ваше, не знаю. Но стрелять я не буду.
Командир, расставив ноги пошире, пытал взглядом берлинского сумасшедшего: понимает он или нет, что здесь существует приказ и ничего больше? Приказ, и никаких других штучек?
Ротный мог бы унизить берлинца при всех, обозвать трусом. Но он знал уже, что номер не пройдет – никто его не поддержит. Этого чудака любят все, его уважают и берегут.
– Ладно, – сказал он, – иди. Авось без твоих пуль обойдусь. Но если понадобится, не взыщи.
Либкнехт не поддавался тяготам и продолжал свое дело даже в этих условиях. За короткий час передышки или урывая время от сна, он писал очередное обращение. По первому знаку тревоги Либкнехт совал листки за пазуху или за подкладку фуражки.
Делать опять приходилось все, вплоть до рытья выгребных ям. Нравы были всюду одни и те же: наблюдать, как депутат, оратор, смутьян копает выгребную яму, доставляло начальству особое удовольствие.
Или, если на фронте случалось затишье, ему приказывали переносить с места на место навоз. Широкой лопатой, шауфелем, он накладывал его на тачку. Нагруженная доверху, как этого требовал старший, она делалась невероятно тяжелой.
Останавливался капитан. Левой рукой он поглаживал усы, не позволяя им слишком топорщиться. Он знал, кто этот человек в пенсне, со щекой, которая иногда дергается.
– Как работенка? Ничего, а?
Сочувствие в его голосе не должно было вводить в заблуждение: оттенок издевки присутствовал тоже.
– Все бы ничего, – отвечал Либкнехт с солдатским добродушием, усвоенным на фронте, – если бы мир поскорее пришел.
– Вот, значит, как… – Капитан задумчиво оттягивал свой ус. – Выходит, пока мира нет, работенка не по сердцу? Был бы мир, вам не пришлось бы возиться с дерьмом?
– Не совсем так, господин капитан. Я хотел сказать, что делал бы это с большим удовольствием, не будь войны.
Как, как? Смотрите, этот Либкнехт имеет в виду дерьмо другого рода! Но черт с ним, оставим пока без внимания.
– А то, что происходит сейчас, вам не нравится?
– Кажется просто отвратительным, господин капитан!
– Гм, странный, я сказал бы, солдат, надо будет вами заняться.
– Мною уже занимаются.
Еще раз буркнув: «Гм, любопытный случай», капитан отходил. Конечно, он знал, что солдатом занимаются.
XI
Да и могло ли остаться в секрете, что после того, как Либкнехта перевели сюда, его навестили несколько старших офицеров?
Каждый делал вид, будто в расположение роты забрел случайно; разговор заводил ненароком, щурясь и смотря вдаль.
– Интересно все же, что вы думаете о текущих событиях.
Поднявшись, Либкнехт в свою очередь переспрашивал:
– Вам угодно знать мое мнение о войне?
– Что думает наш брат, ясно: у немецкого офицера колебаний нет. А вот интеллигент, в прошлом левых убеждений…
– С убеждениями не расстаются так легко, господин майор.
– Если они ошибочны, лучше расстаться. Разве не так?
Иные офицеры, разговаривая с ним, не скрывали собственных тревог и сомнений.
– Вот вы, человек глубоко просвещенный, как вы себе представляете ход войны?
Либкнехт обычно ссылался на то, что высказал все с трибуны рейхстага.
– В газетах не было ничего, странно. Да и прошло столько времени, что положение могло измениться.
– Оно кажется мне одинаково бесперспективным и для Германии, и для ее противников.
– Но если одинаково, то сторона, у которой нервы окажутся крепче, получит преимущество?
– Разве начальство в силах управлять нервами солдат?
– До некоторой степени да…
– Ну, допустим, с солдатами оно справится. А продовольствия, угля, металла все равно же не хватит. Отсюда неминуем вывод, что, начав войну, Германия пустилась в авантюру.
– Мы принуждены были воевать в порядке самозащиты!
– Вряд ли я сумею убедить вас, но империализм и самозащита вещи противоположные.
– А вас, господин Либкнехт, переубедить разве нельзя?
– Смею уверить вас – нет!
Разговор все же продолжался. Собеседнику хотелось выпытать мнение солдата: чем же кончится, черт возьми, эта катавасия? Неужто, если война сделалась затяжной, исход ее предрешен?
Однажды побеседовать с ним пожелал один из отпрысков дома Гогенцоллернов. Он попросил разрешения у командира удалиться с Либкнехтом.
Несколько раз он повторил, что ведет разговор не щ солдатом, а с широко известным деятелем. Но рядом шли сутулый солдат в помятой фуражке и сношенных башмаках и принц в гвардейской форме полковника, в новых коричневых крагах. Всем, кто бы ни встретился, было видно, какая пропасть их разделяет. Почтительно козыряя полковнику, они с удивлением думали, о чем тот может беседовать с солдатом.
Выслушав суждение Либкнехта, принц крови помолчал.
– Согласиться с вами я не могу, вы понимаете сами. Но в нашей системе многое не по душе и мне. Ваша партия заняла, по-моему, позицию верную: защищая интересы своего класса, она показала, что остается партией немецкой.
– Я давно не разделяю ее взглядов.
– А не идете ли вы против интересов нации?
– Эти-то интересы и требуют бороться против войны. Вы видите сами, сколько жертв она уже унесла, хотя ни на йоту не приблизила немцев к мировому господству. Только обогатила тех, кто в ней заинтересован.
– Но сколько же офицеров из лучших фамилий погибло!
– Понятия чести и храбрости существуют, я не спорю; особенно в офицерском корпусе. Но в целом на войне наживаются буржуазия и землевладельцы. Новые территории, колонии в других частях мира нужны только им.
– А разве положение рабочих не стало бы лучше?
– Кое-что им уделили бы, да: крохи, с какими вы годно расстаться, чтобы остальное спокойно положить себе в карман.
– Такой чисто утилитарный взгляд таит в себе много порочного, господин Либкнехт, – заметил полковник.
– Он позволяет разглядеть существо явлений.
– Ведь признаете же вы искусство, литературу, все изящное!
– Да, но они не стали всеобщим достоянием, ими владеет ничтожное меньшинство.
– И чтобы все это стало всеобщим, надо выйти из игры, прекратить военные действия?!
– Прежде всего надо изменить общественный строй.
Такие случайные встречи не меняли положения Либкнехта. Он по-прежнему оставался солдатом, которого заставляли рыть траншеи, грузить тачки и копать нужники.
Грязь, насекомые, холод, пришедший вместе с осенью, ночные обстрелы, трупы лошадей и еще больше человеческих трупов… Война унесла уже, по подсчетам статистиков, полтора миллиона жертв. Но до развязки было еще далеко.
XII
Двадцать восьмого мая Бетман-Гольвег в ответ на требование объявить немецкие цели войны сделал заявление в рейхстаге. Перед тем он долго совещался с представителями фракций.
Согласовать все и со всеми было почти невозможно. Ставка настаивала на одном, земельные магнаты – на другом, промышленники – на третьем, а социал-демократы, с которыми приходилось считаться все больше, – на своем, четвертом.
Помня, какие споры вспыхивали уже во фракции, Шейдеман предостерегал канцлера: декларация должна быть составлена так, чтобы не вызвать протеста социалистов. Германия начинала войну как страна, спасающая свое достояние, а продолжает ее на чужих территориях. Все хотят знать, чего она добивается.
– Правительство, господин Шейдеман, принуждено считаться со всеми классами общества. На мир без некоторых важных для нас приобретений промышленники ни за что не согласятся.
– Точнее: без каких именно?
– Скажем, бельгийские рудники… Или некоторые весьма перспективные колонии французов и англичан в Африке.
– Это не пройдет, социалисты этого не поддержат!
– Но я ищу формулировки, с которыми вы могли бы согласиться.
Торг, медленный и упорный, продолжался немалое время.
Положение Бетман-Гольвега осложнялось и с другой стороны. Император уже несколько раз заявлял ему, что жертвы народа, храбрость солдат, искусство его генералов дают право Германии на самое полное возмещение.
– Они намерены были перехитрить меня и продиктовать свои условия, но условия диктуем сегодня мы!
– Ваше величество, переговоры еще не начались, а ресурсы наши уже истощаются.
– Так надо пополнить их – из областей, где стоят наши армии. Не напрасно же я жертвовал жизнью моих подданных!
Канцлер продолжал с терпеливой настойчивостью:
– В марте к зданию рейхстага во время сессии подошла женская демонстрация, кричали: «Верните нам наших мужей!», требовали хлеба и окончания войны.
– Вы могли бы не говорить мне об этом, – недовольно сказал Вильгельм; встал и энергично прошелся по кабинету, – я это знаю. А кроме того, – и он повернулся к Бетману, – я добр, но не сентиментален. Я не был бы властителем своих подданных, если бы из-за сердоболия позволил лишить мой народ его достояния. Мне войну навязали, и я доведу ее до конца!
– Война будет доведена до победы, я в этом точно уверен, но не в интересах трона натягивать тетиву до предела.
Остановившись в глубине кабинета, Вильгельм пристально посмотрел на седого высокого человека с утомленным лицом и мешками под глазами. Бетман стоял, полный решимости.
– Что вы понимаете под натягиванием тетивы?
– По донесениям министерства внутренних дел, демонстрации недовольства произошли не только в Берлине. Народ устал.
– А я вижу в этом происки социалистов. В бараний рог надо было их согнуть, и я готов был пойти на это, но вы уверили меня в их преданности и патриотических чувствах.
– Их чувства именно таковы, ваше величество.
– Если так, то подсчитывать жертвы сейчас не время! – Он вернулся к столу и продолжал спокойнее: – Побыли бы вы, мой милый Бетман, в ставке, окунулись бы в атмосферу, которая там царит!