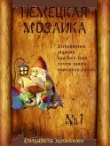Текст книги "Немецкая трагедия. Повесть о Карле Либкнехте"
Автор книги: Осип Черный
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Опустившись в кресло, Эберт настороженно обратился к Шейдеману:
– Что ты имеешь в виду, Филипп?
– Как тебе сказать… – Из вежливости он обратился к канцлеру. – Противник, о котором идет речь, в своем стремлении разложить немцев не остановится ни перед чем, это ясно. О возможных его каверзах речь шла не раз.
– Но нельзя ему отказать в искусности: ничего открытого, явного органам наблюдения установить пока не удалось.
– Иной раз приходится кое в чем помочь органам, – пояснил Шейдеман с едва уловимым оттенком превосходства. – Ускорить то, что само по себе потребует больше времени.
Эберт пытливо смотрел на коллегу: такая прямота в присутствии представителя династии, человека так называемой голубой крови, даже его озадачила. Впрочем, пускай: пускай Шейдеман немного себя замарает – это ему. Эберту, на руку.
– Я, кажется, понял тебя, Филипп.
– И я вас понимаю как будто, – заметил канцлер.
– Да тут, собственно, все очень просто и довольно обычно в механике управления.
Принц подумал с оттенком брезгливости, что этот социалист именно на него готов возложить столь неблаговидную роль. Но не время думать теперь о том, как делить ответственность.
– Надо будет посоветоваться со сведущими людьми… Во всяком случае, ваша поддержка в таком щекотливом вопросе для меня очень ценна.
Четвертого ноября на Силезском вокзале ящик, доставленный из Москвы в качестве дипломатической почты посольства, выскользнул из рук носильщиков и, упав на перрон, раскололся. Содержимое выпало, его пришлось собирать. И вот будто бы в ящике оказалось множество враждебных листовок, направленных против германской имперской системы.
Так был сфабрикован факт вмешательства большевистского государства в дела страны, заключившей с ним мир.
Статс-секретарь по иностранным делам пригласил к себе посла Москвы и строго объявил, что Германия ввиду такой явной вылазки Советов вынуждена принять самые срочные меры.
– Вскрывать дипломатическую почту власти имели право только в присутствии нашего представителя! – возразил посол.
– Когда содержимое рассыпалось, ветром стало относить листовки в разные стороны. Можно ли было ждать вашего представителя? Притом вам беспрерывно звонили, имеются официальные донесения.
– В посольстве у телефона бессменно дежурит сотрудник.
– Тем не менее никто не соблаговолил откликнуться на звонки.
– Это заставляет, господин статс-секретарь, усомниться в подлинности самого факта. Согласитесь, при вскрытии ящика в отсутствие нашего представителя могли иметь место случайности провокационного свойства.
Статс-секретарь сухо ответил, что это он полностью исключает.
– А так называемые листовки – можете вы предъявить их мне?
– Вот именно, господин посол!
Взглянув на них, посол без труда установил, что имеет дело с грубой фальшивкой.
– Топорная работа, господин статс-секретарь. Ничего подобного на нашей территории не могло быть напечатано. Доказать нетрудно.
– Тем не менее это так, и я вынужден заявить вам самый энергичный протест. Имперское правительство должно будет предпринять ответные меры.
– Ваш протест построен на очевидной провокации, я не могу его принять!
Но дело было сделано. Назавтра чуть свет к зданию посольства подъехало несколько машин; сотрудники были отвезены, против их воли, на вокзал и усажены в вагон, который должен был доставить их до советской границы.
Через два дня, выступая с докладом в Москве, В. И. Ленин вскрыл корни берлинской провокации: «Если Германия вытурила нашего посла из Германии, то она действовала, если не по прямому соглашению с англо-французской политикой, то желая им услужить, чтобы они были к ней великодушны. Мы, мол, тоже выполняем обязанности палача по отношению к большевикам, вашим врагам».
Такова была подоплека эпизода, идею которого подсказал Филипп Шейдеман.
VI
Успех Носке в Киле поразил канцлера и показался ему многообещающим. Он еще больше уверовал в социал-демократов.
Шестого ноября Макс Баденский устроил у себя в резиденции совершенно секретную встречу с представителем ставки: преемник Людендорфа, вынужденного после провала всех своих наступательных планов уйти в отставку, генерал-квартирмейстер Гренер и социал-демократические лидеры должны были обговорить судьбу режима.
Не столь блестящий, как его предшественник, по достаточно искушенный, Гренер при виде входящих прищурился: старые знакомые, с их коллегами он встречался уже; когорта довольно алчная; получив немногое, требуют большего; выторговав еще что-нибудь, пытаются вымогать совсем уж много.
Канцлер представил ему вошедших.
– Итак, господа, приступим? Тему нашей беседы можно, я думаю, не обозначать: она связана со всем положением страны. Может, для начала, ваше высокопревосходительство, вы? – канцлер вопросительно посмотрел на генерала.
Ни один мускул не дрогнул на лице Тренера: ответственность за то, что затеяно, нес канцлер один.
– Тогда я позволю себе уточнить: речь идет о судьбе династии. Я намеренно пригласил представителей двух противоположных точек зрения, чтобы попытаться сблизить их и свести, если можно, к одной.
Шейдеман сидел позади Эберта, немного прикрытый его грузной фигурой: наблюдать отсюда было удобнее. Гренер ведет себя так, будто в стране ничего не произошло. Это что – игра? Запрос? Желание продать подороже свои уступки?
– Итак, господа, – продолжал Макс Баденский, – что надо сделать, чтобы спасти режим, трон, основы нашей жизни?
Гренер промолчал и на этот раз. Тогда канцлер обратился к социалистам:
– Вопрос, с которым я к вам адресуюсь, подготовлен отчасти нашими предыдущими разговорами. Но сейчас он звучит особенно остро. Перед страной два варианта: восточный, большевизации, то есть распада государственности, и западный, гораздо более для нас органичный. Перед страной, потерпевшей поражение – причин мы тут касаться не будем, – но духовно не сломленной, стоит задача огромной важности: доказать в час таких испытаний свою стойкость… Так вот, господа, возможность большевизации Германии вы в своих планах в расчет принимаете или же исключаете полностью?
Такая постановка вопроса вызвала недоумение Тренера. При словах «восточный» и «большевизация» он высоко поднял брови и достал монокль из бокового карманчика.
Эберт оглянулся на Шейдемана, тот продолжал молчать.
– В таком случае, я.
В последние дни, когда на карту было поставлено все, Эберт особенно ощутил важность шагов, которые намерен был предпринять – именно он, а не кто другой. Речь шла о месте, какое ему уготовила история.
– Вы, господин канцлер, заговорили о так называемой большевистской революции, – начал он торжественно и немного угрожающе. – Могу сказать определенно: я ее отвергаю! Я ненавижу ее, как грех, как распутство, как форму социального падения в бездну. Именно так я о ней думаю и заявляю об этом со всей решимостью.
Гренер опустил брови, но монокля из глаз не вынул. Он пристально изучал Эберта, как будто решив выставить ему в некоей тайной ведомости балл.
Канцлер удовлетворенно кивнул и обратился к Шейдеману:
– Не согласитесь ли вы определить свою позицию с такой же ясностью?
– У нас с коллегой Эбертом и другими коллегами, – взгляд был брошен в их сторону, – расхождений в данном вопросе нет. Я определил бы нашу позицию так: при определенных условиях наша партия готова позаботиться о том, чтобы спасти страну от большевизма.
Только тут Тренер подал свой голос:
– Каковы ваши условия? – Он вынул монокль; во взгляде мелькнуло недоверие к тем, с кем по необходимости приходится заседать.
– Немедленное, потому что каждый час ухудшает обстановку, отречение кайзера. Его игра проиграна окончательно, ни один здравомыслящий политик не взял бы на себя труд защищать его трон.
– Да, – подтвердил Эберт. – Категорическое наше условие!
– Так… – сухо отозвался Тренер и перевел взгляд на Шейдемана. – И в этом случае, господа?..
– В этом случае можно попытаться спасти установившуюся в стране систему широко представительного, ответственного перед рейхстагом правительства с сохранением конституционной власти монарха.
– Вы не прочь, выходит, предложить немцам английский вариант?
– Ну что же, если нужны аналогии… Хотя, по нашему убеждению, особенности германского общества были бы сохранены.
Максу Баденскому начинало казаться, что сближение возможно. Ведь и он считал тоже, что для спасения династии придется Вильгельмом пожертвовать.
– А вы, ваше высокопревосходительство, как смотрите на это? – обратился он к Тренеру.
Словно бы из его сознания ушло, что генерал представляет армию, которая почти развалилась. Это обстоятельство не могло ослабить того, что собирался произнести Тренер.
С подобием усмешки, с оттенком иронии над самим собой, но при полном самоуважении генерал сказал:
– Мою точку зрения нетрудно предугадать: я монархист, и было бы странно, если бы я попытался скрыть от вас это.
– Но как раз во имя спасения монархии организована наша встреча! – с живостью вставил канцлер.
Тренер только покосился на него: принц крови, он в поисках унизительных компромиссов так уронил себя, что больше не заслуживал уважения.
– К тому, что сказано мною, надо прибавить еще вот что: я не только монархист, но и убежденный поклонник его величества, нашего кайзера. И потому даже сейчас не считаю себя вправе давать оценку его деятельности. Мы иногда смешиваем роковые сдвиги истории с ролью той или иной фигуры. Сколь бы выдающейся личность ни была, мощные исторические сдвиги не всегда поддаются ее воздействию. Проходит известное время, справедливость восстанавливается, и значение крупной личности уясняется потомками.
Канцлер, смотревший во время этой тирады на Тренера с неотрывным вниманием, поневоле притушил взгляд. Больше всего хотелось ему сблизить позиции, но Тренер, увы, не сумел понять, что в эти часы решается все. Огорчаться приходилось тем более, что социалисты заявили себя поборниками династии.
Дальнейшее уже не могло повлиять на встречу. Было ясно, что другой точки зрения Тренер не предложит. Выбора не осталось.
Обменявшись несколькими вежливыми фразами, участники встречи разошлись.
Уже на Вильгельмштрассе Эберт в сердцах сказал Шейдеману:
– Наименьшее из зол было ему предложено, а он не понял! Олух! Пускай пеняет теперь на себя!
Немного позже Гренер сам имел мужество признать, что во время той встречи допустил роковую ошибку. Впрочем, канцлерскую резиденцию он покинул с одной утешительной мыслью: с этой публикой, социалистами, можно иметь дело; будучи все время начеку, по все же можно. Особенно в такие критические для страны дни.
VII
За два дня до восстания командование отдало приказ ввести в столицу свежие воинские части. Четвертый егерский полк, заслуживший репутацию дисциплинированного и послушного командирам, продефилировал по берлинским улицам и расположился в казармах в самом центре города.
Шейдемановцы тоже времени не теряли. Восьмого вечером они вызвали самых надежных своих функционеров со всех крупных заводов и стали внушать им, что долг и партийная дисциплина повелевают им охладить по возможности страсти и призвать рабочих к выдержке.
– Все решится в ближайшие день-два, – заявил Эберт. – Если наше требование, чтобы кайзер отрекся, не будет удовлетворено, тогда пускай рабочие и выйдут на улицы, поддержат нас. Но до той минуты надо ждать. И во всяком случае, без указания Форштанда выступать нельзя.
Функционеры стали доказывать, что приостановить уже ничего нельзя, все слишком возбуждены и рвутся на улицу.
– Но мы охраняем ваши же интересы, – сказал Эберт. – Если рабочие выступят, кровопролитие неминуемо.
– Что же сделать? Обратный ход исключен…
– Тогда ваш партийный долг пойти вместе с массами и возглавить движение.
Он твердо решил никому больше не переуступать главенствующей роли. И он сознавал, что все держится на острие. Эх, бросить бы сейчас толпе отречение кайзера, заткнуть брешь, сквозь которую вот-вот хлынет народное негодование!
Девятое ноября началось спокойно. Была суббота, канун отдыха. С утра Берлин выглядел как обычно. Дворники подметали улицы, не так тщательно, как прежде, но все же подметали. Открывались магазины. По Унтер-ден-Линден прошло несколько машин с углем, машина с военным обмундированием. Затем наступила тишина выжидания. Полицейские в касках стояли на перекрестках, наряды их были заметно усилены. Кое-где на крышах были установлены пулеметы. Солдатам в казармах раздали ручные гранаты.
Между тем за ночь в казармах распространились странные веяния. Недоверие, подозрительность, желание разобраться самим в том, что происходит, просочились туда неведомыми путями.
На заводах рабочие застали разбросанные повсюду листовки: старосты призывали их организованно выйти на улицы, продемонстрировать свою готовность к борьбе; листовки спартаковцев призывали к свержению ненавистного строя.
Стало известно, что желающим раздают оружие. Его не так много, пусть берут те, кто умеет с ним обращаться.
Оружие разбирали с мрачной решимостью. Пришел наконец долгожданный час. Берлин протестовал и бурлил не раз, но сегодня вынесет свой окончательный приговор: сметет кайзера и его правительство, покончит с войной и установит справедливый мир.
Берлин был суров, но спокоен. Он не знал, что его; ожидает, но готов был встретить свою судьбу.
Либкнехт провел полночи в штабе восстания. Роли были распределены окончательно: кому с какой группой повстанцев идти и что занимать – дворец, ратушу, телеграф, вокзалы, полицай-президиум…
Когда все было согласовано, Либкнехт направился еще в типографию, где печатались спартаковские листовки.
Пик встретил его словами:
– Полный порядок, будут готовы к сроку.
Он стоял у наборной кассы я диктовал текст пожилому наборщику.
Лишь после того, как все было отпечатано и появились первые уполномоченные «Спартака», готовые доставить материал на заводы, только когда Пик стал укладывать отпечатанное в стопки и вручать каждому, Либкнехт счел возможным прикорнуть. Вокруг ходили, переговаривались, через стену слышно было мерное уханье печатной машины. Он вскоре забылся и, притулившись к наборной кассе, заснул.
Вскочил он, когда тусклый ноябрьский рассвет стал с трудом пробиваться сквозь высокие, пыльные и немного задымленные окна типографии. Видя, что Либкнехт старательно трет ладонью глаза, один из наборщиков сказал, что в третьей отсюда комнате есть кран с водой и можно умыться. Когда Либкнехт вернулся, двое наборщиков предложили ему по ломтику хлеба с джемом.
Маленькое это обстоятельство как-то воодушевило его. Он зашагал по пустынному городу, чувствуя за спиной дружеское участие.
Трамвай уже ходил. На остановках стояли хмурые молчаливые люди. Каждый ехал на работу, и каждый думал, что предстоит Берлину сегодня, завтра. Все были полны сосредоточенной готовности.
До Шпандау Либкнехт прошел пешком. Ему надо было составить на ходу план действий, решить, где он выступит и что скажет, представить себе разные варианты возможного.
У ворот моторного завода собиралась колонна. Либкнехта встретили как своего. Он приходил к ним и позавчера, и еще несколько дней назад. Они хорошо знали его, и с ним было гораздо надежнее. Гуго Фриммель, организатор «Спартака» на заводе, выйдя через проходную вместе с новой группой рабочих, подошел к Либкнехту и пожал ему руку.
– Карл, так ты с нами?
– Ну конечно.
– Но не рвись вперед.
– Э-э, – отозвался беспечно Либкнехт, – там будет видно.
Тем не менее несколько надежных людей образовали как бы кольцо вокруг него, и, когда колонна минут через двадцать двинулась к центру, кольцо, ограждавшее его, то растягивалось, то сжималось теснее.
Он уже выяснил, сколько оружия в его колонне. Немного, совсем немного. Те, кто имел его, шли тоже тесной группой. Оказалось, что некоторые из них бывалые фронтовики. Среди них выделялся Феликс Кнорре. Во всем его облике чувствовался организатор, вожак коллектива. С ним-то главным образом и имел дело Либкнехт. Время от времени он нырял в глубину колонны: поговорив с одним-другим, посоветовав дать побольше патронов фронтовикам за счет тех, кто хуже владел оружием, он опять появлялся в первом ряду.
На перекрестке из смежной улицы показалась другая колонна, а за нею третья. Либкнехт поговорил с их руководителями и, выяснив, что точного маршрута у них нет, предложил присоединиться. Так отряд разрастался мало-помалу. Подходили и рабочие-одиночки, чаще всего немолодые, с оружием.
Чем ближе к центру, тем все больше колонна растягивалась. Те, кто привык шагать в ногу ритмично, подчинили себе остальных, и шаг идущих приобрел четкость.
Вскоре внушительно и неудержимо движущаяся масса людей вытеснила мерным своим топотом прочие городские шумы. Трамвай остановился, автомобили и экипажи не могли проехать и застряли на обочинах улиц. В замолкшем городе слышен был мерный шаг рабочих колонн.
VIII
Канцлер поставил целью вырвать у ставки согласие на отречение кайзера. С утра в субботу он был уже в своей резиденции, и переговоры, начатые накануне, возобновились.
Социал-демократы заявили решительно: либо отречение, либо неминуемая революция. Вряд ли они могли бы ее отменить, но повлиять на ее развитие было еще возможно. Перед канцлером стоял пример Густава Носке.
В Форштанде засекали буквально минуты: отрекся или еще нет? Но сколько же можно ждать?! Функционерам, сообщавшим по телефону, что происходит на предприятиях, давалось одно задание: оттянуть выступление, передвинуть его хотя бы на два часа, если нельзя больше.
Канцлер нервничал, ожидая звонка из ставки. Накануне у него был разговор с его величеством; Макс Баденский убеждал Вильгельма настойчиво и почтительно, что иного пути для спасения династии не осталось: отречение необходимо.
– Бессмыслица и чепуха! – запальчиво произнес Вильгельм. – Вы попали под влияние враждебных сил!
Выслушав еще несколько бранных восклицаний по телефону, принц Макс вежливо переспросил:
– Да, ваше величество? А какое решение видите вы?
– То, что предлагаешь мне ты, есть сплошная бессмыслица. Народ по-прежнему верен мне. Прогони из Берлина кучку зловредных агитаторов, и порядок восстановится.
– Движением охвачены все предприятия, все слои населения…
– Значит, нужно двинуть войска против них. Завтра же поведу их на столицу сам и живо усмирю!
– Ваше величество, войска ненадежны тоже, – терпеливо возразил канцлер. – Нам остается одно – опереться на социал-демократию.
– Хорошеньких союзников ты нашел!
– Это единственная надежная сила. Если время будет упущено, рабочие перейдут на сторону самых крайних.
– Надо было расстрелять их давным-давно… – Помолчав, он спросил враждебно: – Что ты, в конце концов, предлагаешь мне?
– Нами движет стремление спасти династию. Отречение, хотя бы временное, помогло бы справиться с положением. Отречение в пользу вашего внука.
После некоторого молчания кайзер холодно произнес:
– О своем решении сообщу вам завтра.
– Благодарю вас, ваше величество.
Надежда, таким образом, появилась. И вот утром девятого ноября принц Макс Баденский сидел в своем кабинете, ожидая ответа. Он думал, как ему поступить, если кайзер откажется.
Эберт звонил уже несколько раз. Шейдеман заходил и холодно справлялся, получено ли решение ставки.
– Жду с минуты на минуту.
– Ваше высочество, нельзя балансировать на острие без конца, – заявил наконец Шейдеман. – Надо было это сделать вчера, позавчера! Сегодня с отречением можно уже опоздать! – И, ничего больше не сказав, вышел.
Тогда канцлер решил сам позвонить в ставку. Ему недовольно заметили, что торопить императора неуместно. Его высочеству следует запастись терпением.
Немного погодя явилась целая группа социал-демократов.
– Так-таки ничего неизвестно? До сих пор?! – с вызовом спросил Эберт.
– Увы, нет… Но акт об отречении я уже заготовил.
– Нам нелепо само отречение!
– Пока его нет. Или погодите… – Канцлер наконец решился.
Но, опередив его, Эберт от имени своей партии выдвинул категорическое требование:
– Власть должна быть немедленно вручена нам. Иных способов справиться с движением мы больше не видим. Решайте, ваше высочество: да или нет?
– Но с моей стороны, господа, нет никаких возражений! – живо сказал канцлер. – Бремя власти меня тяготит, вам же она по плечу.
Эберт подавил вздох облегчения. Словно тяжелый тюк свалился с него.
– Да, но отречение, ваше высочество? Как быть с ним?
Макс Баденский встал и не без торжественности объявил:
– Я еще пользуюсь всей полнотой власти, и я объявляю вам об отречении императора Вильгельма Второго. Тою же властью, принадлежащей мне, вручаю вам, господин Эберт, всю ответственность за судьбу страны.
В глазах Эберта мелькнула подозрительность и в то же время преданность.
– Прошу вас уточнить, ваше высочество, – сказал он.
– Канцлером германской империи с настоящей минуты являетесь вы.
Полный и робости и решимости, Эберт стать уточнять дальше:
– А регент? Вплоть до созыва Национального собрания?
– Кого предлагаете вы?
– Вас, ваше высочество.
Прошла минута напряженного ожидания.
– Нет, господа, при том обороте, какой приняли события, надобность в регентстве отпадает. Власть сосредоточивается отныне в ваших руках.
– А состав правительства?
– Он будет зависеть теперь только от вас.
От напряжения у Эберта заболела левая нога, и он перенес вес тела на правую. Сообразно своему новому положению, он постарался выглядеть представительным. Пожал руку бывшему канцлеру, так легко сошедшему со сцены, и обратился к коллегам:
– Задача ясна, товарищи. Нам надо немедля сообщить населению, что кайзера больше нет и сформирована новая, истинно народная власть. Это должен понять каждый из тех, кто вышел на улицу!
IX
Колонна, во главе которой шел Либкнехт, стала очень внушительной. Беспрепятственно продвигалась она к центру города. Шпики, полиция, пулеметные расчеты на крышах безмолвствовали, почувствовав, какой размах приняло движение.
Колонна поравнялась с казармами, в которых расквартирована была пехотная часть. И тут Либкнехт дал вдруг команду остановиться.
Двое часовых охраняли вход: стояли, держа ружья на плече, настороженные и готовые к выполнению команды. Либкнехт повернулся лицом к колонне и подал знак к тишине. По всей длине растянувшейся колонны поползло остерегающее «ш-ш-ш!».
Не всем было его видно. Тогда Фриммель сообразил использовать выступ подоконника. Либкнехту помогли взобраться туда, на всякий случай его поддержали с обеих сторон. Позади, через окошко, смотрели на улицу две перепуганные старые женщины.
А Либкнехт, освоившись с неудобным положением, обратился к колонне с призывом:
– Можем ли мы пройти спокойно мимо этих казарм? Одетые в форму, там находятся наши братья, такие же пленники капитала, как и вы. Их превратили в пушечное мясо, их кровь заливала поля Бельгии, Польши, России. Допустим ли мы, чтобы, подчинившись наглым приказам командиров, они выпустили залп в спину трудящимся, нам с вами? Товарищи, все в казармы!
Его короткое слово зажгло всех. Сминая друг друга, люди кинулись к воротам. Солдат, стоявших на посту, оттеснили. Они не успели сообразить, что им делать – сопротивляться или брататься. Через минуту в двери казарм ворвался огромный людской поток. Он хлынул в проходы, устремился по коридорам. Крики «Не стреляйте!», «Мы братья ваши!», «Мы бьемся за свободу!» заполнили помещения. Они доносились уже с верхнего этажа. На одно мгновение Фриммель, Кнорре, Либкнехт и все организаторы почувствовали себя бессильными управлять стихийным натиском. Но из ротных помещений стали уже выбегать группы солдат вместе с рабочими. У одного на руке оказалась красная повязка, добытая неизвестно где. Другой прикрепил красный лоскуток к фуражке. Его примеру последовали многие.
Мелькнуло меловое, растерянное вконец лицо офицера. Он не приказывал. Он попробовал было прислониться к стене, пропуская мимо себя плотную массу людей. Кто-то решился сорвать с него погоны. И тогда солдаты кинулись по всем помещениям, разыскивая скрывшихся офицеров.
Либкнехт понимал уже, что это – именно то, по чему сердце его тосковало в крепости; то, о чем он мечтал многие годы; что со всем жаром души пропагандировал всюду: революция! Трудно было сказать, чем она завершится, но что в Берлине она началась, было несомненно. Видя, с каким самозабвением устремились рабочие к ней, он знал одно: остановить ее уже невозможно.
Но надо было идти дальше. Либкнехт стал сзывать всех, повторяя:
– Вперед, товарищи, к нашей цели. Солдаты с нами.
Нельзя задерживаться!
Прошло, однако, порядочно времени, прежде чем в колонны вернулся порядок. Ряды заметно пополнились. Правда, не все солдаты примкнули к Либкнехту, но в массе людей тут и там видны были военные с оружием, и это сделало колонну еще более внушительной.
Когда подошли к центру, он уже был заполнен огромными толпами. Призывы, флаги, плакаты с требованием мира, свержения кайзера мелькали повсюду.
Чем ближе ко дворцу, тем все большее напряжение чувствовал Либкнехт. Он отвечал за огромный отряд.
Смятение успело охватить всех, кто по долгу службы обязан был сопротивляться. Дворец, огромный и молчаливый, казался безжизненным. Охраны нигде не было. Ворота чугунного литья были закрыты. Стоявшие впереди попробовали раскачать створы; они поддались. Тогда вооруженные солдаты и группа спартаковцев с оружием навалились на ворота, и вскоре они раскрылись. Толпа хлынула к дворцу. Либкнехт, опередив бегущих, обратился к колонне с настойчивой просьбой – не врываться внутрь.
– Помните, товарищи: революция и организованность неотделимы. Возможны всякие провокации. Вместе со мной пройдет только вооруженная часть, а вас, я прошу ждать. В случае необходимости мы подадим знак, и вы придете нам на помощь.
Фриммель, Кнорре и все, кто был при оружии, исчезли вместе с ним за тяжелой входной дверью. Первое время люди стояли безмолвно, вслушиваясь, не донесется ли из внутренних покоев стрельба. Но все было тихо. Раздавались отдельные голоса – надо идти всем, не оставлять же тех без поддержки. Другие возражали, что, раз главный распорядился так, значит, так оно и должно быть.
Тем временем толпа разрослась. К ней примкнули новые группы. Напряженно вглядывались в окна дворца – не появится ли кто, не махнет ли оттуда платком.
Трудно сказать, сколько времени длилось ожидание. Вдруг распахнулась балконная дверь, и большая группа людей высыпала наружу. Среди них был и Либкнехт. Они озабоченно переговаривались, как будто не замечая стоившей внизу толпы. Потом парень в матросской куртке вскочил на перила и, ухватившись за выступ карниза, начал взбираться вверх. Взбирался умело и осторожно. Внизу затихли, ожидая, чем это кончится.
И вот он влез на крышу и быстро пошел по ней. Тогда всем стало ясно, что направляется он к императорскому флагу, развевавшемуся на флагштоке.
Подойдя вплотную к куполообразной вышке, матрос ловко взобрался наверх и сильным ударом ноги сбил флагшток вместе с флагом. Внизу с замиранием сердца наблюдали за происходящим. Тем, кто стоял на балконе, крыша не была видна; судить о том, что происходит наверху, они могли лишь по реакции других.
Вдруг дружный восторженный крик огласил площадь. Дело было сделано: над императорским дворцом взвилось красное знамя.
С балкона Карл Либкнехт обратился к берлинцам с первой программной речью:
– День свободы, товарищи, наступил. Ни один Гогенцоллерн никогда не появится больше на этом балконе. Семьдесят лет назад на этом самом месте стоял Фридрих-Вильгельм Четвертый. Он вынужден был снять шляпу перед похоронной процессией павших на баррикадах Берлина за дело свободы, перед пятьюдесятью окровавленными трупами. Сейчас перед дворцом проходит другая процессия – идут тени миллионов, положивших свою жизнь за святое дело пролетариата. С раздробленными черепами, залитые кровью, шатаясь, проходят мимо дворца тени этих жертв насильнического режима. А за ними следуют тени миллионов женщин и детей, погибших в нужде и лишениях за дело пролетариата. И новые миллионы кровавых жертв мировой войны следуют за ними.
На мгновение он приблизил к лицу вытянутую руку и поправил пенсне. Сырой ветер касался его. Либкнехт не чувствовал ни сырости, ни холода. Ему, наоборот, стало жарко, и он передал свою шляпу стоявшему рядом Кнорре.
– Сегодня, товарищи, на этом самом месте, – продолжал он, охватив жестом всю площадь, – стоит необозримая масса воодушевленных пролетариев, приветствуя новую свободу. – И с новым взрывом энергии продолжил – Товарищи! Я провозглашаю новую свободную социалистическую германскую республику, в которой не будет больше рабов и где каждый честный рабочий найдет справедливое вознаграждение за свой труд. Господство капитализма, превратившего Европу в кладбище, сломлено… Прежде всего мы призовем обратно наших русских братьев.
Слова эти были встречены бурным одобрением. И Либкнехт продолжил:
– Хотя старое и низвергнуто, не следует думать, будто наша задача выполнена. Придется напрячь все силы, чтобы воздвигнуть республику рабочих и солдат и создать пролетарский строй, покоящийся на счастье – на мире, свободе и счастье наших германских братьев и наших братьев во всем мире. Мы протягиваем им руку и призываем к завершению мировой революции.
Далее, чувствуя внимание необозримой толпы, испытывая потребность включить немедленно всех в общее новое дело, Либкнехт торжественно произнес:
– Те из вас, кто хочет видеть осуществление социалистической революции в Германии и во всем мире, пусть поднимут руку и поклянутся в верности революции!
Руку подняли все до единого человека. Крики «Да здравствует республика!», «Да здравствует революция!», «Да здравствует Карл Либкнехт!» огласили площадь.
Слушая Либкнехта, все были охвачены единым чувством и устремлены к одной цели.
Но страна вовсе не была единой. Противоречия, раздиравшие ее, не исчезли. События обрушились на многих так неожиданно, что разобраться в них сколько-нибудь они попросту не успели.
Егеря, введенные накануне в Берлин для охраны порядка, не понимали, что же происходит в столице. После споров; которые прежде были бы невозможны в воинской части, решили послать делегатов. Делегатам поручили привести сведущего человека, который объяснил бы все толком.
Кто был теперь самым сведущим? Наверно, социал-демократы, пришли к выводу егеря. И делегация направилась разыскивать их штаб.
Социал-демократические лидеры при виде выряженных егерей, явившихся к ним за разъяснениями, растерялись было, но затем умилились. Вот как велик их авторитет в глазах масс: отборная воинская часть видит именно в них вожаков движения! Но кого к ним направить?
Переглянувшись с Эбертом, окинув взглядом всех, кто находился рядом, Шейдеман остановился на давнем своем друге Отто Вельсе.