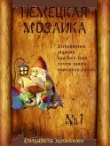Текст книги "Немецкая трагедия. Повесть о Карле Либкнехте"
Автор книги: Осип Черный
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Связавшись по прямому проводу с Касселем, где находилась ставка, он стал выторговывать кое-какие уступки: только без оружия, пожалуйста; пускай марш воинских подразделений явится мирной манифестацией национальных сил!
Он разговаривал как проситель и в ответ на незначительные уступки не только согласился на ввод частей, сформированных ставкой, но и пообещал достойно встретить их.
XIX
И вот наступил день, которого так настойчиво добивались Гинденбург и Гренер. В Берлин с развернутыми знаменами и музыкой должны были вступить войска.
Задолго до того, как началась церемония встречи, вблизи Бранденбургских ворот собрался народ. Кто говорил: «Снова на нашу голову! Не хватает «Майских жуков», которые расстреляли наших людей, так еще эти!». Другие говорили: «Интересно все-таки посмотреть, какой у них вид теперь, когда военные действия кончились!»
Организаторы постарались придать парадность зрелищу, развернувшемуся перед глазами берлинцев. Да, что там ни говорите, это армия – армия Германии. Без кайзера, республиканская, но все же лощеная, стройная, натренированная!
У одних возникла иллюзия, будто армия возвращается после долгих боев с триумфом. Другие с горькой иронией посматривали на молодцеватых солдат, словно решивших показать, что ничего не изменилось и сила, на которую опирался прежний режим, существует и сейчас.
Солдаты щеголяли четким шагом, выправкой, туповато-бездумными лицами, но ничему, в сущности, не научились: войну они проиграли, а умнее не стали.
В этой разноголосице мнений тон должен был задать рейхсканцлер. Он прибыл к Бранденбургским воротам к началу парада и поднялся на возвышение. Революционная Германия своего ритуала еще не выработала, а тут царила прежняя напыщенная парадность.
Итак, канцлер взобрался на сооруженный для него помост и стал расчесывать маленькой щеточкой усы. В присутствии народа он должен был показать, как уверенно чувствует себя в роли главы правительства. И вот стали приближаться воинские части. Они шли парадным маршем, при оружии, с развернутыми знаменами. Музыка оборвалась на неполном такте, солдаты и офицеры замерли по команде «смирно». Следующая часть, заняв свою диспозицию, построилась рядом и замерла тоже. Так произошло развертывание частей, вступивших в столицу.
А Фридрих Эберт, не совсем еще влезший в скорлупу правительственного деятеля первого ранга, делал все, чтобы берлинцы признали его перворазрядность.
Свою речь он обдумал тщательно. Она должна была понравиться генералам и благомыслящим людям, всем, в ком билось немецкое сердце. Должна была запомниться и произвести впечатление. Если чего он не смог предусмотреть, так это, что речь, такую патриотически благонамеренную, нынешние его союзники позже поставят ему же в вину. Но кто способен проницать будущее!
Сняв шляпу и подставив голову холодному декабрьскому ветру, Эберт обратился к замершим воинским частям. От имени правительства и народа он заявил, что столица встречает их как героев. Германия принуждена была подписать тяжелые условия перемирия, но армия вовсе не побеждена. По упорству и храбрости, по силе и моральной стойкости немцы не знают себе равных. Четыре года они показывали чудеса героизма. Поэтому он, канцлер новой Германии, приветствует ее сынов и воздает должное их доблести.
Не будучи мастером эффектных выступлений, на этот раз он превзошел науку эффектности. Слыша дружные выкрики «Hoch!», Эберт сознавал себя чуть ли не Цезарем.
Затем церемониальный марш возобновился, и жители столицы могли наблюдать, как по улицам шагает армия, готовая защищать их, а если понадобится, то и расстреливать.
Разве же мог Эберт думать, что речь, произнесенная им ко благу, станет потом обвинительным документом против него! Генералы намотали слова канцлера себе на ус. Речь его явилась хорошим бульоном, в котором позже варились идеи гитлеризма.
Она способствовала распространению версии «ножа в спину». Как?! Если германская армия после всего, что с нею было, выступает опять в блеске славы и оснащенности, значит, добиться победы помешало ей что-то другое? Ответ был один: силы ее подрезала революция, это она лишила армию возможности довести до конца дело на полях войны.
Еще месяцем раньше некоторые журналисты заговорили о том, что революция и капитуляция совпали по времени не случайно: Германия капитулировала именно в результате революции.
Ставка пока молчала. Там были довольны приемом, какой социалист Эберт оказал частям, вступившим в Берлин. Уж они-то знали, что это менее всего детище революции: если армия чему и послужит, то целям прямо противоположным.
А пока по взаимному уговору решено было отвести вступившие в Берлин части подальше, в предместья, чтобы в тиши и великой тайне продолжить дело, начатое так хорошо.
XX
Наконец, к удовольствию Эберта, Носке прибыл в Берлин. Ни сутулость, ни зловещего вида стальные очки не бросались больше в глаза: в нем виден был прежде всего человек, понаторевший в военном деле и привыкший принимать рапорта. Опыт Киля он готов был использовать гораздо шире.
Но сердечность, с какою его встретил канцлер, носила слишком будничный характер. Правда, Эберт встал, потряс ему руку, однако выражение озабоченности на его лице осталось.
– Ну как, Фридрих? Матросы, которых я вам послал на подмогу, пригодились?
– Что тебе ответить? Шестьсот человек – это не так уж много.
– В тот момент нельзя было выделить больше.
– Дело не в том. Матросы в общем-то ничего, но слишком уж по-хозяйски они расположились в столице.
Густав расхохотался:
– А ты хотел бы, чтобы они ютились по лачугам? Без заигрывания с ними обойтись нельзя было. Вы меня в прямолинейности укоряли, а вот, когда надо, я умею быть гибким.
– Мы, наоборот, наилучшего мнения о твоих успехах и намерены использовать тебя на высоких постах.
– Что же, уклоняться не в моих правилах, ты ведь знаешь.
Носке уселся, как у себя дома. Речь шла о народной морской дивизии, присланной им в Берлин. Оба решили, что в ближайшее время придется произвести некоторые изменения в ее командном составе.
– Тебе не нравится их командир Дорренбах? – сказал Носке. – Можно будет поставить во главе графа Меттерниха, уж он-то никакой агитации не поддастся.
– А согласятся ли матросы? – с сомнением заметил Эберт.
– Мне приходилось проводить там дела посерьезнее.
– Разве это нормально: расположились во дворце кайзера и превратили его черт знает во что?!
– Вот с переселением их как раз посоветовал бы повременить.
Эберт глубже залез в свое кресло.
– Понимаешь ли, слишком революционны они для меня: эта их неорганизованность, анархичность…
– Ах, – сказал Носке, – спесь можно с них сбить одним рывком.
– То есть? Толкнуть на провокацию? Заставить выйти на улицу и разоружить?
– Зачем называть это провокацией! Назовем лучше непреднамеренной случайностью.
Эберт промолчал. Затем объявил более сухо, что надо будет еще обсудить все как следует.
Расстался он с Носке с прежней сердечностью и на прощание предупредил, что тот может понадобиться ему в ближайшее время.
XXI
Дома Либкнехт перестал ночевать, а если и забегал среди дня, то совсем ненадолго.
Зная, что за их квартирой следят, Соня мирилась с его отсутствием. Она со многим примирилась бы, если бы не измученный вид Карла и нотки предельной усталости, прорывавшиеся в голосе. Посещения Карла, как он ни старался сделать их оживленными, оставляли после себя тягостный след. Случалось, после его ухода она ловила себя на том, что ее охватывают тревога и страх.
Даже когда Карл сидел в крепости, и то состояние ее было ровнее – она привыкла вести свой отсчет времени. Письма из тюрьмы, редкие свидания, случайные весточки через случайных людей – еще можно было как-то жить. Но теперь на смену тому пришло не передаваемое словами ужасное напряжение, в котором даже некому было сознаться.
С Гельми говорить об отце было невозможно: он все понимал, но воспринимал слишком трагически. Роза не появлялась. Связь, налаженная с нею в годы заключения, как будто оборвалась. Вообще непонятная скрытность окружала жизнь Карла и Розы. Они появлялись буквально везде, их речи звучали с маленьких возвышений и с больших трибун, газета печатала их статьи и пламенные обращения. Иной раз связной приносил записку. «Обнимаю вас всех, все в порядке, целую несчетное число раз, пожалуйста, не волнуйтесь. Ваш К.» И вместе с тем завеса неопределенности заволакивала жизнь обоих.
Карл оставался верен себе. Забежав домой, он старался вдохнуть во всех одушевление, веру, даже веселость. Но обмануть Соню было трудно: она видела, в каком он состоянии, почти на пределе.
Так вот он забежал как-то в один из декабрьских сумрачных дней. Соня кинулась к нему, обняла и не выдержала – расплакалась.
– Но почему же, родная? Ведь все хорошо, уверяю тебя. Будет, во всяком случае, хорошо.
Она отважилась спросить, почему же все так нехорошо сейчас.
– Не понимаю, Сонюшка… Кто тебе это сказал?
– Но я вижу сама. Или ты считаешь, что я ничего не вижу?! Ничего не понимаю?
Либкнехт присел на диван, положил ногу на ногу и стал растирать узловатой рукой колено. На нем был сильно поношенный костюм, брюки были совершенно измяты. Не одну, видно, ночь он провел, не раздеваясь. Он потирал колено, которое почему-то болело, и щурился.
– Сонюшка, родная, в этом не так легко разобраться. Со стороны не все понятно.
– Даже быть твоей женой и то недостаточно?! Ты что же, думаешь, твой вид говорит, что все благополучно?!
Либкнехт тронул ладонью лоб, словно делая усилие над собой, прежде чем решиться на прямой разговор.
– О благополучии говорить сейчас не приходится, Сонюшка, – сейчас идет борьба. Борьба трудная, но будущее принадлежит нам.
– И именно вы направляете все процессы – ваша воля и ваши силы?
Это прозвучало так, будто она с ним спорила. Но Либкнехт понимал, откуда такой непривычный тон. Он снова потер колено и мягко заметил:
– Законы революции постигаешь на собственном, очень нелегком опыте. Но не менее отчетливо, чем их, я постигаю и закономерности контрреволюции. Как некие математические формулы.
Сердце у нее больно сжалось. Карл так не разговаривал с нею давно: так прямо о самом важном; это не к добру.
В самом деле, попав домой и увидев состояние Сони, Либкнехт словно почувствовал, что надо сделать короткую остановку, растормозиться, что ли, позволить себе роскошь откровенности. Было отрадно размышлять в присутствии дорогого человека.
– Понимаешь ли, Сонечка, кадры контрреволюции не так уж велики: имущие, юнкера, армия, которую раз били и которая опять собирает силы в кулак. Наши силы неизмеримо больше. Но тут вступает в действие законорганизованности: у них все вымуштрованы, наши же тысячи и миллионы способны сплотиться на час, на день, самое большее на дни. А центра, который бы овладел ими и направлял их, нет!
«Почему же вы не создали его?! – захотелось ей крикнуть. – Почему не создали организацию, которая противостояла бы такому противнику?!»
В ее глазах были страстное ожидание и отчаяние, но она ничего не сказала. Карл отвел свой взгляд – так ему было удобнее размышлять.
– Создавать надо было раньше, когда я сидел в Люкау. Но мы были так раздроблены, что оторваться от уже сформированной партии не решились. Мы и до сих пор связаны с нею, хотя каждый день убеждает, что идти с этими гирями на ногах невозможно.
– О ком ты говоришь, Карл? Я не поняла.
Либкнехт вел разговор больше с собой, чем с нею, и ответил не сразу.
– То, что большевики сбросили груз меньшевизма и давно вышли на собственный путь, спасло русскую революцию. В этом секрет ее талантливости, ее, если хочешь, поражающей устойчивости. У нас этого нет, мы боремся не только с открытым врагом, но и с врагом, с которым связаны одной веревкой. В этом, Соня, наша трагедия.
Наконец она услышала слово, которого почему-то ждала и которое свело на нет прежние уверения Карла.
Мысли о муже у Сони раздваивались. Он едва ли ее самый популярный в стране человек, по его зову, как и по зову тех, кто вместе с ним, выходят на улицу сотни тысяч. И в то же время что-то непонятное, темное и зловещее обволакивает их, накапливается, как промозглый туман, как тяжелые испарения. Дело не только в слежке, какую установили за ним, – предчувствие беды растет от мелочей, каких-то симптомов. То кто-либо участливо спросит о муже, и в глазах у него прочитаешь тревогу; то ей прямо скажут, что надо остерегаться. Кому? Ей? Нет, обоим, и Карлу в особенности. То наглые письма без подписи или со многими подписями, с угрозами и обещанием учинить любое возможное зверство.
Могла ли она посвящать в это Карла? Стоило только заговорить, как он или смеялся, или махал руками, будто отталкивая от себя муть истерических замыслов.
– Сонюшка, родная, пойми: борьба есть борьба и в ней применяют любые средства.
– Но не вы же!
– Конечно! На такие приемы мы ни за что не пойдем, а эти молодчики способны.
– Они способны на все решительно! – чуть не с отчаянием произнесла она.
– Что же, рука возмездия покарает их рано или поздно, это исторически неизбежно.
– Но хозяева положения сейчас они!
Желая хоть сколько-нибудь успокоить ее, Либкнехт сказал:
– Всегда надо помнить о лучшем. Вот я с вами, кончились дни неволи… А что не часто бываю, так погодя, потерпи – все придет, все уравновесится. Мы только-только набираемся опыта, проходим небывалую школу борьбы, пойми же. Ведь это впервые в истории Германия!
На этот раз он остался дольше: подождал, пока Соня приготовит обед, хотя тревога невольно гнала его из дока. Соня умолила его, чтобы он побыл еще.
– Не осуждай меня, милая, мне надо к товарищам – его и долг, и потребность. Ты ведь знаешь, как мне с тобой хорошо, но я не имею права здесь оставаться…
И все же он остался. Когда вернулись домой дети, отец стал увлеченно расспрашивать их обо всем, вспомнил «Страсти по Матфею», о которых писал им еще из тюрьмы.
– Вот все войдет в колею, и мы пойдем слушать концерт с партитурой в руках… Славный вечер будет, не правда ли? – И он посмотрел на жену, ожидая ее поддержки.
Соня опустила глаза и едва заметно, через силу, кивнула.
Были уже ранние декабрьские сумерки, когда Либкнехт вдруг вспомнил:
– Бог мой, я пропустил редакцию, совещания, все!..
– Погоди, погоди, – засуетилась Соня, – я хотела дать тебе другой шарф, у тебя шея почти открыта, ты простудишься.
– Ну, в другой раз, скоро же я приду опять.
И ушел. Темнота плотно придвинулась к окнам, У Сони не было сил зажечь электричество. Она сидела с опущенными руками, не двигаясь. Ей казалось, что Гельми чувствует то же, что и она. К счастью, Верочка внесла в это невозможно тягостное состояние какую-то разрядку: заговорила с Бобом о выставке, на которую тот собирался пойти. Или они собирались пойти вдвоем.
Какое счастье, подумала Соня, что на земле существует беспечность, детская беспечность от которой легче становится жить!
XXII
Комендант Вельс сумел-таки отличиться: то ли в нем заговорил божьей милостью бюрократ, то ли пришло время свести счеты с матросской дивизией, которая за милую душу расположилась во дворце, как у себя дома. В дни, когда рабочие протестовали против кровопускания, которое Вельс учинил, матросы чуть не братались с ними. Он это запомнил.
Словом, Вельс задержал им жалованье, свалив вину на финансовые органы. Жалованье было совсем небольшое, а обида очень большая. Теперь у матросов только а разговоров было, что о задержке денег.
Они снарядили к Вельсу делегацию. Он принял ее и, как подобало чиновнику нового склада, сказал, что ничего, подождут. А может, и вообще ничего не получат.
Перед ними сидел не слуга народа, а бюрократ, способный выслушивать и отказывать. Делегаты возненавидели его лютой ненавистью, на какую способны люди, равно чуткие и к добру, и ко злу. Дивизия бушевала. И кто теперь разберет, было ли указание Вельсу или кто-либо из вожаков намекнул лишь на возможность такого хода, но дело приняло дурной оборот: матросы восстали, сбросили старого командира, выбрали своего и постановили идти походом на комендатуру: для начала расправиться с Вельсом, а затем навестить Эберта в его резиденции и потолковать с ним тем способом, какого требовала их матросская душа.
Вельс успел сбежать. Потом его все же схватили и доставили в манеж, который матросы занимали тоже. Что до рейхсканцелярии, то туда ворвался отряд человек в сто и произвел изрядный переполох.
Эберт угрюмо сидел в своем кабинете и толком не впал, спасаться ли ему бегством или отстаивать свой престиж. Все же он приказал военному министру освободить Вельса, чего бы это ни стоило.
Восставшие действовали, впрочем, неорганизованно, и не так уж трудно было прекратить затеянный ими шум. Хватило бы одной воинской части. Матросам было предписано покинуть дворец, в котором они якобы перепортили мебель и прочие ценности. Они отказались, конечно.
День прошел в страшном волнении. Статс-секретарь Шейдеман много раз заходил к Эберту и подавал советы благоразумия. А Эберт нетерпеливо ждал часа, когда можно будет связаться со ставкой.
Наконец пришла минута, о которой мечтал изнервничавшийся и вконец перепуганный канцлер. На другом конце провода послышался знакомый голос:
– Так как, помощь армии нужна?
– Я полагал бы ее своевременной; даже не помощь, а некоторую дополнительную поддержку.
– Ведь мы предлагали меру более радикальную, и Берлин был бы давно очищен от злонамеренных элементов.
– Но те части, которые вы ввели, разложились тоже!
Это верно, одна воинская часть, введенная в Берлин, поддалась духу неповиновения: многие солдаты сбежали домой, у других резко упала дисциплина.
– Теперь, господин рейхсканцлер, все совсем изменилось: полки, какими мы располагаем, надежны… Или, если хотите, возможен другой вариант.
– Какой, ваше превосходительство? Слушаю вас.
– Правительство могло бы перебраться к нам в Кассель, а мы тем временем навели бы порядок в столице.
– Покинуть столицу?! Это пока не диктуется обстоятельствами… – пробурчал Эберт в трубку. – Впрочем, подумаю.
На всякий случай он распорядился готовить для правительства поезд. Но он так и не знал, кто хозяева положения в городе. Одно было ясно: части, на которые можно было бы опереться, необходимо усилить.
Под утро в Берлин вступили новые формирования. Парадности на этот раз не было. Мрачно и сосредоточенно солдаты чеканили шаг. Они оцепили дворец, в котором держались матросы, и утром начался артиллерийский обстрел. Матросы отвечали беспорядочными ружейными выстрелами и пулеметными очередями.
Потрясенный Берлин слушал канонаду в самом центре города. Вскоре завыли сирены, загудели заводские гудки и рабочие стали сбегаться к месту боя. Бежали не только они, но и старики и женщины.
– Что вы делаете?! – кричали солдатам женщины. – Губители, прекратите! Перестаньте стрелять по своим!
Они увещевали солдат, грозили им и прямо лезли на батареи. В конце концов они настолько расстроили их ряды, что солдатам, готовым превратить дворец в развалины, пришлось отступить. Многие из них были разоружены, разъяренные женщины срывали с офицеров погоны.
Было двадцать четвертое декабря, сочельник. Вечером в домах должны были загореться елки, а в центре Берлина произошло, по вине Эберта, это жестокое кровопролитие.
Независимые поняли: раз они входят в правительство, приказавшее разгромить дворец, отвечать придется и им. Они метались между рейхсканцелярией и матросским комитетом, заседавшим в манеже. Эберт согласился гарантировать матросам, что они не будут разоружены при условии, что вмешиваться во внутренние распри больше не станут и сохранят верность его кабинету.
Рабочие, женщины и старики еще долго не расходились, возмущенные тем, что видели. Их переполняло негодование, но они не знали, как заставить правительство уважать волю простых людей.
XXIII
Не прошло и часа после прекращения обстрела, как в редакции «Роте фане» собралось бюро «Союза Спартака». Пришли все, даже больной Меринг, взволнованные и возмущенные. Пожалуй, одной только Розе Люксембург удавалось скрыть негодование под усмешкой человека, которого трудно чем-либо поразить. Либкнехт, как затравленный, бегал по редакционной комнате. Обстрел дворца, убийство матросов он воспринял и как политик, и как глубоко впечатлительный человек, потрясенный бесстыдством организаторов.
– Вот когда они показали себя. И как гнусно, как откровенно! Партия контрреволюции раскрыла свои карты!
Иогихес сидел сосредоточенный и молчаливый. Ни на кого не глядя, он что-то выводил на бумаге и нетерпеливо ждал, когда начнется заседание.
Лишь только Меринг открыл его, Иогихес попросил слова.
– Я вношу предложение: товарищи Либкнехт и Люксембург должны перейти на нелегальное положение, это необходимо.
– Об этом и речи не может быть! – воскликнул Либкнехт, вскочив с места. – Столько времени просидеть в тюрьме, чтобы спрятаться в самые сложные дни от дел, от людей, от революции!
Меринг с тревогой взглянул на него и на Розу.
– Надо думать, у Лео есть к тому серьезные основания, – заметил он осторожно.
– Увы, слишком серьезные.
– Я настаиваю, чтобы вопрос был немедленно снят, – решительно сказал Либкнехт. – И не для того мы сейчас собрались. Терять время на это мы просто не вправе.
Роза заявила, что совершенно согласна с Карлом.
С первых минут она незаметно наблюдала за ним: в чем-то ребенок, думалось ей; рыцарь, отважный и в то же время ребенок; не в политическом смысле, нет, а в проявлениях своей личности. Бесстрашный, и незащищенный, и нерасчетливый.
Видит бог, она думала в эту минуту о нем с необычайной нежностью. Но, представляя себе бесстыдство противников, с тайной горечью сопоставляла сидевшую в комнате группу с шейдемановцами. Никого почти не провели на съезд Советов, только подумать! Шейдемановцы оказались там хозяевами положения. Они хладнокровно сметут любого, кто окажется у них на пути. Хваленая немецкая социал-демократия, вот на что уходит твоя организованность и спаянность!
Между тем Либкнехт, весь под впечатлением событий, настаивал, чтобы в ответ на брошенный революции вызов рабочие вышли на улицу.
– Отдельно от независимых или совместно? – спросила Роза.
– За сегодняшнее они отвечают наравне с правыми, раз участвуют в кабинете Эберта. Надо поставить им ультиматум: или в ближайшие дни они созывают всегерманский съезд партии и там произойдет размежевание, или мы просто выйдем из партии, обагрившей свои руки кровью.
Роза заметила рассудительно:
– Не исключайте и того, что они могут выйти из правительства сами, якобы протестуя.
– Пора наконец внести ясность! – заявил Либкнехт. – Выйдут или не выйдут, но лицо свое они показали. Нужен съезд, мы будем апеллировать к съезду. Пребывание в одной партии с ними ложится на нас темным пятном. Конечно, они сошлются на трудности связи, но это вовсе не резон. Вот Лео сообщит сейчас…
И Лео в самом деле сказал, что всегерманская конференция «Союза Спартака» соберется в ближайшее время, дня через два-три.
– И там вопрос будет стоять о партии коммунистов, а не соглашателей и изменников! – горячо заявил Либкнехт.
– Надо повести дело так, чтобы отколоть от них и увести за собой лучшую часть независимых, – заметила Роза.
Заседание проходило негладко и наталкивалось на скрытые рифы. Слишком сильно было впечатление от утренних событий. А кроме того, в работе «Союза Спартака» накопились какие-то разногласия, которые не удавалось пока разрешить.
На вылазку Эберта Либкнехт готов был ответить немедля – как угодно, вплоть до открытых схваток. Роза Люксембург призывала к осмотрительности и выдержке.
После долгого и страстного обсуждения было постановлено: похороны погибших матросов превратить во всенародную демонстрацию решимости и протеста, а от независимых потребовать созыва чрезвычайного съезда в ближайшие дни.
Роза поднялась наконец и с обычной неотразимой логичностью заговорила об уроках съезда Советов, проведенного совсем недавно.
– Надо признать, что мы потерпели жестокое поражение, а шейдемановцы получили внушительное большинство. И надо сделать из этого все выводы. Нам придется, товарищи, завоевывать большинство терпеливо и, боюсь, неторопливо.
– Но время не ждет, – возразил Либкнехт. – События несутся стремительно, и, если мы повернемся к ним спиною, ничего хорошего не получится.
– Иногда противникам выгодно ускорять ход событий, это надо иметь в виду.
– Но ураганом не управляют, его можно лишь предвосхитить и подготовиться к нему.
– Вы правы в оценке событий, Карл, но не совсем правы в определении нашей тактики. От нас требуется очень большая выдержка.
Страстный спор возобновился было опять. Но Мерингу удалось его погасить.
– Ближайшие события помогут точнее определить нашу тактику. Шаг Эберта далеко не последний, будет еще много других.
– Вот их-то мы и должны встретить во всеоружии! – воскликнул Либкнехт.
В конце заседания Иогихес вернулся к своему вопросу снова:
– Я все же настаиваю, чтобы два наших товарища перешли на нелегальное положение.
На этот раз он встретил поддержку Пика:
– Раз Лео говорит, что у него веские основания, надо обсудить.
Либкнехт стал страстно спорить, причем разволновался так, что щеки у него побелели:
– Поймите же наше состояние – мое и Розы. Изолировать нас от всего мира просто несправедливо! Если положение ухудшится, мы найдем и место, где скрыться, и определим подходящий день. Но сегодня, накануне съезда «Спартака»…
Меринг обвел взглядом всех, пытаясь определить их мнение:
– Карл, по-моему, прав. До съезда это просто невозможно и причинило бы слишком большой урон делу.
С этим все наконец согласились. И тут же было решено, что Карл и Роза в ближайших номерах «Роте фане» обрушат свое негодование на головы виновников сегодняшней провокации.
XXIV
Двадцать девятого декабря независимые, спасая свою репутацию в глазах рабочих, вышли из эбертовского кабинета.
Двадцать девятого же хоронили матросов. Тела погибших провожала огромная демонстрация. С суровой строгостью массовых траурных шествий берлинские пролетарии прощались с жертвами «кровавого сочельника». Медленный, веский шаг бесконечных колонн, лица рабочих, плакаты, которые они несли, говорили о гневе и возмездии.
Но Эберт в своем кабинете мог принимать донесения о происходящем спокойно. Ступив на путь террора, он почувствовал себя гораздо надежнее. Союз с армией, скрепленный кровью матросов, обещал его кабинету поддержку.
Под первым же обращением к жителям после кровавых событий появилась новая подпись, как в прежние кайзеровские времена: «Имперское правительство». В вывеске «народных уполномоченных» его кабинет больше не нуждался.
Получив уведомление независимых, что они выходят из состава правительства, Эберт пробурчал:
– Ну и что же… Обойдемся без них.
У него были теперь другие союзники, власть его получила иную опору.
Советов он мог теперь не бояться: Всегерманский съезд Советов, проведенный две недели назад, принес подавляющее большинство его партии. Решения его не угрожали больше самостоятельности правительства.
Перед зданием ландтага, где проходил съезд, бушевала толпа и Карл Либкнехт произносил горячие речи.
Заканчивая одну из самых страстных своих речей, он воскликнул:
– Так будет наш голос, голос тысяч и сотен тысяч, услышан наконец или мы допустим, чтобы шайка чиновников проштемпелевала решения, угодные господину Эберту?!
Толпа закричала:
– Не будет того! Долой палача Эберта!
Либкнехт поднял руку, призывая огромное море людей к тишине:
– Тогда изберем с вами делегацию и потребуем, чтобы съезд ее выслушал.
Драма тех дней состояла в том, что улица, массы были на стороне спартаковцев, но могущественный аппарат новой имперской власти находился полностью в руках у правых. С каждым днем они все туже сжимали горло трудящимся.
Председатель съезда Советов шейдемановец Лейнерт, получая возмущенные петиции многочисленных делегаций, спокойно клал их под сукно. Делегации трудящихся на съезд не допускались.
Одной лишь делегации, от гамбургских фронтовиков, удалось проникнуть на заседание. Фронтовики потребовали решительного разоружения офицерской касты и многого другого. Подчинившись настроениям солдатской массы, съезд часть этих требований принужден был принять. Они получили известность под названием «гамбургских пунктов».
Но тут Гинденбург, из убежища в Касселе наблюдавший за всем, наложил свою руку. Никому не позволено было теперь подрывать основы, на которых держалась армия. Он опять пригрозил отставкой, если «гамбургские пункты» будут проведены в жизнь.
Кабинет Эберта охотно от них отказался. Слишком прочно он связал себя со ставкой, чтобы пренебречь ее ультиматумом.
XXV
Вместо вышедших в отставку независимых Эберт ввел в свой кабинет двух социал-демократов. Одним из них был Густав Носке. Наконец-то его таланты были оценены по достоинству.
В один из трудных для Эберта дней Носке навестил его в рейхсканцелярии. Это было еще до того, как он стал имперским министром. Увидав землистое, осунувшееся лицо с мешками под глазами, Носке спросил:
– Что с тобой, Фридрих? Этак можно и здоровье подорвать.
– Ты не хуже меня знаешь, что творится в городе.
– А-а, ерунда, не обращай внимания!
Слушая жалобы Эберта, прищурясь и кривя губы, он подумал: вот каков рейхсканцлер вблизи; еще немного и, прости господи, в штаны наделает.
– И это тебя огорчает? – Носке поднял очки на лоб и посмотрел на Эберта почти с вызовом.
– А почему, собственно, это должно меня радовать? – брюзгливо заметил тот. – Или ты в Киле так подружился с солдатской массой?
Движением записного канцеляриста Носке водворил очки на место и произнес, подчеркивая смысл того, что говорил:
– Если я с кем и подружился, так с военными, руководством. И скажу тебе, Фридрих: они единственная сила, на которую можно опереться. («Экую новость открыл!» – подумал Эберт.) Левые со своими лозунгами будут все время сталкивать нас с пути – добьемся чего-то, а они нас опять отбросят! И так без конца. Это будет не государство, а танцкласс.
Не раскрывая своих карт, Эберт спросил:
– Выходит, ты веришь только военной клике?
– Разумеется. Армия проиграла войну на внешних фронтах, но у нее хватит сил, чтобы справиться с фронтом внутренним.
Такое совпадение мыслей было приятно. И все же Эберт сказал:
– Да, но эти тысячи, сотни тысяч взбудораженных людей…
– Их укротят кнут, меч, пули! Напустить на них свирепых собак! – не задумываясь, ответил Носке.
– Несколько странно, сказал бы я, ты характеризуешь тех, кто должен принести порядок стране.
– Просто я не миндальничаю. Завертывать дерьмо в конфетные бумажки я не люблю, хотя, как старый газетчик, умею. На страну, повторяю, надо напустить свирепых собак.