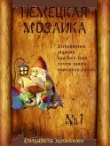Текст книги "Немецкая трагедия. Повесть о Карле Либкнехте"
Автор книги: Осип Черный
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
И вот он объявил, что слово предоставляется руководителю группы «Спартак» товарищу Карлу Либкнехту.
Солдаты смутно себе представляли, что это еще группа такая. Сказалась слабость работы, проделанной «Спартаком». Наверху, под куполом, где места были заполнены рабочими делегатами, имя Либкнехта говорило многое. А расположившаяся внизу разношерстная масса солдат имела о нем смутное представление.
С первых же слов, владея собой, потому что он был отличный оратор, и не вполне владея, потому что протест против обмана шейдемановцев и гаазовцев бушевал в его душе, Либкнехт заговорил о призраке контрреволюции: он не изгнан, он среди нас, и социал-демократы, поведшие немцев на плаху войны и взаимного истребления, вырядились сегодня в одежду революционеров.
Насколько же легче и радостнее было выступать вчера с балкона дворца Вильгельма, провозглашая свободу я социализм в присутствии огромных колонн демонстрантов! Сегодня требовались беспощадная логика, точные факты, полемизм, ирония и издевка, закованные в броню выдержки. А его душило негодование.
– Где они были вчера, эти господа, позавчера, год назад? Не они ли с рабским послушанием голосовали за то, чтобы на войну отпускалось побольше денег? Не они ля пытались вдалбливать вам, что враг по ту сторону фронта, а в стране должен царить классовый мир?!
Искренность обличений была заразительна, убежденность его заставляла следовать за собой. Но слишком много было в цирке делегатов, настроенных скорее благодушно, чем отважно. Им хотелось единства, той синицы, которую Фридрих Эберт прямо-таки держал в руках. Раздались голоса:
– О прошлом не надо, о сегодняшнем дне говорите!
– О нем-то и разговор! – подхватил Либкнехт. – О том, что социал-демократы норовят спустить на тормозах все, что вы завоевали, и при этом клянутся революцией, хотя за пазухой у них контрреволюция!
– Это грубая ложь! – выкрикнул Эберт зло и зычно.
И часть солдатской массы подхватила:
– Не надо споров, давайте конкретные предложения!
Но Либкнехт был не из тех, кто пасует перед аудиторией. Он заставил слушать себя и, продолжая громить ловких политиканов, довел речь до конца.
Вытирая лоб, бледный, он сел на место, и сверху донеслись дружные аплодисменты. До перелома было далеко, конечно, но утренняя договоренность старост должна была привести собрание к утверждению нужного состава Исполкома.
И тут Барт воспользовался своим правом председателя. Позвонив в колокольчик, он произнес:
– А теперь позвольте мне. Поскольку на меня возложена высокая миссия возглавлять сообщество старост, которое стояло у колыбели нашей революции и, с божьего соизволения, поведет ее дальше… – услышав смешки, Барт дружелюбно улыбнулся всем, – позвольте мне поделиться некоторыми соображениями.
На аудиторию ниспадала плотная пелена скуки, усталости, раздражения. В цирке кашляли и чихали, солдаты гремели прикладами, а Барт говорил о заслугах старост и о том, что с шейдемановцами сладу не будет, их надо гнать в шею.
Цирк забеспокоился и зашумел:
– К чему эти склоки, довольно! Мириться надо, объединяться, а вы тычете кулаками друг в друга!
То, что Либкнехт изложил неотразимо и остро, заразив многих своими идеями, Барт вывалял в грязи мелких дрязг и фракционных счетов.
– Короче, короче, ближе к делу! – закричали солдаты.
Сосед толкал Барта слева в спину острой ручкой колокольчика, чтобы он угомонился и закрыл рот, а неуместная его речь продолжалась.
Наконец другим, уже деловым, голосом Барт произнес:
– Есть предложение, товарищи, утвердить список будущего Исполкома.
– Какой там еще список?! – закричали многие. – Вы людей называйте!
– Сейчас назову. – Он вытащил перечень, заготовленный утром, и начал читать.
Цирк огласился яростными возгласами:
– А социал-демократов, которые революцию делали, побоку?
Солдаты сорвались с мест и кинулись на арену, пытаясь что-то втолковать президиуму. Сколько ни звонил в свой колокольчик Барт, утренний план был сорван. Солдаты бушевали, орали и требовали равного представительства для обеих партий. Сверху, правда, неслись другие голоса:
– Спартаковцев, больше спартаковцев требуем!
Но это так же тонуло во всеобщем шуме и гаме, как лица сидевших наверху в неярком свете бушевского цирка.
Под непрекращающиеся крики на арене происходило совещание президиума. Время от времени Барт, только для видимости, поднимал колокольчик, пытаясь призвать делегатов к порядку.
Кончилось все провалом первоначального списка и торжеством правых: под нажимом солдат решено было включить в Исполком в равном числе шейдемановцев и независимых и добавить к ним солдатских представителей в количестве, равном тем и другим, вместе взятым. Эти последние были у Эберта в кармане – их можно было обработать так же легко, как и во время предыдущей встречи.
После горячей перепалки Эберт сидел хотя и сильно усталый, зато удовлетворенный. Он положил кулак на кулак и на этот постамент водрузил свою голову. Можно было сказать себе, что опаснейший раунд выигран.
Оставалось еще утвердить состав кабинета, получившего название Совета народных уполномоченных. Но после того как принцип паритетности приняли, сделать это было нетрудно.
Вообще все страшно устали и потеряли интерес к происходящему. Но в битве за власть Эберт, без сомнения, вышел победителем.
XIV
Гинденбург провел вчера очень нелегкий день: объявить императору, что он лишился поддержки армии, участвовать в том, что противоречило всем его убеждениям! На эту тяжелую жертву пришлось пойти – обстановка потребовала. Но важнее всего было решить, что можно еще спасти в азартно проигранной партии. Или о спасении чего обязан в первую очередь позаботиться он, Гинденбург.
Первейшей его заботой должна была стать армия. Даже проиграв войну на полях сражений, она сохранила первостепенную важность в делах внутренних. Хотя зловещие сентябрьские уверения Людендорфа, что армия не продержится и сорока восьми часов, не оправдались и немцы продолжали сопротивляться, положение ее стало безнадежным.
С генерал-квартирмейстером, так скандально проигравшим войну, пришлось все же расстаться. В общественном мнении страны он стал фигурой одиозной.
Обнимая старого сослуживца, фельдмаршал заявил, что свою признательность и уважение сохранит к нему навсегда.
– А эти мерзкие обстоятельства… условия, в какие нас поставили… – он не договорил и еще раз обнял бывшего помощника.
Генерал Гренер в некотором отношении больше соответствовал обстановке. Он был свободен от солдатского благородства, присущего Людендорфу, и в своем хищничестве был гораздо грубее и откровеннее.
То, что произошло в Берлине, а еще ранее в Гамбурге, Бремене, Любеке, Дрездене и других городах, выглядело катастрофой. Предстояло постепенно восстанавливать то, что разрушила в течение одного дня революция. Сведения, приходившие из столицы, приводили Гинденбурга в ярость.
В доверительном разговоре с ним Гренер признал, что при встрече с социал-демократами допустил грубый промах. Они готовы были спасти монархию, пожертвовав кайзером, он же потребовал сохранения Вильгельма. Но из той же встречи Гренер вынес суждение о социал-демократах.
Теперь, поздно вечером, вновь рассматривая события дня, разделяя скорбь Гинденбурга по кайзеру, он счел возможным отметить и некоторые утешительные обстоятельства.
– Мне думается, они постучатся в нашу дверь сами. Гинденбург поднял глаза на нового своего помощника:
– Вы о ком, генерал?
– Об этих соци.
– Да-а, не исключено… Но и нам придется считаться с ними, хотим мы этого или нет.
Они рассмотрели и мрачные и обнадеживающие стороны положения, сложившегося для военной касты.
Был поздний час. Время подходило больше для спокойной беседы двух высших начальников, чем для деловых переговоров. Но тут дежурный адъютант почтительно доложил, что его превосходительство генерала Тренера вызывает Берлин.
Получив молчаливое разрешение поговорить по телефону в присутствии Гинденбурга, Гренер произнес холодно в трубку:
– Да?
Чуть позже он посмотрел на шефа и кивнул: словно именно такой поворот дел оба предвидели.
Разговор был обстоятельный и какой-то смутный. Несомненно, оба собеседника хорошо понимали, в чем его суть, но при этом несколько затушевывали ее.
Гинденбург не сводил глаз с помощника. Шевельнулась было мысль, что, затягивая разговор, тот допускает невежливость; но, видно, этого требовали обстоятельства.
Наконец Гренер опустил трубку.
– Прошу простить меня, ваше сиятельство, по это как раз иллюстрация к тому, о чем мы беседовали.
– Я так и подумал… Один из них?
– Самый главный.
– Эберт?
– Да. И хорошо, что инициативу проявил именно он. Такой шаг нового канцлера заслуживал обсуждения.
– Чем вы объясняете звонок в столь поздний час?
– Им нужна сила, на которую можно было бы опереться.
– А не повернут ли эти господа потом влево?
– Я уже имел честь докладывать вам о своем впечатлении. Господа эти не орлы, способные летать высоко, – скорее, петухи, перелетающие с насеста на насест. Наш насест им крайне необходим в настоящее время.
Сравнение не вызвало улыбки на лице Гинденбурга, слишком давила ответственность, которая легла на него.
– Надо будет присмотреться к ним ближе.
– В борьбе за Германию они серьезный козырь, ваше сиятельство, я в этом убежден… А господин Эберт будет звонить мне и в следующие вечера. Прямая связь не нарушена, и мы договорились с ним: он будет пользоваться ею.
XV
В тот же вечер, девятого ноября, только несколькими часами раньше, из бреславльской тюрьмы была выпущена Роза Люксембург. Толпа осадила ворота и угрожала все разнести, если политические заключенные не будут освобождены. Ни протесты Розы, ни телеграммы канцлеру не сумели сделать того, что сделал восставший народ.
Стоило ей шагнуть за ворота тюрьмы, как ее подхватили десятки рук. Люди кричали, обнимали ее и понесли через весь город.
На Домской площади шел массовый митинг, и Роза Люксембург, измученная, исхудавшая, с волосами, которые в тюрьме совсем поседели, ощутила эту совершенно новую атмосферу. Маленькая ее фигура появилась над толпой, и затихшая площадь услышала слова, обращенные к народу Германии.
Бессилие и изможденность были забыты, женщина-трибун снова властвовала над толпой, увлекая пламенем своей мысли.
Сознавать, что силы не иссякли в неволе и порывы не ослабели, было упоительно. Это чувство воодушевило Розу и сделало ее речь еще более вдохновенной.
– Не считайте, дорогие братья и сестры, что в ваши руки вложено теперь все. Революция приносит не только свободу, но и неслыханные испытания – стойкости, мужества, верности идеалам. Вас ожидают серьезные испытания, но вы, я уверена, окажетесь на высоте. Мгновения, подобные этим, повторяются в истории нечасто, и нужно суметь овладеть ими.
Все продуманное ею в заточении ожило с новой силой. Свою полную драматизма речь она закончила с необыкновенным подъемом. Без сомнения, пришел тот самый час, во имя которого Роза боролась долгие годы.
Ночной поезд должен был доставить ее в Берлин. Ее уговаривали остаться, хотя все понимали, что место ее там, где происходят события решающей важности.
В поезде она с трудом нашла место. Все было переполнено – солдаты, простолюдины, женщины, – страна как будто сдвинулась с места, и дух беспокойства погнал людей в неведомые дали.
Но в одном купе потеснились, и Роза села. Не успела она прислониться к спинке сиденья, как силы покинули ее. Она свесила голову и задремала.
На следующий день в помещении, где обосновалась редакция новой газеты «Роте фане», встретились друзья, которых тюрьма и преследования разъединили на долгое время. В просторном, богато обставленном помещении все было непривычно. Всего лишь вчера им завладели спартаковцы, изгнав прежних хозяев – издателей буржуазной «Локальанцайгер». Теперь ходили из комнаты в комнату и не столько удивлялись – в Берлине много было для этого поводов, – сколько выражали удовлетворение. Крепкое рукопожатие или рука, положенная на плечо товарищу, радовали; но и теплый дружеский взгляд, улыбка – все прорывалось как бы мимоходом. До излияний ли было сейчас!
Но как было не заключить в объятия Розу, как было не сказать, подавив щемление в груди, что в общем-то ничего, она выглядит молодцом!
– Во всяком случае, силы у меня есть, в работу я уже включилась, – заявила она.
Говорить надо было о другом, но говорить деликатно! Готские решения, соединившие «Спартака» с независимыми, не помогли ему, хотя на это как раз рассчитывали Роза и Лео Иогихес. Легальность, за которую в пору преследований цеплялись, пришла сегодня сама собой, а груз гаазовцев, их двуличие и оглядка, тяжело висел на «Спартаке».
На другой день встреча соратников произошла уже в отеле «Эксцельсиор». Решили впредь называться не группой, а «Союзом Спартака»; избрали Центральный комитет; наметили ближайшие задачи и распределили между собой обязанности. Без каких-либо споров за Либкнехтом и Люксембург было закреплено руководство газетой.
«Роте фане» вышла вечером того дня, как в Берлине разыгрались события. Разъяснять смысл происшедшего, предостерегать трудящихся от обмана было сейчас самое важное.
Либкнехт доказывал товарищам, что мошенничество уже совершено – вчера в цирке Буша, и последствия его неисчислимы.
Лео Иогихес, тоже вернувшийся из тюрьмы, постукивал по столу карандашом и кивал, показывая свое согласие с Либкнехтом.
– Лицо новой власти ясно, – сказал он. – Это власть набирающей силы реакции.
– В Исполкоме позиции спартаковцев тоже слабы, – продолжал Либкнехт. – Надо через печать и сеть агитаторов упорно разъяснять суть положения, надо бросить в гущу рабочих все силы, использовать весь наш опыт.
– Он не так уж велик, увы, – вставил Иогихес.
– Лео, – сказал Карл, – о времени, которое «Спартак» упустил, говорить не будем. Говорить надо о том, что есть сегодня и что требует всеобъемлющей работы.
Иогихес кивнул – не энергично, словно бы из вежливости, а не от полного своего согласия.
На первом же заседании обнаружилось различие в оценке целей движения. Часть, в том числе Роза Люксембург, считала, что задачи «Союзу Спартака» диктует уровень политического сознания масс; то, что созрело в сознании, можно снимать, как готовую жатву; то же, что пока дозревает, снимать до срока, искусственно ускоряя процесс, нельзя. Либкнехт же был убежден, что ждать такой зрелости – значит плестись в хвосте масс: зрелость эту определяют разум передовых элементов и воля организаторов.
– А то ведь что получится: соотношение сил в Исполкоме мы примем за объективную картину состояния умов – так, что ли?
– Не совсем так, – сказала Роза. – Но успех шейдемановцев показывает невысокий уровень сознания масс.
– А если завтра по нашему призыву они выйдут на улицу, что вы тогда скажете?
Значит, Карл убежден, что лозунги «Спартака» так сильно проникли в толщу народа? Иогихес тревожно взглянул на Либкнехта: не ошибается ли он? Не переоценивает ли влияния «Союза Спартака»?
Многое было неясно, спорно и рискованно. Но роль новой газеты как органа революционной мысли ни у кого не вызывала возражений. Именно потому и решили, чтобы возглавили ее Карл и Роза.
XVI
«Роте фане» вышла девятого и десятого. Казалось, Директора «Локальанцайгера», напуганные революцией, предпочли не затевать спора из-за отнятого у них помещения.
Но это было не так. Правые силы очень быстро уловили характер эбертовского кабинета и поняли, что в ближайшее время можно будет на него опереться.
«Все, что высказывает Эберт в своих воззваниях… правильно и умно, – написала вскоре буржуазная «Берлинер тагеблат». – Политические вожаки, получившие… власть в свои руки, заслуживают благодарности даже инакомыслящих, величие их будет признано историей».
После того как собрание в цирке Буша вверило судьбу Советов элементам аморфным и правым, враги революции стали смелее.
Когда сотрудники «Роте фане» явились на третий день, чтобы готовить очередной номер, наборщики «Локальанцайгера» накинулись на них с кулаками: их руками владельцы выполнили то, что было нужно им. И «Роте фане» перестала выходить.
Спартаковцы обратились в Исполком. Постановление Исполкома было направлено Эберту, и тот дал указание – словечко стало входить в обиход – освободить опять типографию для спартаковцев. Но указание было недостаточно категоричным, и газета не выходила. Только через неделю, связавшись с другой типографией, начали печатать ее вновь.
Тем временем малоприметный Отто Вельс вырос в фигуру крупного плана. Обосновавшись в комендатуре Берлина, он вкусил от власти, и плод ему понравился. Опустевшее учреждение с разбежавшимися сотрудниками начало обрастать добровольцами, новой охраной. Подбирали молодцов, верных Эберту. Каждому внушали, что важнейшей задачей комендантских частей является охрана нового порядка и борьба со смутьянами.
Охраняя порядок, они ворвались однажды в помещение «Роте фане» и стали бесчинствовать. Звонки сотрудников в комендатуру и протесты ни к чему не привели. Только насладившись этим маленьким опытом, Вельс отозвал своих людей из редакции.
В тот первый налет открылось любопытное обстоятельство: охранники не только вламывались в редакционные комнаты и рылись в столах – они кого-то искали. Имена разыскиваемых названы были не сразу. Оказалось, что это Карл Либкнехт и Роза Люксембург.
– А зачем они вам? – враждебно спросили сотрудники.
– Это уж дело наше…
Так с первых дней делам, продиктованным волей народа, стали противопоставляться акции, производимые по таинственным указаниям.
Спустя некоторое время в редакцию уже ворвались с прямой целью обыска: все до основания перерыли и раскидали. Но им нужны были, кроме того, Либкнехт и Люксембург – они этого не скрывали. Точно у них свои счеты с ними.
Когда Роза Люксембург пришла в редакцию, возбужденные товарищи рассказали о новом налете. В своей рабочей комнате она слушала их с улыбкой очень опытного человека.
– Лучше было бы вам и Карлу работать в другом помещении.
– Где это видано, друзья, чтобы газету делали издалека? И притом революция в самом начале, а мы станем бояться?!
Либкнехту, пришедшему позже, тоже все рассказали. Он выслушал без улыбки, скорее сосредоточенно.
– Наглеют с каждым днем. И какой-то источник питает их… Прятаться? Это исключено, Роза права. Надо, наоборот, доказать молодчикам, что мы нисколько их не страшимся.
Сотрудники не решились настаивать, хотя очень опасались за судьбу Карла и Розы.
– Словом, работать будем, как прежде. Ко многому еще придется привыкнуть, если Совет депутатов будет вести себя так же бесхарактерно.
Карл и Роза остались в комнатке, которую за короткое время полюбили. Они научились среди доносившегося через тонкую стену шума сосредоточиваться на своем, обсуждать план статей, подбирать лозунги, с которыми газета обратится завтра к читателям, думать о том, что ожидает их впереди.
Здесь среди бурлящей и подчас грозной жизни создавались лучшие статьи и памфлеты Карла и Розы.
XVII
Либкнехт чаще всего оставался ночевать там, где его заставало позднее собрание. Встретить его можно было и в редакции, и на рабочем митинге, где он слушал горячие речи, сидя в президиуме, или выступал сам, и на демонстрациях, частых в те дни, где он шагал в первых рядах вместе с организаторами, и на собрании активистов. Он пристрастно изучал биение общественной жизни: спады и подъемы, перебои и напряженность пульса глубоко занимали его.
Зная за собой одну черту – некоторую отвлеченность мысли, недостаточную ее заземленность, что ли, – он прислушивался к голосам людей, находившихся в гуще жизни.
Как-то после собрания, которое затянулось допоздна, ушли вдвоем – он и Кнорре. Либкнехт намотал на шею шарф, и все же ему было зябко; он растирал руки, стараясь согреться.
– Довольно противное время, надо было что-нибудь надеть под пальто.
– Так у меня жилет есть, возьмите, ради бога, – предложил Кнорре. – Мне и без того жарко.
– Ну уж, жарко…
– Ну да, кручусь целый день и спорю до хрипоты!
Жилета Либкнехт не взял: уверил, что если пойти чуть быстрее, то согреется. Разговор перешел к самому важному.
– Я скажу, товарищ Либкнехт, так: авторитет ваш огромен. Спросите любого рабочего, кому он доверяет больше и кто для него выше – Эберт, или Шейдеман, или Гаазе, или вы. Даю голову на отсечение, предпочтение будет отдано вам.
– Быть может, оно и так; хотя это требует еще проверки… И тем не менее на глазах у того же рабочего Эберт прогрызает революцию, как жучок-короед, подтачивает ее день за днем, а рабочий молчит!
– Эберт вовремя сообразил, что подбросить немцам в первую очередь: мир, демобилизацию солдат, возвращение к прежней жизни. Пускай этой жизни никогда больше не будет и нашего брата ждет безработица…
– А-а, так это вы понимаете? – обрадовался Либкнехт. – Если сколько-нибудь трезво проанализировать ситуацию, станет ясно, что его посулы чистейший блеф.
Эберт ведет вовсе не к замирению в стране. Его цель – обеспечить себе в неминуемых столкновениях как можно больше сторонников.
Кнорре согласился с ним и добавил:
– Учтите при этом, какие традиции у шейдемановцев и какой слаженный аппарат.
– Теперь они прибрали к рукам аппарат государственный. Я бы нисколько не удивился, если бы стало известно, что они якшаются и с военными.
– А то как же, якшаются. Без военных им придется туго.
Прошли уже изрядное расстояние от завода. Ни тот, ни другой не спрашивал, куда идут. Оба считали, что провожают друг друга. Кнорре спохватился первый:
– А мы ведь вовсе не к вашему дому идем.
Либкнехт честно сознался, что домой ему поздновато: не хочется будить жену.
– Бедняжка привыкла, что я по нескольку дней не являюсь. В общем, жаль ее: столько времени я отсутствовал, так и теперь почти не бываю дома.
– Такая наша жизнь, – заметил Кнорре коротко. – Тогда ко мне?
– У вас, надо думать, тоже жена давно спит?
– Не жена, а подруга, – сказал суховато Кнорре. – И живем отдельно. Работница, такая же горемычная, как и все. Видимся раз в год по обещанию. Ни у нее времени нет, ни у меня.
Сердце Либкнехта сжалось от сочувствия. Нелегко живется пролетарию, отдающему все силы партийному делу, подумал он.
Но поговорить с Кнорре надо было о многом, и он последовал за ним. Все больше углублялись в пустынные молчаливые улицы, которые Либкнехт знал и не знал. В этот поздний час все выглядело малознакомым. И облупившийся двухэтажный дом, в котором жил Кнорре, на прямой, как стрела, магистрали показался чужим.
В комнате царил суровый мужской порядок. Тут почему-то особенно бросилось в глаза, что Кнорре изрядно прихрамывает.
Он поставил чайник, потом выложил все, что у него нашлось. Либкнехт вспомнил, что у него с собой бутерброды, приготовленные Соней, и достал их из портфеля.
– И мой взнос примите.
– Ну, это не дело, обойдемся и так… – Впрочем, бутерброды Кнорре развернул и, кладя на тарелку, заметил: – Женская рука сказывается все-таки. Моя балует меня этим нечасто. И всякий раз такое баловство приятно.
Либкнехту хотелось поскорее вернуться к прерванному разговору.
– Скажите мне вот что: почему мы, спартаковцы, и влиятельны и в то же время сравнительно малочисленны?
В зеленых глазах Кнорре мелькнуло любопытство: этот умнейший человек, признанный руководитель то ли хочет проверить на нем что-то свое, то ли в самом деле не все себе уяснил?
– «Спартак» – самая активная группа в стране. А люди действуют, товарищ Либкнехт, лишь под давлением обстоятельств. Сегодняшние условия на прямые выступления их не толкают, хотя этого не миновать все равно. Но подготовить условия, при которых массы откликнулись бы немедленно на наш призыв, мы обязаны.
– Вот-вот, подготовить условия! – подхватил Либкнехт. – То есть монолитную организацию, по одному слову которой рабочие пошли бы на штурм.
– Условия для штурма еще не созрели.
– Но атаковать шейдемановцев надо непрерывно. Рабочий должен увидеть их истинный облик.
Кнорре промолчал. Под штурмом он понимал непосредственное участие масс. То же, о чем говорил Либкнехт, относилось больше к сфере словесной борьбы. Тут он не считал себя особенно сильным.
Пили суррогатный чай. Вместо сахара положили кристаллики сахарина. Нашлась горбушка хлеба, которую Кнорре разогрел на плитке, и немного джема.
– Не ахти какое угощение, – немного смущенно заметил он. – Но что есть, то есть; вот еще ваши бутерброды выручат.
Либкнехт не отозвался, занятый своим.
– Борьба неминуема, – продолжал он, – и мы должны хорошо подготовиться к ней. Это потребует предварительных капитальных решений, поэтому ваша позиция меня очень интересует.
Кнорре вскинул лишь брови, давая понять, что собственных суждений не переоценивает. Но если от них может быть прок, пожалуйста, он готов выложить.
Проговорили почти до утра. По настоянию хозяина Либкнехт устроился спать на кровати, а Кнорре соорудил для себя ложе из табуретов и стульев и, улегшись, стал уверять гостя, что ему удобно и выспится он не хуже, чем на кровати.
XVIII
Тайные силы неуклонно подтачивали дело революции. Исполком мог принимать какие угодно благие решения, но, дойдя до кабинета Эберта, они там застревали. Или возвращались с такими оговорками, что Исполком, ставший уже на путь уступок, видоизменял их или попросту не применял.
Стоило Исполкому под нажимом Союза красных фронтовиков потребовать чистки реакционного офицерства, как из ставки пришел угрожающий окрик: Гинденбург предупредил, что, если такое решение будет проведено, он и Гренер немедля уйдут в отставку.
Берлинский кабинет, связавший свою судьбу с ними, не мог пойти на такой шаг. Чуть не каждую ночь Эберт по прямому проводу вел переговоры со ставкой. И Гренер разговаривал с ним языком полуприказаний.
Ввести войска в Берлин. До минимума ограничить права Советов. Вернуть офицерству привилегии. Содействовать всеми силами установлению порядка.
Эберт нашел в себе талант послушания. Роль канцлера, облеченного полнотой власти и при этом опирающегося на армию, устраивала его вполне. Все режимы мира опирались на армию, и Эберт вовсе не стремился к тому, чтобы новый режим был исключением. Власть его – Эберт знал наверняка и позже поставил это себе в заслугу – была охранительной, готовой опереться на силы старой кастовой армии.
За какие-нибудь две недели права Исполкома стали мнимыми. А власть кабинета Эберта из мнимой и зыбкой, державшейся будто бы на доверии народа, превратилась в сравнительно прочную, с опорой на армию.
Военные силы комплектовались в Берлине и в других местах. Отто Вельс сколотил отряды охранников. Было много добровольческих буржуазных дружин и так называемое народное ополчение. Перед ними поставили цель защищать правительство.
Ставка же проделала важнейшую часть работы: отвела после поражения войска за Рейн, распустила всех неустойчивых по домам, а кадровиков – фельдфебелей, сержантов, унтер-офицеров – сплотила в новые формирования.
Пришло время требовать, чтобы правительство разрешило ввести в столицу надежные части.
Берлин не совсем еще разобрался в том, что принесло ему девятое ноября. Свободу? Облегчение условий жизни? Нет, облегчения не было. Только бои на фронте прекратились. Мысль о кровопролитии была берлинцам теперь ненавистна.
И надо же было, чтобы в разгар бурной уличной жизни, с митингами и демонстрациями, с выступлениями Либкнехта, Люксембург, Пика одна из демонстраций, воспламененная речью Либкнехта, направилась к полицай-президиуму на Александерплац требовать, чтобы все политические, кто еще там сидит, были освобождены. Именно в это время она наткнулась на грузовик с охранниками Отто Вельса и была ими обстреляна.
Спустя короткое время случилось еще одно серьезное событие. На этот раз внушительную демонстрацию устроил Союз красных фронтовиков. Носила она мирный характер. И тем не менее на углу Шоссештрассе и Инвалиденштрассе солдаты полка «Майские жуки», получившие уже известность довольно мрачную, обстреляли ее. На этот раз убитых и раненых было много.
Провокации готовились не так уж скрытно. Перед тем унтер-офицеры провели в цирке Буша свое собрание. Там, где недавно кипели страсти сумбурной, но настроенной радикально массы, ярились на этот раз темные силы старого порядка. Унтеры присягнули на верность Эберту и обещали сделать все, чтобы поддержать его кабинет.
Когда на улицах Берлина пролилась кровь, к зданию имперской канцелярии подошла толпа из сержантов, унтеров и других верных людей. Потребовали канцлера.
Он появился на балконе. Снизу стали кричать ему, чтобы он объявил себя президентом и установил наконец порядок. Эберт со всей скромностью великого человека заявил, что высоко ценит доверие народа, но прежде должен обсудить вопрос с членами правительства и с партией. Толпа повторяла его имя долго, как бы подчеркивая его популярность.
В свой кабинет Эберт вернулся приятно возбужденный, но не меньше прежнего озабоченный. Вот уже сколько времени ставка настаивала на вводе войск в Берлин, а он согласия не давал. И не отклонял тоже – скорее старался убедить, что подходящий момент еще не пришел.
Эберт рассчитывал на собственные формирования, а их не хватало. Весьма пригодился бы Носке, но он сидел в Киле и по-прежнему упивался ролью военного губернатора. Конечно, и Вельс был надежной опорой, но полагаться на него одного казалось рискованным.
Канцлер Эберт потребовал справку о сегодняшних жертвах.
– А стрельбу кто первый открыл? Левые, надо думать?
– Они, безусловно.
– Я, разумеется, глубоко сожалею, но, увы, они заслужили свою участь, – заключил Эберт.
Он не знал еще, какая каша заварится. Потому что спартаковцы и независимые после этой провокации решили обратиться к народу, призывая его протестовать.
Оказалось, что в сердцах берлинцев запал еще есть. Рано утром следующего дня трудовой Берлин поднялся, как по команде, и вышел на улицы. Он был снова революционным, полным решимости, как и девятого ноября. Куда ни взгляни, повсюду демонстранты. Колонны шли и шли, с флагами, транспарантами. Клич был один: все на Аллею победы!
Фигура Либкнехта в черном пальто и поношенной темной шляпе мелькала то здесь, то там. Стоило колонне сделать остановку, как он, взобравшись на выступ дома, или балкон, или опору колонны, обращался к рабочим с краткой, но страстной речью.
Слово «возмездие» было у всех на устах. Зная, кто истинные виновники вчерашних расстрелов, демонстранты кричали:
– Долой Фридриха Эберта! Долой Вельса!
Эберт сидел в своем кабинете с серым, обрюзгшим лицом и делал вид, будто работает, хотя на самом дело только водил пером по бумаге. Вот когда пригодились бы Носке и генералы! Кажется, он допустил ошибку, что противился до сих пор вводу войск.
Демонстрации продолжались до позднего вечера. Когда стало известно, что завтра на Трептовых лугах назначено их продолжение, Эберт решился.