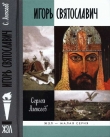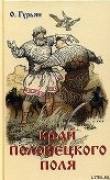Текст книги "Юрий II Всеволодович"
Автор книги: Ольга Гладышева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
– И съел? – ужаснулся Лугота, не зная, верить ли.
– Просто так сварил, для острастки другим.
– Он зверь лют!
– Говорят, таковы их нравы.
– Кто говорит?
– Кто в плену был после Калки.
– А может, выдумки это? – все надеялся Лугота.
– Может, выдумки, – тихо согласился монах. – Только сказывают люди знающие.
– Стало быть, Тимучин – это и есть Чингис?
– Ну да, говорю же… Он самый. Когда ему было всего девять лет, он брата своего родного убил только лишь за то, что тот отнял у него рыбешку.
– Какую рыбешку?
– Маленькую. Ее Чингис поймал в речке Керулене.
– И что же это он? В гнев пришел? Али себя вовсе не помнил и собой не владал?
– Како! Исподтишка, в спину ножиком.
– Из-за рыбешки? Родного брата?
– А вырос-то, слышь, стал устрашать врагов местью, а простым людям являлся как бы Бог.
– Он же помер, никак?
– Помер, да внук его Батыга еще лучше деда, еще зверее. И другие чингисиды от него не отстают.
– Родня, что ли?
– Ну-у… Наши князья Рюриковичи, а они чингисиды.
– На людей и не похожи вовсе по обличью-то, – неожиданно вставил старый Леонтий.
– Да где ты видал-то их?
– Видал, потому и говорю! Глаза во-о, один тута, второй тута, как вон у мерина твово. Нос не торчит, а сплюснут, и волосья на бороде реденькие, как у холощеного жеребца. А ростом еще ниже, чем мерин твой в холке. Скота у них видимо-невидимо, сказывают, что больше, чем во всем остальном белом свете. Не токмо овцы да лошади, а еще и велблуды. Стреляют метко. На лошади скачет во всю прыть и навскидку бьет из лука птицу, мимо летящую.
– Неуж?
– Верно так. Но делать ничего больше не умеют. Избу даже срубить не смыслят. Да како избу! Они землю пахать не умеют! Ничем больше не занимаются. А все хозяйство на бабах. У них не по одной жене, как у всех людей, а столько, сколько прокормить сумеешь. Женятся даже на сестрах родных.
– Неуж? – поразился Губорван, слегка заржав.
– Верно так. На матери или на дочери – нет, не женятся, а сестер берут себе в жены.
– Ты, дядя, плетень плетешь!
– Пошто плетень? А булгары? Которы к нам прибегли от татаров. Они и сказывали.
– Булгары-то? Аль ты по-ихнему понимаешь?
– Там у них и русские жили ведь. Они данники наши. Как Юрий Всеволодович сходил на них походом, они с мольбою великою просили его управить все, как было еще при отце его Всеволоде. Так что там и русские затесались промеж них. Как они прибегли, князь им расспросы многие учинил.
– Значит, он знает теперь, как с татарами биться? – с надеждой спросил Лугота.
– Может, и знает, – как-то неохотно сказал Леонтий.
– Ну, а как вооружение у татар? – все не унимался Губорван. – Каковы они в сечи?
– Щиты у них из хвороста либо из кожи, сабли кривые…
После этих слов установилась у костра тишина, каждый об одном и том же думал.
– А мечи, верно, кривые, – тоже преувеличенно громко отозвался Анисим. – Кривые и однолезвенные. Куда им супротив наших обоюдоострых!
– Куды! – поддержал Леонтий. – Только они и кривыми искрошили русичей и кипчаков на Калке.
– Но ведь и Мстислав Удатный заединства на Руси хотел? – опять обратился Лугота к монаху.
– Отстань. Не знаю я, чего он хотел! – неожиданно грубо ответил чернец.
Глава вторая. Память
Он задремывал тяжелой и недолгой дремой. Очнувшись от гулкого сердцебиения, лежал, прислушиваясь: а вдруг подошло воинство из Новгорода? Садился на ковровую лавку, не отводя взгляда от малиновых углей жаровни, чутко ловил каждый звук, проникавший снаружи сквозь заиндевелые войлочные стены.
Смолкли голоса дружинников, располагавшихся возле костров вдоль берега Сити. И стражники у входа не гремели мечами, стихли, угревшись в овчинных тулупах.
Подозрительный шорох над шатровым скатом заставил Юрия Всеволодовича выскочить, но всего лишь снег толокся и взвихрялся возле дымового отверстия. Все же решил выйти наружу. Невидимые всадники отозвались негромко и покойно:
– Все глухо, княже.
Он снова лег., Смежил веки, думая, что проведет эту ночь так же, как другие, в бессонье, прерываемом коротким забытьем. И сразу же кто-то потряс его за плечо:
– Сокровище Гюрги, очнись!
Он улыбнулся, узнавая голос, жемчужную поднизь на лбу, перстень с крупным гиацинтом.
– Вели купить яиц к иконному письму.
– Пошто? Кому это? – с трудом пошевелил он непослушными губами.
– А калиграфу нашему. Он коймы у деревцев пишет золотом по лазури.
– Какой калиграф, матушка? Я позабыл.
– Который смолой горящей политый скончался.
Юрий Всеволодович застонал:
– Неужто и мне бесчестье лишь суждено?
– Пусть напишет, как снега поутру засияли и пламень зари червлен, яко киноварь, – сказал голос.
Он не видел ее, но знал, что она здесь, рядом, и его затопила радость, словно в детстве у нее на коленях. Множество смеющихся зверей приступили, надвинулись мордами со всех сторон: козы и лоси, лисицы, бобры, медведи мигали утомленными глазками.
– Обычай свиньям по дебрям ходити, карасям в грязях валятися, – умильно пропел Ярослав Михайлович, просовываясь между зверями. – Князь у нас жидок станом, да крепок разумом!
– Пошел вон, не мешай! – хотел прогнать воеводу Юрий Всеволодович и не смог.
– Чадце мое, а вот конь твой игреневый, садись! – сказал где-то близко дядька Ерофей. – Глянь, какой хвост у него рыжий, как песок, и гривка така же, смотри, я ее расчесал, распушил. Гюрги, а Гюрги? Не спи!
Как жалко, что такой сон прервался. Сколь давно он не видел матушку! А лицо дядьки Ерофея вовсе стерлось в памяти.
Мать как звалась Марией в бытность свою чешской княжной, так и крестилась под этим же именем во Владимире, став невестой русского великого князя. И пред Господом предстала она в иночестве и схиме парией же, и это нашли нужным отметить особо в летописях книжные описатели, потому что редко кому на Руси в те времена удавалось пройти всю жизнь с одним прозванием.
Родившись, человек получал сначала рекло: его нарекали в честь какого-нибудь старшего живущего или умершего родственника. Затем он обретал имя – крестное, по небесному угоднику. В конце же жизни, если не случалась его смерть внезапной и он успевал исповедаться и посхимничать, постригался в иноческий чин под покровительством нового святого. И такое еще случалось в иных семьях, что новорожденному присваивалось не одно рекло, а сразу два: кроме явного, еще и тайное, которое оберегало его от происков злых духов и которое открывалось только в конце его земной жизни. Ну, а кроме того, редко кому удавалось прожить так, чтобы к нему не присмолилось какое-нибудь прозвище. Вот тот же невольный виновник болезни и смерти матери Иван, по реклу Мстислав. Он попал в летописный Свод под прозвищем Каша, которое получил в раннем детстве за то, что шибко любил гречневку, нетерпеливо тыкал пальцем в тарель и кричал: «Каши-ка горячи-ка, дать, дать!»
И к другим братьям прилеплялись, как репьи, разные смешные и обидные прозвища, но постепенно позабывались и оставались лишь имя и рекло. Ярослав в крещении стал Федором, у Святослава небесный покровитель архангел Гавриил, у Владимира – святой великомученик Дмитрий Салунский.
В памятном пергаменте, где сообщалось о смерти матери, Юрий назван еще и Георгием, но это и не два имени, и не ошибка летописца, который конечно же знал, что имя прославленного в христианском мире святого претерпело на Руси постепенное изменение: Георгий – Гюргий – Гюрий – Юрий, и все они оставались в употреблении, на каждое Юрий Всеволодович отзывался во все годы своей жизни.
Нарекли его при рождении в честь деда Юрия Долгорукого, крестили в день Георгия Победоносца.
На четвертом году жизни ему впервые постригли на голове волосы. И это была не просто стрижка, а – постриг. На то, чтобы отрезать княжичу первые пряди, надобно было испросить благословение церковное. Крестный отец Юрия игумен Симон привел свое духовное чадо в храм, где епископ суздальский Иоанн прочитал над ним молитву:
– По заповедям Твоим, Боже, творим во славу Твою. Пришедшему рабу Твоему Георгию начати стрижку волос головы его благослови вкупе с его восприемником.
После стрижки княжич как бы сразу возмужал настолько, что мог и верхом на коне восседать. Он забирался в седло с помощью стремянных бояр, сердце его полнилось сладким ужасом, но когда ощутил под собой широкую, надежную спину старой, выученной комоницы, сразу ободрился, крикнул срывающимся голосом:
– Я – Георгий Храбрый! Буду разъезжать лесами на белом коне и раздавать зверям наказы!
Кругом все начали смеяться, громко и весело, стали хвалить нового русского витязя, а дядька Ерофей, старый славный ратник, прогудел согласно:
– А как же наинак, вся живая тварь у Георгия Храброго под рукой.
Хоть и не трусил новоявленный Георгий Храбрый, сидя в глубоком седле, однако сполз с комоницы с душевным облегчением и сразу попал в объятия приставленного к нему отныне пестуну – дядьки Ерофея. Тут же и кормилица протянула руки, причитала слезливо:
– И куда отымают у меня тебя, бажоный ты мой?
– Ни гугу! – сурово осадил ее дядька. – У тебя в зыбке княжна Елена да вон еще братец Ярослав неперематеревший, их обожай!
Ярослав, еще неперематеревший, завистливо наблюдал за тем, как воздавали его брату почести, но крепился, слез не выказывал, ибо знал: и он через год-другой вот так же будет в центре внимания важных князей, бояр, священнослужителей, многих приехавших из разных земель гостей.
Дядька Ерофей увел своего воспитанника на мужскую половину великокняжеского дворца, а в гридне начался пир. Отец, великий князь Всеволод Большое Гнездо, на радостях одаривал приглашенных союзных князей золотыми и серебряными сосудами, конями, а их бояр мехами и наволоками.
– Дядька, а чтой-то ты сказал, будто вся живая тварь теперь у меня под рукой? Рази пастух я живым тварям?
– На святого Георгия праздник пастухов, в день этот скотину на пастьбу выгоняют.
– Как? Кнутом?
– Не-ет, гонят веткой вербы, кою нарочно хранят с самого Вербного воскресенья.
– А зачем?
– Скотину чтобы от всякой напасти уберечь.
– Ну, а святой Георгий что же? Он, что ли, над пастухами всеми князь? Или как?
Ерофей задумался. Он хоть и назывался дядькой старым, однако же был не базыга какой-нибудь, а середовый, в силе и разуме. Бывший воитель, сотник, которого отец освободил от ратного дела из-за его многих ран телесных, был и грамоте книжной обучен, неспроста определен в дядькование. Поворошил мыслями в своей начавшей лысеть голове, нашел что ответить пестунчику:
– Святой Георгий – это первый устроитель земли нашей Русской. Был он сыном премудрой Софии и братом трех ее дочерей, а как подрос, воссел на белого коня…
– Как я нунь?
– Вот-вот… Воссел на белого коня, принял благословенье от святой Софии и сказал: «Пойду-ка по всей земле светлорусской утверждать веру христианскую!»
– Ну, а как же тварь живая?
Дядька покосился из-под мохнатых бровей на настырного воспитанника, подумал, да вдруг рассмеялся.
– Чтой-то ты, дядька?
– Вспомнил притчу одну. Слушай. Значит, так. Один раз пришел волк к коню и говорит: «Святой Георгий велел съесть тебя». Конь и отвечает: «Ну, что же, коли велел, так давай ешь. Почни сзаду, а на переду я еще похожу, травку пощипаю». Серый волк зашел сзади, а конь ка-ак ахнет его копытами в лоб!
Теперь уж оба посмеялись над поделом наказанным волком, и оба осталась довольны друг другом. Дядька, наверное, больше и не знал ничего о святом Георгии, а Юрию и этого пока было довольно.
Ему не минуло еще и десяти лет от роду, когда отец позвал его с собой в поход. Смерил сына взглядом с ног до головы, будто первый раз видел, ощупал сильными пальцами мышцы на плечах и на руках, остался доволен:
– Гоже! Пора тебе, Георгий Храбрый, услышать, как звенят мечи булатные, как свистят стрелы каленые. Готовься, пойдешь со мной на рать, надобно покарать хищных рязанцев.
У Юрия сразу пересохло во рту, хотел спросить, когда же надо быть готовым, но даже и единого слова не мог вымолвить, только открывал рот, словно попавший в рашню пескарь.
Дядька Ерофей успокоил:
– Не страшись, Гюрги, я с тобой пойду.
– Нечего тебе там делать, – осадил дядьку отец. – Он сам за себя постоять может.
– Так, так! – поторопился поддержать дядька. – Верхом-то на своем Ветре он и тебя самого, чаю, обгонит. Третевдни так пустил жеребца вскачь, что курева до неба взнялась.
Юрий хотел возразить, что не могло быть третевдни никакой куревы, совсем даже пыли не было после утреннего дождя, но опять не смог вымолвить ни слова.
– От радости языком подавился! – кичливо поддразнил Костя.
Юрий вскинул глаза на брата. Заносчиво Костя глядит, а не может скрыть огорчения и зависти. Чтой-то он так? Сказал – «от радости»? Ну да, конечно: это ли не радость, каждым княжичем постоянно чаемая, – идти с отцом на равных в поход, в боевой поход!.. Юрий почувствовал, как всего его начал охватывать жар, даже, наверное, лицо, как у девок, свекольным стало, и голос вдруг прорезался:
– А ты рази не пойдешь с нами на рать?
Костя отвернулся с нарочитым безразличием и засвистел рябчиком – он всегда так делал, когда не знал, что сказать и как поступить.
– Отчего же, Костя, а-а? – настаивал Юрий и услышал в ответ только:
– Фь-ю, фь-ю, фи-и-ить!
Дядька Ерофей взял за руку, увел в повалушу.
– Надоть тебе вооружиться мечом да копьем. Я уж их подобрал по силам твоим. Накось вот.
– Меч?.. Копье?.. – пролепетал Юрий, сам себя презирая за вновь охвативший его душу страх.
Сколько раз с братьями вспоминал с завистью и восторгом хранившееся в памяти многих поколений княжеского рода Рюриковичей предание о том, как слабый отрок Святослав метал копье в древлян, убивших его отца, и многих до смерти заразил. И вот настал столь желанный миг, а ему и руку поднять невмочь, и ноги так ослабели, что стали дрожать и подкашиваться под коленками.
Про рязанцев, злохитренных и злобных, много говорилось в семье, представлялись они некими чудищами о трех головах, которых надобно изничтожать без разбору и жалости, но чтобы вот так взять это насаженное на гладкое древко железное трехгранное копье да и всадить его хотя бы и в самого мерзкого гада?.. Юрий ощутил в груди горячее жжение, понял, что слезы подступают к горлу. Разреветься он не мог себе позволить, собрался с силами и легонько коснулся пальцем острого лезвия обоюдоострого меча, и от одного этого прикосновения потемнело в глазах, вдруг ясно услышал лязг мечей, крики раненых, ржание лошадей – это все не раз рисовалось в его воображении, но только сейчас ощутил почти въяве, и слезы – жалости ли, ужаса ли – затопили его глаза. Мудрый дядька сделал вид, будто ничего не заметил, тихонько вышел из повалуши. Оставшись один, Юрий проплакался, стараясь делать это бесшумно, так же украдкой просморкался и прокашлялся, вытер подолом белой льняной рубахи лицо. Стало легче и покойнее.
А тут и дядька как ни в чем не бывало вернулся, озабоченный такой, строгий:
– Главное дело, княжич, чтобы конь у тебя был надежный. Конь не выдаст, враг не съест.
Он конечно же не зря отлучался из повалуши: на хозяйственном дворе собрались сразу все конюхи – стремянный, стадный, стряпчий и даже ведающий кормами задворный, которому тут сейчас вовсе нечего было делать. Однако и он не остался безучастным, пригодился. Когда стадный вывел из стойла белокипенного Ветра, а стремянный со стряпчим стали обряжать его в дорогую сбрую, задворный конюх успокаивал жеребца, гладил его костистую морду, угощал горбушкой ржаного хлеба. И дядька Ерофей нашел заботу: проверил, хорошо ли расчесаны грива и хвост, затем своими руками почистил у коня щетки – пучки волос под копытными сгибами.
– Куда как в порядке конь, однако норовистый, горячий. Ты, княжич, поблюстися, когда повод в одной руке держать станешь, – напутствовал конюший, знатный боярин Гавша Васильевич, ведавший всем лошадиным приходом.
– Отчего же в одной, – не понял Юрий. – Чай, у меня две, гляди-ка, руки!
– В деснице-то у тебя меч не то сулица будет… На поле-то ратном…
– Это – ладно, это – опосля, – торопливо встрял дядька и увел своего пестунчика со двора.
В тот же день, то ли с ведома и сугубой заботы дядьки, то ли ненароком, так сложилось, игумен Симон позвал Юрия на исповедь.
Они зашли вдвоем в монастырскую деревянную церковь. Через узкие окна лился утренний солнечный свет, ложился желтыми полосами на чисто отмытый дощаной пол.
Встали перед алтарем, молча помолились на темные, византийского письма иконы, приложились к подножью Распятия.
Игумен Симон имел нрав тихий, теплосердечный, но когда принимал исповедь, казался строгим, даже суровым. Вот и сейчас Юрий ощутил душевный трепет, когда духовник сказал:
– Дитя мое, Христос невидимо стоит перед тобою, принимая исповедь твою. Не стыдись, не бойся и не скрывай что-либо от меня, но скажи все, чем согрешил, не смущаясь – и примешь оставление грехов от Господа нашего Иисуса Христа. Вот и икона Его перед нами: я же только свидетель и все, что скажешь мне, засвидетельствую перед Ним. Если же скроешь что-нибудь от меня, грех твой усугубится. Пойми же, что раз ты уж пришел в лечебницу, так не уйди из нее неисцеленным!
– Грешен я, батюшка, – привычно начал Юрий. – В постную пятницу оскоромился тетеркой копченой…
Симон осуждающе промолчал.
– Роптал на Боженьку, что Он не помог мне Костьку побороть.
Симон еле приметно качнул черным клобуком.
– Ленку еще дразнил… Свистульку ее спрятал, а потом и сам забыл куда. Прости за все, отче!
– Бог простит! – Симон испытующе подождал, не покается ли еще в чем его духовный сын, понужнул: – Ну, так что же, нет больше никаких залежей греха в душе твоей?
– Еще отцу прекословил…
– Зачем же? – сразу оживился игумен, словно ждал этих слов княжича.
– На рать не хочу идти.
– Боишься?
– Боюсь.
– Боишься, что тебя могут убить?
– Не-е…
– Тогда чего же?
Юрий повесил на грудь голову, молчал.
– Може, чадо мое, боишься умышленно или ненароком лишить жизни других людей?
– Да, батюшка, да! – Юрий вскинул на духовника наполненные слезами глаза.
Игумену очень хорошо понятна была та растерянность души, которую переживал отрок. И у него самого в молодости, в бытность дружинником, никла душа перед страшной неразрешимостью вопроса: «Я поразил хищного половца, защитил отчий дом – это похвально и богоугодно, но я лишил жизни человека – это грех?» Симону понадобились годы монашеского бдения в Печерском монастыре в Киеве, чтобы вывести свою душу из тупика, совместить несовместимые, не поддающиеся разумному объяснению неприятие смерти и оправдание ее необходимости. Но какие слова сказать дитяти, чья душа, привыкшая к добру, правде, истине, должна вдруг принять на себя тяжкий грех насилия и ненависти к жизни? К жизни, которая находится исключительно лишь в воле Божией?.. Можно уйти от ответа, сказать, что ты-де еще мал, потом поймешь, что ты в походе сам не будешь никого лишать жизни, но это приличествует разве что дядьке Ерофею, а отец духовный права на это не имеет.
– Чел ли ты, сын мой, в школе монастырской либо в княжеской книжарне про Георгия Победоносца?
– Нет, батюшка, но ведаю, что он заступник мой Небесный. А еще, что на Святого Георгия скотину на пастбище выгоняют.
– Гм-м… Побудь тут, я грамотею своего позову.
Грамотеем оказался молодой монашек с ликом тонким и чистым. Симон раскрыл книгу с медными застежками, указал пальцем на одном из пергаментных листов:
– Отсюда чти.
Монашек встал за аналоем, возгласил на всю церковь:
– «Чудо Георгия о змие»!.. Благослови, отче?
Симон благословил.
– «Как изреку ужасную эту и преславную тайну? Что возглашу и о чем подумаю? Как передам и поведаю удивительную эту и преславную молву? Ибо грешный я человек… – Тут монашек чуть запнулся, поднял глаза на игумена, тот мановением руки велел продолжать чтение.
Ибо грешный я человек, – повторил монашек уже окрепшим голосом, – но надеюсь на милосердие святого и великого мученика и страстотерпца Христова Георгия; возвещаю вам чудо это, самое дивное из всех чудес его…»
Монашек читал торжественно, отдельные, особенно понравившиеся ему слова выделял голосом, то занимался румянцем, то покрывался бледностью. Иногда он бросал искоса взгляд на княжича, проверяя, нравится ли и ему тоже дивная повесть. Видя, как внимает ему Юрий, как завороженно слушает, монашек воспламенялся еще сильнее. Читая про то, как жестокий и кровожадный дракон опустошил землю некоего языческого царя, а жители, чтобы спасти свою страну, согласились поочередно отдавать на растерзание дракону своих детей, монашек понизил голос, который у него как-то повлажнел и в котором Юрий уловил сочувствие и сострадание. А прочитав, что наступил наконец день, когда и сам царь вынужден был вывести свою красавицу дочь на растерзание дракона, монашек тяжело вздохнул и умолк, словно ему не хватило воздуху. Чуть прокашлявшись, ликующе сообщил Юрию (игумен-то, поди, наизусть все знал), что в этот самый несчастный день в городе случайно оказался проезжавший мимо молодой воин-христианин по имени Георгий, который смело вступил в поединок с драконом и словом и крестом, – тут голос монашка зазвенел и повторился отзвуком в невысоком куполе церкви, – и Георгий усмирил страшного змея и освободил царскую дочь Елизавету. По ее повелению он обвязал своим поясом поверженного дракона и привел его в город к отцу.
– Эх, ай-яй! – не сдержал восхищения Юрий.
Закончил чтение монашек приподнято и учительно:
– «Царь же, выйдя навстречу ему, сказал ему: «Как зовут тебя, мой господин?» Он же ответил: «Георгием зовут». Тогда воскликнули люди все, как один, говоря: «Тобою веруем в единого Бога Вседержителя и в единого Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа, и в святой животворный Дух». Тогда святой и великий чудотворец Георгий, протянув руку, извлек меч свой и отрубил голову лютому зверю. Увидев все это, царь и все жители тотчас подошли и поклонились ему, Богу хвалу воздавая и угоднику его великому Чудотворцу Георгию. И повелел царь построить церковь во имя многославного и великомученика, и страдальца за веру Христову Георгия и украсил ту церковь золотом и серебром и дорогими каменьями. И повелел поминать его в месяц апрель в двадцать третий день. Аминь».
Монашек закрыл книгу. Симон выжидающе смотрел на княжича. Тот после недолгого молчания спросил:
– Отче снятый, а Георгий правда жил на свете?
Монашек при этих словах помрачнел ликом, но Симон не удивился, спокойно ответил:
– Он правда жил на свете и умер в триста третьем году от Рождества Христова. А от сотворения мира когда это случилось, а-а?
Юрий пошевелил губами, сосчитал:
– В пять тысяч восемьсот одиннадцатом.
– Истинно. А сколь лет с той поры минуло?
И опять быстро Юрий ответил:
– Восемьсот девяносто пять!
– Истинно, истинно. Иди с Богом! – Симон благословил княжича иерейским крестом. – Завтра после литургии приму твою исповедь, отпущу все грехи твои и дам святое причастие. – Помолчав, добавил: – А как же? Как всякому воеводе и дружиннику, которые пойдут с тобой на рать.
Великий князь Всеволод и сын его Юрий ехали конь о конь во главе дружины, впереди них на значительном отдалении рыскали по обе стороны дороги приглядчивые и опытные в ратном деле лазутчики – разведывали путь, чтобы был он чист. Замыкали растянувшееся воинство три пары иноходцев для перевозки раненых и недужных, коли такие будут, и две телеги с оружием и броней для дружинников, которые покуда шли налегке. На телеге же ехал и поп Евлогий – на случаи, если надобно будет благословлять воинство на рать и, если потребуется, совершать горестный обряд отпевания.
Лошади шли уторопленным шагом, но не переходили на рысь, били копытами о заколодевшую от первых осенних заморозков землю гулко и размеренно. Ветер-листобол сносил с дубов последнюю летнюю одежку, гудел в верхушках сосен, взвихривал лошадиные гривы. Пока передвигались вдоль раменного леса, невозможно было и словом перемолвиться, но как занырнули в тускло и сумрачно подернутое туманом редколесье, то слышны стали даже слабые голоса синиц и стук неутомимых дятлов.
– Отец, а рязанцы – кто? Они – навроде дракона?
– Почему? Какого дракона?
– Коий кознодействовал в одном древнем городе, всех детей поедал…
– Откуда тебе это ведомо?
– Монашек по благословению батюшки Симона чел мне в церкви после исповеди.
– И что же, страшный был дракон?
– У-у… Огромный змей, голова точно свод, а пасть будто пропасть!
– Всех, говоришь, детей поел?
– Не всех, осталась одна царская дочка… Красавица… И как пришел ее черед, явился в город великий мученик и страдалец за веру Христову.
– Георгий?
– Ага. Он сказал Елизавете, так царскую дочку звали: «Не бойся, девица!»
– А она?
– Она?.. – Юрий замолк, вспомнив особенно понравившиеся ему слова: «Тебя умоляю, господин мой, уйди отсюда; я вижу приятный твой вид, и младость, и блеск, и красоту лица твоего и тебя умоляю, отойди отсюда скорее, чтобы не погибнуть жестоко». Благородство царской дочки-красавицы и ее восхищение Георгием умиляли Юрия, но признаться в этом вслух ему почему-то казалось стыдным, и он ответил только: – Она боялась, что он не сможет победить страшного гада.
– А он все-таки победил?
– Да, он велел царевне снять пояс и поводья коня, связать ими голову змея и влечь за собой в город, как все равно что овцу на заклание.
– Она так и сделала?
– Ага! Она вела его, радуясь и веселясь!
– Ну, вот и ты своим золотым поясом да наборной уздечкой свяжешь рязанского змия и поведешь его, радуясь и веселясь!
– А правда, какие они, рязанцы, страшные?
– Свирепый народец. Мы уж не раз с ними ратились. Недавно я отправил к ним посла, велел пригрозить: мол, если не вернете нам назад наши пять погостов на Оке, мы ваши земли начнем зорить. А они, подлые, что сделали?.. Они моего посла остригли – и голову и бороду, а для боярина нет больше сраму, чем дать бороду свою обкорнать… Да, обкорнали они посла моего – великого князя посла! – обкорнали, да еще велели ему передать, что они никого, кроме Бога, не боятся. Однако же поглядим ужо, так ли нет ли это?
– А как поглядим? Будем стрелять в них из луков и мечами рубить?
– Может, и не придется этого делать, постращаем только.
Это Юрию понравилось, он заметно повеселел, стал иногда пришпоривать своего Ветра, тот ускорял шаг и выходил на голову, а то и на всю шею впереди коня великого князя. Отец на это не сердился, но сказал:
– Прежде бати в пекло не лезь.
Лес впереди стал редеть, чаще попадались полянки, на которых среди пожухлой травы ярко желтели не испугавшиеся первых морозов цветы крестовника и девясила, который называли еще «Христовым оком». Перешли вброд небольшую речку, а за ней открылась прозрачная сизая даль.
Отец удержал на месте своего коня и поднял руку – дал знак всем остановиться.
– Видишь, черная полоса в самом конце равнины, прямо на небоземе? – спросил у Юрия.
– Лес нешто?
– Рязанцы. Тут я им назначил судное место.
Подскакали на рысях лазутчики, подтвердили: идет отряд ростовских дружинников копий в пятьсот во главе с князем Ингваром.
– Коли пятьсот, значит, не хотят ратиться, на переговоры явились, – решил отец.
Так и оказалось.
Молодой рязанский князь Ингвар, еще безбородый и безусый, восседал на высоком коне очень уверенно, смотрел из-за забрала на владимирцев безбоязненно, даже самовластно. И голос его звучал в осеннем стылом воздухе раскатисто, и речь произнес разумную:
– Великий князь, бьем челом! Воеводу, который учинил бесчиние над твоим послом, мы тоже обстригли и посадили в узилище. Учинять брань из-за пяти погостов не хотим.
– Давно бы так, – одобрил отец. – Я вот и кунщиков с собой привел, чтобы при вас прямо начали они собирать полюдье, много уж податей накопилось.
Рязанский князь сразу как-то потерял свое достоинство, по-детски обиженно сморщил лицо, будто разреветься собрался. Сказал срывающимся голосом, уже не таким звонким, как сперва, а придушенным:
– Дак как же это?.. Ведь то исконно наши, рязанские земли-то… Деды наши там промышляли, бортничали, зверя ловили…
– Промышлять да ловить – это одно, а леса выжигать от дубья-колодья, пал очищать, пашню орать и деревни ставить – совсем иное дело, и исполнили его не рязанцы, а мои люди, не так ли? Покуда погосты из деревень не образовались, вам эта земля ни к чему была, а теперь – вспомнили? Добром не хотите уступить, силой возьму! – сказал отец и оглянулся на свое воинство, которое тучей нависало за его спиной.
Ингвар тоже посмотрел на ощетинившиеся копья владимирцев, тронул повод уздечки, конь под ним встрепенулся, начал перебирать ногами.
– Тпру-у, стой! – Ингвар властно натянул повод, так что конь вздыбился и, опустив копыта, замер.
Юрий с завистью пронаблюдал за этим, признался сам себе, что он так с норовистым конем управляться не может.
– Великий князь! – Голос Ингвара снова обрел твердость и уверенность. – Дело о погостах спорное, но кровь из-за них лить – разумная ли причина?
– Разумейте, языцы, яко с нами Бог! – неопределенно отозвался отец и ждал, что еще скажет рязанский князь.
Ингвар пощипал свои молодые усики, видно колеблясь, высказать ли задуманное, решился-таки:
– Мы вот помакушили и удумали… Чем кровь лить, давай лучше выставим с обеих сторон по богатырю, пущай они сразятся промеж себя в поединке. Чей верх будет, того и погосты, а-а?
– Ну, что же, есть у нас на такой случай детинушка.
– Вот-вот… А у нас Осьмипуд есть, прозвание у него такое.
– Зови его сюда. Вот на этом поле пусть и схлестнутся.
Ингвар развернул коня, вместе с ним ускакали и его оруженосцы.
Детинушкой отец назвал всем известного во Владимире дружинника Якума Зуболомича. Высокий, ладно скроенный, проворный, однако же не осьми пудов весом, нет…
– Батя, – заволновался Юрий, – рази Якум сладит?
– А рази нет? Гляди-ка, плечи-то у него какие – косая сажень! А кулачищи? Ровно копыта трехлетнего жеребца!
Юрий оценивающе посмотрел на сжатые в кулаки сильные пясти Якума Зуболомича, перевел взгляд на передние копыта своего Ветра, огорчился: нет, кулаки все же меньше, зря отец так бахвалится.
Якум начал снаряжаться для поединка. Скинул походную одежду и, оставшись по пояс голым, поиграл длинными мышцами, размялся, прежде чем оболокаться в припасенную на этот случай белую, ненадеванную сорочицу.
– Ишь, как сила-то по жилочкам переливается! – сказал отец Юрию, который все еще огорчался, что Якум не осьми пудов весом и что с рязанцем ему не совладать, значит.
Дружинники хотели помочь Якуму заседлать коня, но тот отстранил их, сам все делал, приговаривая:
– Коли не смогу порвать, значит, надежно.
Прежде чем затянуть подпруги, проверил на разрыв все ремни – нагрудные, удерживающие седло спереди, задние для пристежки сулицы – глотательного копья.
Запрыгнул в седло, которое оказалось очень высоким, однако ноги он все равно согнул в коленях, словно изготовился выпрыгнуть из стремян.