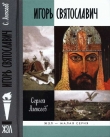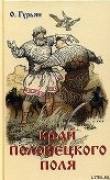Текст книги "Юрий II Всеволодович"
Автор книги: Ольга Гладышева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
– Однако, княгиня, слуга-то не затем к тебе приходил, чтобы загадки отгадывать?
Евфросинья строго, в упор смотрела на Юрия Всеволодовича широко распахнутыми серо-голубыми глазами, то ли обдумывала, как ловчее сказать, то ли вовсе не желая отвечать. Поправила наручи, поддернула накапы – длинные широкие рукава летника.
– Это я посылал слугу, чтоб он нашел мне в Рязани врача, – вступился Давид Юрьевич, усмехаясь с лукавством. – Острупел я сильно, язвами покрылся, болезнь тяжкая меня свалила, и ни один лекарь не умел мне помочь.
– Да, да, так он мне и сказал. – Евфросинья снова в нерешительности поиграла наручами. – Я говорю: приведи сюда князя, если он будет мягкосерд и смирен в ответах, будет здоров.
– И все, что ты сказала? И никакого другого условия? – опять спросил Юрий Всеволодович, помня по рассказам отца, что эта скромница предерзко потребовала от княжеского посланца.
Лицо княгини зарумянилось улыбкой:
– А условие мое было простое – чтоб женился на мне Давид Юрьевич. – Она призналась в этом свободно и чистосердечно, как безгрешный вполне человек.
– Ну, а ты, Давид Юрьевич, что?
– Обманул!.. – сокрушенно потряс тот седой головой. – Каюсь, обманул девицу столь пригожую! Подумал, да разве может дочь древолазца моей супругой стать? Да меня засмеют!.. Однако велел передать, что если уврачует, женюсь. – Старый князь вздохнул, но без раскаяния, сдерживая смех. – Да ведь и Евфросиньюшка моя не проста была. Прислала малый сосудец с каким-то снадобьем и велела: ведите, мол, вашего князя в баню и вот этим помажьте, а один струп оставьте не помазан. А слуга мне говорит: она, мол, в сосудец-то квасу налила и только дунула в него. Ах, думаю, сама она обманщица, и решил ее испытать. Послал ей льну малого веса. Если она столь премудра, пусть учинит мне одежду, пока я в бане буду.
Тут супруги оба от души расхохотались. Видно, приятно было им вспоминать свое славное молодое время.
– А она мне шлет полено, – продолжал Давид Юрьевич.
– Полено? – Тут и Юрий Всеволодович развеселился. – Пошто полено?
– А не трот, говорит, пока я этот лен чесать буду, князь мне из полена станок сделает, чтобы полотно ткать могла… Ну, думаю я, и впрямь она девица мудрая. Полено сие я выкинул, стал струпья мазать, а один оставил, как было велено. И что ты думаешь? Исцелился! Но жениться все-таки не стал! И я не прост! Дары ей послал. Не приняла. Гордая, значит. Ну, я живу, не тужу. А струп мой стал тем временем расти и по всему телу ползти. Ах ты, думаю! Что делать?.. Пошел к ней, повинился… И ведь ни малого гнева на меня не держала! Удивлялся я тому и восторгался ею и, грех сказать, влюбился, себя не помня.
Княгиня Евфросиния глядела с откровенным торжеством, лучась морщинками. Юрий Всеволодович даже позавидовал, как удалось им за столько лет супружества сохранить не только взаимное расположение, но и полное родство душ. Как будто угадав его мысли, княгиня сказала тихо и убежденно:
– Бог совокупил – человек не разлучает.
За долгие годы совместной жизни они даже и внешне сделались похожи. Сидели рядышком, как брат с сестрой, погруженные в свои дорогие воспоминания.
– Так что же нужно для полного счастья семейного? – спросил их Юрий Всеволодович. Думал, скажут: любовь, согласие, доверие, ну, что обычно говорится в таких случаях.
– Совесть христианская нужна и благочестие, – сказал Давид Юрьевич.
В поход на камских булгар решили идти вместе, объединенным воинством. Муромский князь молодцевато, без помощи стремянного вскочил в седло. А как он сидел на коне! Пожалуй, ловчее самого Юрия Всеволодовича.
Княгиня вышла проводить мужа на берёг Оки.
Удивительным был тот день. И даже трудно сказать, чем он был удивителен. Какая-то кротость была во всем: в медленном струении реки, в мягком блеске солнечного утреннего света, в молчаливом стоянии леса. В такой день неохота воевать. Почему и отчего все обрели в Муроме покой и благодушие? И все одинаково обрадовались, когда на подходе к устью Оки завидели впереди небольшой отряд всадников с высоко поднятым белым стягом.
– Бирючи!
– Переговорщики!
Воевода Еремей Глебович распорядился, чтобы передовой отряд дружинников встал цепью от леса до берега реки, а остальное воинство, исполчившись на всякий случай, встало в засаду.
Долетели звуки воинской трубы: переговорщики просили дозволения приблизиться. Юрий Всеволодович дал знак – дети боярские поставили великокняжеский стяг с ликом Спасителя. Заиграли сопели. Ударили бубны.
Камские булгары не отличались воинским духом и старались действовать не силой, но хитростью и обманом. Воспользовались междоусобием во Владимиро-Суздальской земле, захватили город Устюг. Чтобы утвердиться в нем, стали просачиваться в междуречье Оки и Волги. Неизвестно, сколь далеко подвигнула бы их алчба, если бы Юрий Всеволодович не поспешил с карающим походом.
Получив во второй раз великое княжение, ему пришлось заняться внутренним устроением, каковое было весьма запущено, пока правил брат Константин, болея и слабея с каждым днем.
Юрий Всеволодович послал с сильной ратью младшего брата Святослава. К нему присоединился сын Давида Муромского, тоже Святослав, со своими ополченцами. Объединенные полки русских не только очистили земли порубежья, но и спустились вниз по Волге на ладьях, высадились на берег против города Ошела. Около города был сделан острог, огороженный крепким дубовым тыном, за острогом находилось еще два укрепления, а между ними вал. Молодые князья соименники решили начать осаду. Святослав Всеволодович отрядил наперед своих людей с огнем и топорами, а за ними стрельцов и копейников. Одни подсекали тын, другие полагали оплоты. Сильный ветер дул прямо в лицо, так что они задыхались от дыма. Тогда второй Святослав, князь муромский, приступил с другой стороны и зажег город по ветру. Огонь бурной рекой потек с улицы на улицу. Осажденные стали сдаваться на милость победителей. Булгарский князь спасся с малой дружиной бегством, а русские ратники с богатой добычей и множеством пленных поднялись сначала к Городцу, а оттуда вернулись по домам.
Зимой во Владимир явились булгарские послы с дарами и просьбой о мире.
Юрий Всеволодович отверг дары и просьбу, сказав:
– Рать стоит до мира, ложь до правды. Нет у меня к вам, поганым, веры. Ждите летом в гости.
…И вот теперь встреча обещанная настала: ждут, решили русских на полдороге перехватить.
Булгары приближались верхом на конях, за собой вели запряженного верблюда – с дарами, надо думать. Впереди всех ехал тот самый посланник, который являлся зимой во Владимир.
– Я думал, кто, а тут все те же, – недовольно встретил его Юрий Всеволодович. – Аль ты не уразумел прошлый раз?
– Уразумел, уразумел, господин! Наш князь шлет тебе имбирь, перец, гвоздику, изюм, мак…
– Ма-ак? Эва! У нас мак три года не родил, а все голода не было.
– Не только мак. Еще посуда обливная, шелк персидский, – продолжал печально перечислять посланник.
– Э-э нет. Дешевому товару дешевая и плата. За несходную цену захотели вы мир купить.
– Мы Аллахом клянемся! – в отчаянии воскликнул посланник.
– Клятва ваша стоит и того дешевле. Если русский князь мне клянется, он целует мне крест, я ему верю, как себе. А твоя клятва – звук пустой.
Юрий Всеволодович тронул коня, давая знать, что разговор окончен.
Булгары так его и поняли. Развернулись и поскакали в сторону степи, забыв или нарочно оставив груженного дарами двугорбого верблюда. Многие дружинники впервые видели диковинное животное и с изумлением разглядывали его.
– Слюна-то сколь длинна, ровно возжа!
– Бока облезлые… и кочки, горбы ободранные.
– Глядит надменно, ха-ха-ха, будто наша знать! Много, видать, о себе понимает!
Решили забрать его с собой, привести в Городец на потеху жителям.
Но когда через неделю переправились через Волгу, увидели у стен Городца целый обоз верблюдов, запряженных в двуколые крытые возки. При них был тот же самый посланник со своими спутниками и еще несколько булгар в зеленых чалмах.
– Это попы ихние, – догадался Давид Юрьевич.
– У них разные попы-то, кажись? Муфтии, имамы…
– Муллы еще.
Русские негромко переговаривались, не зная, чего ожидать. Один из священнослужителей вышел вперед со сложенными для молитвы руками. Второй держал перед ним Коран – толстую книгу в кожаном переплете с золотыми застежками.
– Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Наш народ просит русских заключить мир, какой прежде был, – сказал священнослужитель, положив руку на Коран, что означало мусульманскую клятву.
– Какой прежде был? – переспросил Юрий Всеволодович, помня, что прежние условия были с большой выгодой для русских князей. – Как при моем отце и деде?
– Да, да, как при Всеволоде Большое Гнездо, как при Андрее Боголюбском.
Юрий Всеволодович призвал дьяка, у которого в ларце были уже загодя заготовленные харатии с подвешенными на них восковыми печатями великого князя. Муфтий дал знак, и его прислужник подвесил на зеленых снурках печать булгарского князя. Харатии, скрепленные печатями, имели такую же силу, как и при рукоприкладстве сторон.
Так бескровно и победно закончился тот поход. Но кроме достижения мира и получения с булгар богатой дани, он имел и другие выгодные для русских княжеств последствия.
Кроме камских булгар, досаждала своими редкими и неожиданными набегами на окраины русских княжеств жившая в лесах за Окой мордва. Хотя стала она уже оседлым народом, занималась земледелием, имела свои города и крепости – тверди, однако нравы, обычаи, быт имела такие, какие у славян были три столетия назад. Но если вятичи, дреговичи и северяне той поры, повраждовав, все же находили общий язык, то мордовские племена мокша и эрзя жили столь обособленно и непримиримо, что и не роднились меж собой, и языки имели разные, прибегали в общении к услугам толмача. И внешне они отличались: эрзяне чаще белокуры и синеглазы, мокши смуглы, с тонкими чертами лица, а телесно сложены более могутно. Одно из немногого, что было общим для всей мордвы, – их пристрастие к белому цвету.
Воевавшие между собой мордовские князья искали заступничества у более сильных соседей, у тех же булгар, а чаще у русских.
Найдя покровителя на стороне, мордовские перебежчики давали клятву на верность и, произнеся роту, назывались ротниками.
Присяжным князем, ротником Юрия Всеволодовича был мокшанин Пуреш, а вел с ним смертельную схватку эрзянин Пургас, присягнувший князю булгарскому. Теперь, когда булгары потерпели сокрушительное поражение, Пургас ушел в дремучие, неприступные леса, а Пуреш, облаченный в белые одежды, на белом коне встречал русских князей на правом берегу Волги, близ впадения в нее Оки.
Владимирские и муромские князья и раньше, договариваясь о совместном походе, встречались при слиянии этих рек, однако же всегда лишь на своем, левом берегу Оки, откуда либо переправлялись через Оку, либо поднимались вверх против ее течения. И вот впервые ротник Пуреш торжественно принимал русских князей на Дятловых горах, которые лежали подковой по правобережью Оки и затем Волги. Венчал горы крутой обрывистый Откос, и если смотреть с него вниз впервые, то показаться может, что Волга в стремительном беге налетела на вставшие на ее пути горы и брызнула на две стороны, так что две реки образовалось. Это если впервые подняться на Откос, а человек, знавший эти места, как знал их Пуреш, отличал реки одну от другой по разному цвету воды и неодинаковой скорости течения, мог безошибочно указать даже в половодье стрелку – длинный песчаный мыс, образовавшийся на месте встречи Оки и Волги.
Юрий Всеволодович никаких таких подробностей не знал, зато с первого взгляда понял: это точно такое же, а может, и еще краше, место, на каком родной Киев стоит! Такая же гряда холмов, столь же широкая пойма на левом берегу, разве что Лысой горы нет, да и то, может, есть, если поискать…
– Не Пургас, а я теперь хозяин этих мест, спаси Христос русским князьям! – самодовольно произнес Пуреш, и при этих его словах Давид Муромский ухмыльнулся в свои пышные седые усы.
Юрий Всеволодович развернул коня влево. Освещенная косыми лучами закатного солнца Ока уходила вдаль синей лентой, а перед ней по Подолу, прямо под Откосом бежала с веселым журчанием в Волгу небольшая речка, точь-в-точь как Почайна в Киеве.
– Наши, мокшанские земли далеко отсюда, однако я лучше, чем эрзя Пургас, знаю его Дятловы горы, – продолжал ликовать Пуреш. – Пургасу не ведомо, что в пяти верстах отсюда со стороны волжских песков есть обширные пещеры.
– Нешто дятел продолбил, оттого и горы Дятловы? – опять с усмешкой, которая теперь светилась и в его больших серо-голубых глазах, спросил Давид Муромский.
– Не-е… Тут история другая, для нас, мордвы, вещая… Во времена стародавние здесь вот, где мы стоим, жил мордвин Скворец, друг и помощник Соловья-разбойника. Имел Скворец восемнадцать жен, которые родили ему семьдесят сыновей. Вся семья жила вместе, занимаясь скотоводством: пасла свои стада на горе, а к закату солнца гоняла их на водопой к Оке. Неподалеку обитал чародей Дятел, тоже благоприятель Соловья-разбойника. Один раз Скворец спросил Дятла, какое будущее ждет многочисленных детей, дятел ответил: «Если дети твои станут жить в мире друг с другом, то долго будут владеть здешними местами, а если разорятся, их покорят русские». Сказал это Дятел и просил с честью его похоронить. Скворец выполнил его последнюю волю и в честь чародея Дятла и назвал эти места. Скоро и сам Скворец помер, завещая своим детям жить во взаимном согласии. Но те не послушались старика, начали отчаянно воевать между собой, и скоро дядя нынешнего великого князя владимирского Андрей Боголюбский прогнал мордву с устья Оки.
Юрий Всеволодович слушал рассеянно. Когда Пуреш умолк, спросил:
– Пещеры, говоришь, есть?
– Да, да! Столь обширные, что, пожалуй, все твое воинство в них можно упрятать.
Давид Муромский опять тронул усы улыбкой:
– Думаешь, наше воинство столь ничтожно?
– Како – «ничтожно»? Вся великая мордовская рать от Дятловых гор до Свияги не стоит твоей одной дружины?
Юрий Всеволодович опять развернул коня, поискал взглядом те волжские пески, откуда ход в пещеры. Ведь и это, как Почайна с Подолом, словно бы прямо из Киева перенесено: такой же Печерский монастырь, и как небось порадуется этому владыка Симон! И вся Русская земля рада будет, если здесь, на Дятловых горах, при слиянии двух великих рек поставить новую столицу! И вполне это сбыточно… И ничего не будет в этом необычного… Был изначально главным городом Руси Великий Новгород, но время спустя возник Киев, стал надолго городом стольным. При Юрии Долгоруком старейшинство стало переходить к Суздалю да Ростову, но Андрей Боголюбский сделал престольным городом Владимир, считавшийся до этого пригородом Суздаля. Так что…
Как и судьбы людей, столь же неодинаковы, порой причудливы судьбы городов. Поди знай, по каким законам одному, ничем не примечательному городу суждено возвыситься, а другой, по всем статям, казалось бы, превосходящий его, обречен прозябать в безвестии?
Новгород Низовой земли, поставленный и названный так Юрием Всеволодовичем, не выбился в столицы, но стал неприступной крепостью на окраине княжества. Через семь лет эрзянский князь Пургас попытался овладеть им, но был отброшен обратно в леса сыном Пуреша, который тоже дал присягу великому князю владимирскому и стоял на страже его земель и новых завоеваний. Сам князь Пуреш погиб в том же 1228 году…
На тот год выпало вообще много столь горестных утрат, что Юрий Всеволодович помнил и скорбел о них все время, вплоть до стояния на Сити.
В один и тот же морозный январь умер, успев постричься в схиму брат Владимир в Суздале и Мстислав Удатный в пути из Торжка в Киев.
Двадцатого мая почил в Бозе незабвенный духовник великого князя владыка Симон.
В том же месяце пришла скорбная весть из Мурома. Давид Юрьевич и супруга его Евфросинья преставились купно – в один и тот же час двадцать пятого мая. Как прожили они в супружеской любви и в готовности к самоотречению во имя Божие, так блаженно и упокоились с душами чистыми под иноческими именами Пётра и Февронии. По прошествии времени стали их почитать в народе как покровителей новобрачных.
В беспокойные ночи стояния на Сити, вспоминая всех, кто дорог ему был и кто отошел в Небесную обитель, Юрий Всеволодович, пожалуй, впервые в жизни стал думать о неминучей встрече с ними, которая когда-нибудь настанет, и уж будут они тогда навечно вместе. Через какой порог придется при этом перейти, как это случится? Хоть не робок был и жизнью дорожил теперь мало. Но тайна и неизвестность… Все этой тайне соприкасаются, однако никто-никто не может о ней рассказать… Течет река времени в жизнь вечную. Где начало той реки? Не помним сего. Кто помнит, как родился и где был до рождения… Да разве я был?..
Вечность неподвижна – и все в ней переменяется: рождается, умирает, обновляется. В вечность уходят – из нее же являются. Она страшит своим кажущимся холодом и непостижимостью – она же источник упований наших. Бежим ее и жаждем ей принадлежать. История жизни человеческой и человечества, не есть ли она – история преодоления заблуждений? Преодолев одно, тут же впадаем в другое. Это единственный путь к истине. Избранным она дается в откровении и благодати. Это и есть благодеяние Господне и счастье, Им дарованное. А в общем-то, и добрые дни – мечта, и богатство – сон! – вздохнул Юрий Всеволодович.
Глава третья. Предчувствие
– Лугота, ты зябнешь? – спросил в темноте Леонтий.
– Есть немного, дядя. Борода у меня не растет. С ней теплей.
– Ай вправду? – посмеялся Леонтий.
– В баньку бы! – высказал заветное желание Лугота. – Ополоснуться погорячее, чтоб косточки все сварились и размякли.
– Утресь сбегай к поповне, она тя напарит, – проворчал Невзора и тут же захрапел притворно.
– Обидно, дядя, – шепотом пожаловался младень. – Любишь скукожа, насмешки кругом, спишь крючком, живешь скрюжа.
– Хочешь, выйдем? Я там теплину не загасил. Лапником только прикрыл.
– Давай.
После невидья землянки полуночный мир предстал облистанным. В свете звезд голубые снега искрились сверкающими россыпями.
Жалко было ступать по ним.
– Ангелы слезы сронили с небес, слезки ихние тако блещут, – прочувствованно сказал Леонтий.
– Ангелы? Ты видал, как они плачут? – Лугота поднял лицо, озаренное углями, которые он пытался раздуть.
– Не видал, но сказывали.
– Кто?
– Знающие люди. – В голосе старика послышалось неудовольствие. – Что такое, не горит у тебя? Жениться собрался, а ничего не умеешь.
Но тут пламя из костра выметнуло, заиграло, и Леонтий смягчился. Сел на бревно, протянув к огню руки и ноги. Изношенный кожушок разошелся у него на груди, и виден был седой волос, краснеющий от жара. Леонтий поднял лицо к небу:
– Ни едина звезда не летит. Тихость.
– Нешто они летают? – удивился Лугота. – Они на месте стоят.
– На чем же они держатся? – насмешливо спросил старик.
Лугота подумал:
– На небе.
– Ты думашь, какое небо? Твердое?
– Твердое, как вот земля.
– И как же на нем звезды держатся?
– Они сверху лежат и скрозь него светятся. Какая звездочка сильно блестит, то святая душа, а какая тускла, то, говорят, грешная.
– Ты думашь, это души?
– Которы померли. Они на нас глядят, а мы на них.
– А если звезда падает?
– Это человек помер.
– Дак они уже все померли, которы звезды! – сердясь, воскликнул Леонтий.
– Знающие люди говорят, – лукаво улыбнулся Лугота.
– Ну, а месяц, по-твоему, на чем держится?
– Да на небе, как и звезды. Идет по небу и скрозь него виден.
– А солнце?
– И оно тоже.
– Ну, а вот эта полоса светлая через все небо, это что?
– Это дорога в святые места, в Киев и в Иерусалим.
– А ты, Лугота, оказывается, учен премного!
Отрок хохотнул, довольный.
– Только как это: по небу – дорога?
– Она идет, показывая, куда идти, а супротив ее идет дорога по земле. Она не одна, их много: в иную ночь четыре дороги видны.
– Глазастый ты какой! А далеко ли до неба? Как думаешь?
– Да я забыл, скольки верст гора Афон? Если еще такую гору поставить на Афон, говорят, как есть в небо упрется.
Еловые обрубки весело стреляли искрами в снег. Лугота отпрыгивал, подбрасывал новые, сам разрумянился от костра и не замечал, как неотрывно и печально глядит на него Леонтий, когда-то соколиный охотник, потом ратник княжеский, ныне кормовщик, при котлах состоящий и не состоящий ни в чьей памяти, ни в чьем родстве, ни тем паче в заботе. Единственная его любовь – серо-белый мерин, пяти лет, которого он приводил в каждой своей бывальщине, о чем бы речь ни вели.
– А о радуге чего говорят? – спросил он, только чтоб Лугота не замолкал.
– Говорят, она из тучи выходит, напьется воды и опять в тучу уйдет.
– А дождь откудова берется?
– Ангелы воду льют.
– Земля на китах стоит или на столбах?
– Она висит сама собою в воздухе посреди небесной праздности.
– Представить даже трудно.
– А ты думал! Ученость и хитрость преизрядная.
– Где ж ты премудрости такой набрался?
– А в Григорьевском монастыре. Я там купола крыл, вот один дядя и сказывал.
– Слушать надо только, что попы говорят, боле никого слушать не следовает. Попы плохо не скажут… Аль чернецы… Значит, радуга в туче всегда?
– Всегда.
– А почему она разноцветная?
– Кабы одного цвета была, ее б не видно было.
– Ловко! Слова так и мечешь. Только думаю, пустое все молвишь. – А ты боишься смерти-то? – вдруг спросил Лугота.
– Не боюсь.
– Почему?
– Каждый надеется. Сперва – выжить и победить…
– Я не надеюсь, – перебил Лугота.
– Робеешь? Бой начнется и пройдет с тобой. Когда бьешься, о смерти не думаешь. Так вот сперва выжить и победить, а потом судьба станет другая, счастливая.
– Каждый раз так думаешь?
– Каждый раз! – усмехнулся Леонтий.
– И где ж счастье твое? Видал ты счастливых-то?
– Видал.
– Князи да бояре?
– Не-е… Нет, не они. Како их счастье? Что пиры погуще да порты почище?
– Тогда – кто?
– Монахи.
– Монахи-и? – недоверчиво протянул Лугота.
– А ты посмотри в их глаза.
– И что, глаза?
– Ну, что там?
– Кротость… – помялся Лугота. – Еще незлобие.
– Не токмо, – твердо поправил старик. – Там и сила и радость. Это очеса счастливых человеков.
– Значит, так просто? Монахом надо стать?
– А почему ты решил, что просто? Не каждому дано в послушании быть и в служении.
– Это я понимаю, что не каждому. Я бы не смог подвиг сей нести.
– А кто смог, тот и счастлив. В сокрушении сердца, во слезах, а счастлив. Их путь единственный, на котором смысл бытия постигается.
– И в чем он, смысл?
– В возвышении духа, прирастании духовном. Так думаю, что самая главная дорога для нас – к Богу… Чтоб ближе к нему.
– Ну, коли всем монахами стать, то и род человеческий прекратится, – опять с насмешливым сомнением возразил Лугота.
– А все и не станут. Сам знаешь. Это только как образец, к коему стремиться нужно. А стремиться можно и в миру.
– Я жить хочу!
– Ну, и живи, только всегда – пред очами Господними. Помолчали. Души кротко глядели на них с высоты золотыми глазами, иные помаргивали.
– А чего же смерти бояться, когда ты ко Господу идешь, Отцу своему доброму и Утешителю? Ты боишься, что с грехами идешь. Оттого и страшно. Оттого перед битвой всегда исповедуют и отпускают, – начал опять Леонтий.
– Но все-таки здесь жить хорошо-то как! – вздохнул Лугота. – Жалко покидать-то.
– У Бога лучше, – заверил Леонтий.
– А я все-таки думаю, дядя, счастье это другое. Жена, детки, поле цветущее. Я вот все на высоте работаю, на куполах, поглядишь сверху: и кого ради земля садами и дубравам, лугами й ручьями наряжена, горами и вспольями украшена? Неужели только для одних монахов? Они и глаз-то не подымают, ходят, долу опустив.
– Ну, и живи, Лугота, покуль Господь грехи твои терпит, – разрешил Леонтий. – А у меня боль грызучая во всех местах, иной раз и скажешь: мамонька, возьми меня к себе!
– За что же нам такое наказание, дядя? – с сочувствием сказал Лугота.
– Земли согрешившие казнит Господь гладом иль наведением поганых, ведром ли, гусеницею прожорливой или иными казнями.
– Дядя, ну, что мы такого согрешили? Что все монахами не сделались? Ты ж сам рассказывал, как князья грешат, жеребцами ореватыми друг на друга скачут. Почему нам-то страдать за их деяния? Ты ж сам видал, что на Липице-то было?
– Во всякой мирской власти мерзавство присутствует. Такова, видно, природность ее. И искушение властью самое искусительное. А еще говорят, всякая, мол, власть от Бога и кесарю – кесарево.
– Но Христос отверг власть, когда дьявол его на горе искушал! – воскликнул Лугота.
– Отверг. И само соделалось – власть Его над людьми многими и землями. Несовершенны люди, а власть сию дивную превозмочь не могут и с любовию ей подчиняются по своему желанию и влечению духа.
– Не само соделалось, а волею Отца, – поправил Лугота.
– Да. Плачу слезами чистыми и умиленнымй, когда мыслю про то.
– А пошто плачешь?
– Не знаю. Должно, от грехов.
– Томят они тебя?
– Томят, перед смертью-то.
– А у меня нету грехов.
– Уж будто!
– Правда, нету.
– Не бывает человек без греха.
– А дитя?
– Дитя?.. – в затруднении переспросил Леонтий. – Должно, нету. Если только соврал или съел чего в пост.
– А у меня и того нету. Николи не врал и в пост не лакомился. Не упомню того за собой.
– Гордишься ты, – упрекнул Леонтий.
– Вот и нет. Не горжусь. Послушлив я всегда был.
– Одни монахи послушливы во всем, – сурово возразил Леонтий, – да и то грешат.
– Я не знал, что только монахи. Думал, все, как я, поступают.
– Не рано ли святостью похваляешься? – уже озлился Леонтий.
– Да ничем я не похваляюсь, – жалобно отбивался Лугота. – Жил себе да жил.
– Да ты и впрямь, кажется, дитя, – искоса взглянул старик. – Но все равно испьем круговую чашу общую.
Сухощавый немолодой прислужник бесшумно и сноровисто убирал остатки боярской застольщины. Питы меда обельные, то есть квашенные в обели – клюкве с солью. Такие меды у иных разум острят и просветляют, у других вызывают кичение непомерное и охоту к грязноте словесной.
Боярина в сивых волосах, лаявшего владыку Кирилла, вытащили из шатра под руки и головой в сугроб основательно просвежили. К устыжению не прибегали, рассудив, что не боярин виноват, а мед.
Разошлись с неудовольствием: великого князя разгневали, владыку обидели, и самим было неловко – с какой такой стати бражничали?
Василько при этой хмельной сваре как сидел, так и остался сидеть за столом, оглядывая бояр широко расставленными глазами, поворачивая в пальцах чашу, которую повсюду брал с собою. Чаша была из Вестфалии, кругом шли надписи на латинском языке: «Надежда, Любовь, Терпение, Вера». Этот сосуд – подарок приемного отца после похода Василька на Калку, откуда он вернулся, ни татар не повидав, ни чести не потеряв и ни одного воина. Это была дорогая память еще и того дня, когда он признался великому князю, что полонен черниговской княжною Марией и просит ее посватать. Тогда-то Юрий Всеволодович и дал Васильку эту чашу в знак своего благоволения.
– Посмотри, что написано, – сказал. – Здесь нет слова Счастье или Слава, но если будет у тебя Надежда и Любовь, Терпение и Вера, этого для жизни довольно.
Пятнадцатилетний Василько, скрывая вспыхнувшее лицо, благодарно припал к большой, тяжелой руке отца.
Того, чье отчество носил, он помнил плохо, едва-едва, а младшие Константиновичи совсем не помнили. Когда умер Константин Всеволодович, Васильку было девять лет, Всеволоду семь, а Владимиру три. Мать их приняла схиму над гробом мужа и умерла тоже молодой, пережив его всего на полтора года.
Потомки неладивших братьев оказались в одной семье, где, кроме малолетних Константиновичей, проживали такие же Всеволодовичи: семилетний Всеволод, который сейчас стоит с войском под Коломной, трехлетний Мстислав, который сейчас на обороне стольного града, и новорожденный Владимир, нынешний защитник Москвы.
Юрий Всеволодович, довольный, что столько детей, говорил:
– У меня теперь тоже большое гнездо.
Потому что отданы были ему на руки еще и младшие братья: Святослав да Иван. Столько сошлось в семье одинаковых имен, что хочешь не хочешь, а пришлось различку делать, по отчествам.
И вот это отдельное отчество Константиновичи было как лед – гладкий, прозрачный, осенний лед, сквозь который видны струи темной бегущей воды. Василько – самый старший, а верховодил всегда Всеволод. Как же! Ведь он-то Юрьевич! Всеволод, Мстислав и Владимир – сыновья великого князя, а Константиновичи – лишь сыновцы. И они с детства старались держаться вместе, были ближе друг к другу, чем к однолеткам Юрьевичам. Хотя (Юрий Всеволодович и великая княгиня предпочтений между своими детьми и сиротами не делали. Братаничи росли смирными, здоровыми, никаких забот о себе не требовали. Только очень пристальный взгляд мог бы заметить, что они не столь веселы, как княжата Юрьевичи, не столь озорные. Хотя когда играли в ловилки, бегали куда резвее их.
Мир и согласие держались в этой большой семье, и даже неуемный Ярослав, пытавшийся воздвигнуть племянников против великого князя, не преуспел.
Юрий Всеволодович ласково, но твердо дал понять, кто тут теперь набольший и чья воля, чье разумение будет править.
Ярослав отъехал в негодовании.
Дело в том, что новгородцы его второй рад погнали с княжения, и великий князь повелел сесть в Новгороде Михаилу Черниговскому. Отчего Ярослав вспыхнул, как всегда, закипел и постарался возбудить сыновцев в защиту справедливости. Они по младости было возбудились, но Юрий Всеволодович, не спеша и не загораясь, привел их в чувствие, права и вольности новгородские разъяснил, и новый спор под его нажимом разрешился. Только Ярослав, отъезжая в свой удел, долго кричал и бранил Василька за то, что Михаил Черниговский его тесть и Василько предпочел тестю родного дядю.
Князь Ярослав был самый дерзкий в своих устремлениях, горячий и упорный в достижении задуманного. Помирившись в очередной раз с новгородцами и посадив у них своего старшего сына, семнадцатилетнего Александра, будущего преславного в веках полководца и даже святого, Ярослав занялся его свадьбой и на призывы прийти с воинством на Сить никак не откликался, тая ли обиду, показывая ли неповиновение иль ожидая, пока проймет Юрия как следует: хорошо ли без помощи-то родственной? Ярослава порицали князья, бояре и простые ратники, но все-таки верили и надеялись: вот-вот придет.
Константиновичи поместились в одном шатре посередине стана, неподалеку от великого князя. Они всегда были привязаны друг к другу, а теперь особенно, и чувства младших братьев к Васильку сделались как бы и сыновними, потому что он один из них хранил смутные воспоминания о их семье, о родителях. Его походом на Калку братья гордились больше, чем он сам. Марию, жену его, рассеянную, погруженную в свои мысли женщину, любили почтительно и хоть неуклюже от смущения, но всегда это ей выражали.