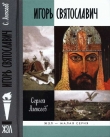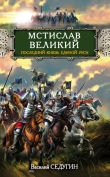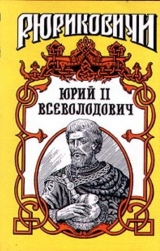
Текст книги "Юрий II Всеволодович"
Автор книги: Ольга Гладышева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
– Э-э, – протянул один из дружинников, – ты, Якумка, ровно сорока на колу. Взял бы мое седло.
– Чем же оно лучше?
– Глубокое, будешь сидеть, как репа в грядке.
– Нет уж, лучше сорокой быть, чем репой, – усмехнулся Якум и подмигнул завороженно смотревшему на него княжичу: – Верно говорю, Георгий Храбрый?
Юрий не нашелся что ответить, это сделал заботившийся о Якуме дружинник:
– Тебе видней, только помни, что против тебя триста двадцать фунтов живого мяса идет.
– Как это? – не понял Якум.
– Столько весу в восьми пудах.
– Ну, мякина на пуды, а зерно на золотники, – отмахнулся Якум и стал пристегивать на обоих боках и плечах дощатую броню без рукавов.
– Ты бы все же надел железное зерцало, – посоветовал все тот же дружинник, который предлагал глубокое седло.
– Нет, там ожерель и обруч мешают. Это мне привычнее. Да и куда как легче. А вот от железных наручей не откажусь. Есть у тебя?
– Как не быть! Есть, есть!
– Ну-тко, давай! – Якум пристегнул на пряжки выгнутые металлические пластины, закрывшие руку от кисти до локтя. – И шелом надобен бы покрепше.
– Булатного у меня нет… Может, медный сгодится?
– Сгодится, давай! – Якум насадил на голову до блеска начищенный шлем с наушами и затылом – пластинками, положенными одна на другую, затянул под подбородком ременные паворози. – И щит у меня легонький да невзрачный: досочки из клена, а поверху кожа козловая…
Тут уж сам великий князь вмешался:
– Возьми мой.
Якум не отказался, но и подойти взять не смел. Навершие и каймы стального щита были золочеными, исподняя часть бархатная с тафтяной подушкой посередине, шелковые тесьмы по сторонам имели золотые кольца и пряжки.
– Вернешься со щитом – он твой! – щедро посулил великий князь, и установилась сразу тишина, каждый подумал одно: хорошо, коли со щитом, а ну как на щите принесут во Владимир Якума?
В горячке сборов не заметили, что ветер, шало дувший все утро, стих, а через промоину серых облаков проглянуло солнце, по-осеннему холодное и неприветливое. Вскинулись, услышав с рязанской стороны рев боевых труб. Заслонив от солнца глаза навесцем ладоней, вглядывались во враждебную даль.
– Едет! – Это не один кто-то крикнул, а словно бы все разом.
Черная полоса рязанского воинства стала ближе, на солнце поблескивали концы взнятых вверх копий. Из строя отделился один всадник. Лошадь под ним шла размеренным неторопливым шагом, будто была она не верховая, а тягловая, привычная выполнять трудную работу.
– Ишь ты, едет, как по яйца, по горшки!
– А здо-о-оров-то!.. Истинно Осьмипуд! Как только лошадь его выдерживает!
Юрий с опаской посмотрел на Якума: не испугался ли? Но тот опять весело подмигнул:
– Помогай, Георгий Победоносец! С тобой мы ему зададим такую памятку, кою он до новых веников не забудет. – Прицепив с левого бока меч и выбрав копье покрепче и потяжелее, он собрался было сунуть ногу в стремя, но увидел, что идет к нему с крестом в руках поп Евлогий. Повернулся к нему навстречу, опустился на колени: – Батюшка, дай мне свое благословение, а уж я постою за веру христианскую да за землю-мать родную!
Евлогий покропил Якума святой водой, осенил медным крестом, напутствовал:
– Помогай тебе Бог!
А Осьмипуд меж тем неспешно, но приближался, рязанское воинство на отдалении следовало за ним.
Якум легко вспрыгнул в седло, послал коня с места вскачь – будто стрела с тетивы снялась.
Великий князь дал знак, по которому следом за Якумом двинулись дружинники, построившиеся по сотням, каждая со своим стягом, с воеводой впереди.
Начал разгонять своего коня и рязанский богатырь. Когда приблизился к Якуму саженей на двадцать, вдруг поднялся во весь свой исполинский рост и, стоя на стременах, сильно метнул сулицу. Метнул очень метко, но Якум вовремя заметил ее и уклонился в сторону, сулица воткнулась в землю возле заднего левого копыта коня. И Якум столь же внезапно запустил свое легкое копье, и тоже без промаха. Осьмипуд сидел в седле глубоко, был неповоротлив и не сумел подать коня в сторону, выставил перед собой длинный прямоугольный щит, сулица скользнула по нему и отскочила в сторону.
Поединщики взялись за копья, насажанные на длинные ратовища. Стали тыкать ими друг в друга, грозя проколоть насквозь, однако делали это осмотрительно, то посылая коней вперед, то осаживая их, то резко отворачивали в сторону, так что копья поражали лишь воздух либо скользили по щитам.
Дружинники обеих враждующих сторон встали с двух боков полукружьями, наблюдали за битвой в молчаливом напряжении. Уж всем стало казаться, что поединщики так и будут крутиться на всхрапывающих и гулко переступающих конях, что никому не удастся пронзить противника или выбить его из седла, как Осьмипуд исхитрился завести ратовище Якумова копья под копыта лошадей, раздался хруст, отскочило в сторону стальное копье, в другую сам Якум откинул остаток древка с металлической оковкой на тупом конце.
Не успели владимирцы и выдохнуть возглас ужаса, как Якум обнажил меч и так ударил им, что Осьмипуд, торопясь заслониться щитом, выронил из рук копье. Но сразу же верно оценил опасность, подал коня назад и в сторону, тоже выхватил меч.
Опять началось кружение разъярявшихся коней, мечи ослепительно взблескивали в холодных лучах солнца. И тут всем наблюдавшим за битвой богатырей стало ясно, сколь прав оказался Якум, выбрав высокое седло с короткими стременами: он легко поворачивался на нем во все стороны, даже и назад, в то время как Осьмипуд сидел, и верно, что репа в грядке. Однако у Осьмипуда был свой расчет, ему опять удалось сильным ударом выбить из рук противника оружие после чего всем показалось, что исход битвы ясен.
Рязанец готов был торжествовать, широкое лицо его расплылось в победительной улыбке. И никто не разглядел и не понял, как это Якум измудрился выскочить из своего высокого седла и обрушиться прямо на спину Осьмипуду так, что тот не усидел и свесился под брюхо коня. Якум выхватил поясной, короткий о двух лезвиях нож, полоснул им по путлищам – стремена отпали, а с ними завалился под копыта и Осьмипуд. Якум ястребом слетел с чужого седла, подхватил копье поверженного супротивника и тут же вспорхнул на своего коня, который будто все понимал, не отошел от хозяина ни на шаг. Осьмипуд продолжал лежать на земле неподвижной глыбой. Якум неспешно подъехал к нему, поднял над ним копье и замер в таком положении.
«Как Георгий Победоносец на иконе!» – подумал Юрий, и, наверное, не он один: радостный гул прошелся по рядам владимирцев. Только по этому гулу и можно было понять, где свои, а где приунывшие и притихшие рязанцы: в задоре и переживаниях за исход поединка дружинники враждующих сторон незаметно для самих себя сблизились, полукружья сомкнулись в один обод.
Рязанский князь Ингвар не мог скрыть огорчения, даже в лице переменился – на алых, покрытых пушком щеках выступили белые пятна. Подъехал к великому князю Всеволоду, спросил вздрагивающим голосом:
– Что же, мир?
– Мир, мир, все бесы в воду – и пузырья вверх!
– Бесы в воду?..
– Да, да, а погосты – мне!
Ингвар покорно кивнул головой и развернул коня. За ним последовали его дружинники, сидевшие в седлах понуро, присугорбившись.
Якум стоял в окружении славивших его дружинников. Снял с себя деревянную бронь и медный шелом, от мокрых волос, головы и всего разгоряченного тела пошел пар.
– Тяжко пришлось тебе, Якум?
– Ничё, пожадел только.
– На-ка выпей из туеска квасу.
– От жажды гожее пиво, чай, великий князь не поскупится? Ну, это, поди-ка, дома, а покуда и квасок сгодится. – Якум приложился к берестяному туеску и не отнимал его от губ, пока не выпил до дна.
Юрий возвращался с отцом опять во главе воинства, опять двигались уторопленным шагом, опять конь о конь.
– Батя, а Якум ведь не воткнул копье в рязанца?
– Нет. Как и Георгий Победоносец на иконе в нашем соборе во Владимире.
– Да-а?.. – Сейчас только вспомнил Юрий, что ведь и впрямь лишь занес святой Георгий свое копье над драконом! – Как же это? Значит, тот змей жив остался?
Отец даже коня придержал, повернулся к сыну:
– Глянь-ка ты! А ведь так оно и есть. Как же в самом деле это? Давай батюшку нашего призовем, попытаем его.
Подали коней на обочину, пропустили вперед всю дружину. Поп Евлогий по-прежнему путешествовал в телеге.
– Отчего это ты, отец святой, все на дрогах, не то на санях восседаешь? Иль тебе мои подседельные кони не гожи?
– Кони твои куда как гожи! Однако человеку духовного сана дозволено садиться только на осляти, на каком Спаситель въезжал в Иерусалим.
– Вона… Осляти нет у меня, чего нет – того нет… А вот скажи-ка княжичу, отчего это в соборе на иконе Георгий Победоносец токмо замахнулся копьем, а не ударил? Может, у нас обманный образ?
– Никакого обмана! – сухо, даже сурово ответил Евлогий. – Образ новгородский мастер писал с византийского образца.
– Тогда отчего же?
– Знать надобно княжичу, что в облике змия того сам сатана пресмыкается… И по сей день он строит людям злые козни, только одно против него есть оружие – Крест Святой.
Весь путь до Владимира был Юрий в смущении и сомнении, не умея совместить слова Евлогия с тем сказанием, которое перед походом читал в обители молодой монашек. Разве же мог он, десятилетний отрок, знать тогда, что вся жизнь его будет состоять из жесткого противоборства добра и зла и что сатана станет незримо сопровождать его до самой последней ночи на Сити?
Вернувшись из первого своего похода, Юрий восторженно рассказывал братьям, как бился Якум с Осьмипудом, и закончил горделиво:
– Наша взяла!
А отец на совете бояр даже не упомянул о поединке, только осведомил деловито:
– Вернули мы свои погосты.
Уже став великим князем после смерти отца и старшего брата, Юрий полно осознал свой долг устроителя и защитника отчины.
Да, не для того Юрий Долгорукий поставил Москву, чтобы ее грабили рязанцы. Он же и город своего имени построил на Колокше, притоке Клязьмы. А пращур Ярослав Мудрый, в крещении тоже Юрий, основал сразу два города Юрьева – на реке Роси, на границе с половецкой степью, и в Чудской земле. Второй Юрьев иноземные захватчики, пришедшие с запада, переназвали в 1224 году в Дерпт, а Юрий Всеволодович тогда же решил дать свое имя новому, основанному им городу.
Защищая восточные окраины княжества и стремясь закрепиться на Волге, он сначала основал Новгород Низовской земли, а спустя четыре года, когда камские булгары стали воевать и верховья реки, захватили Устюг и Унжу, почел нужным ставить заслон по всему правобережью. Повыше старинного Городца Радимова, в том месте, где Волга делает крутой поворот, а высокие холмы подступают цепочкой к узкой береговой кромке, основал он город Юрьевец. Начало городу положила часовня во имя Георгия Победоносца. Ее срубили на высокой надпойменной площадке, которая разделяла два глубоких оврага, сбегавших к Волге. Наверху овраги соединили рвом и валом с бревенчатыми стенами, так что стал город настоящей крепостью. Место было выбрано удачно, во все стороны вели важные дороги: вниз по Волге к Городцу да Новгороду Низовской земли, а затем и в Булгары, вверх по течению – к Ярославлю, по Каме – к Каменному Поясу, по Оке – к Залесской Руси, по левобережным притокам Унже и Нёмде – к Белоозерью.
Но особенно полюбил свой новый город Юрий Всеволодович за редкую красоту здешних мест, часто наезжал сюда, случалось, подолгу жил либо в своей усадьбе, выстроенной среди вековых сосен на взгорье, либо на волжском острове Толстике, где были богатые ловы осетров, стерляди, белорыбицы.
Последний раз посетил Юрьевец мимоездно летом прошлого года, незадолго до того, как объявились на Руси татаро-монголы. Вместе с дружиной возвращался берегом Волги после брани с мордвой, которая время от времени вылезала из своих лесов и грабила окраинные села княжества.
С торной дороги свернули в Талицкую трубу – узкую просеку, прорубленную в дебрях вдоль речки Талки. Повстречали двух возвращавшихся с бортних ухожей мужиков. По виду – и спрашивать не надо – отец с сыном: оба коренастые и плечистые, у обоих большие голубые глаза и кудрявые волосы над высоким белым лбом, только у отца борода подлиннее и с редкими серебряными нитями.
– Хорош ли мед-то? – спросил Юрий Всеволодович.
– Из ельника…
– A-а, вересковый? Значит, сладок и душист. А куда же лапти навострили?
– На Глазьеву гору, – отвечал старый бортник.
– Каку таку Глазьеву? Где? Почему не знаю?
– Зна-а-ашь, как не знашь… Там воеводин глаз, все округ зрит.
– Ишь ты, какое прозвание придумали для моей сторожи!.. А сами-то чьи будете?
– Да из самого Георгиевска мы.
– Как, как?
– Город наш во имя Георгия Храброго срублен, – подтвердил отцовы слова и молодой бортник.
– Из Юрьевца, что ли?
– Ну да, – согласился старший, – из его, из Георгиевска.
Юрий Всеволодович только рукой махнул и продолжил путь по Талицкой трубе.
Разомлевшие на солнце сосны наполняли просеку густым запахом хвои и смолы, к которым примешивалась душистость спеющей земляники, высоких лесных трав и цветов.
Юрий Всеволодович вел коня шагом, память невольно обращалась к невозвратным дням, когда дядька Ерофей, поглаживая свою волнистую медовую бороду, называл своего пестунчика не иначе, как только Георгием Храбрым.
Над головой плыло летнее ласковое солнце, впереди угадывалась волжская прохлада. Юрий Всеволодович чувствовал себя погруженным в безмерную глубину не просто узнаваемого, но всегда любимого мира.
До стояния на Сити оставалось полгода.
Возле дымового отверстия по-прежнему вихрилась снежная струя. Досадуя на ее чуть заметный, но непрекращающийся шорох, Юрий Всеволодович откинул край тяжелого ковра и приник ухом к влажно-морозной земле. Каждую ночь вот так вслушивался он, каждый раз улавливал топот конских копыт – далекий или близкий, одного всадника-гонца или давно ожидаемого войска.
Нет, опять показалось. Никого. Напрасно ждешь, князь! Тишина стояла такая, что было слышно, как кони где-то жевали у коновязи и выпускали с шумом воздух из ноздрей.
Юрий Всеволодович вернулся на свое ложе. То ли озноб пробегал до телу, то ли, наоборот, жарко. И жестко. И от шкур зверьем пахнет. Не знаешь, как улечься и чем мысли занять.
Что привело татар на Русь? Стремление обогатиться за чужой счет, пограбить мирные города и села – только это, и спрашивать нечего. Многих иноземцев притягивало русское узорочье, хранящееся во дворцах и усадьбах, соборах и монастырях. А залапают ли они Костину книжарню, которая сейчас в городе племянника Василька, в Ростове? Да зачем она варварам-степнякам!.. Разве что сожгут, когда станут мерзнуть на морозе…
Костины книги… Их много, так много, что и не всякий поверит, – не меньше тысящи, целая вивлиофика! И все их Костя собрал в Горском монастыре и уверял, что каждую перечел, во что не очень верилось. Он задолбил на память и потом любил повторять своей младшей братии поучение пращура Ярослава, не всуе прозванного Мудрым: «Великая, братие, бывает польза от учения; книгами бо кажеми и учимы есмы пути покаянию; мудрость бо обретаем и воздержание от словес книжных; се бо суть реки, напояющие вселенную».
Юрий слушал Костю, а про себя думал: это оттого он к книгам прилепился, что хилой от рождения – ни на коне-неуке, ни с луком разрывчатым не по силам ему управляться. Так, наверное, и отец думал, потому что ни разу не взял Костю с собой в боевой поход и уж тем паче – не посылал на рать одного, а про его увлечение говорил:
– Я из Греции привез книг не малое число, но про что, не ведаю, потому как еле брел по ихней грамоте. Может, Костя одолеет, так что пусть его…
А Костя, и верно, одолел: все отцовы книги велел перевести на церковнославянский, как и те еще, которые сам прикупил в Константинополе: «Хронику Георгия Амартола» и «Пандекты Николы Черногорца». Стали его пытать, что это за пандекты такие, за которые он большую цену заплатил. Костя напустил на себя важность, ударился в мудреные рассуждения, а когда книгу перевели, то узналось, «пандекты» – это по-гречески всего лишь «сборник». Братья стали над ним потешаться, дразнили Пандектом, но прозвище это недолго держалось, потому что Костя все-таки был в книжном деле истинным докой, и хочешь не хочешь, а вызывало почтение даже у взрослых светских и духовных лиц, с ним как с равным вели беседы толмач и другие еще ученые люди. Вновь приезжавшим в княжество людям Костя был рад, всех расспрашивал, где какие имеются книги, со всеми охотно вел умственные беседы.
Долгое время паломники, калики перехожие, купцы и ремесленники приезжали только со стороны Южной Руси, но в 1301 году отец, продолжая начатое дедом Юрием Долгоруким и братом Андреем Боголюбским, подчинил себе вольнолюбивый и мятежный Новгород, и сразу потянулся разный люд теперь уж и с севера.
Наместником там отец посадил пятилетнего сына Святослава с большими боярами. Граждане Великого Новгорода, однако, посчитали, что Святослав по малости своей не сможет быть им покровителем, и отец решил послать к ним еще и старшего своего сына.
Костя, как обычно, стал ссылаться на немочь и хвори, упрашивал со слезами отца и мать пожалеть его и не отправлять из любимого Ростова. Отец заколебался, стал подумывать, не заменить ли его следующим по старшинству сыном, Юрием, но Костя вдруг объявил:
– Еду! Еду, батюшка, в Новгород.
А время спустя узналось, что повлияло на решение Кости. Оказалось, что прослышал он, будто в Новгороде некий поп Упырь Лихой написал «Рукопись толковых пророков», и очень это сочинение Косте понадобилось. Несколько лет просидел он в Новгороде, просил тамошнего архиерея достать ему – подарить, продать или разрешить переписать – позарез нужную рукопись Упыря Лихого, но дело отчего-то не сладилось, Костя вернулся огорченным.
Женившись, он не только не оставил своего увлечения книгами, но стал относиться к ним еще дотошнее.
Книги обыкновенно хранились в разных кельях монастыря, в трапезной, в храме, теперь Костя решил все их собрать в одну вивлиофику. Но опять же – не абы как, не в один ворох, а бережно разложенными по пристенным поставцам. На отдельном, закрытом слюдой поставце – Четвероевангелия, Евангелия недельные – для каждодневного чтения, Жития Святых, апокрифические сказания о ветхозаветных и новозаветных лицах и событиях, другие книги отечные – повести о христианских подвижниках, сочинения Кирилла в переводе его брата Мефодия, содержащие беседы и прения с еретиками, магометанами и иудеями. В другом поставце «Физиолог: слово и сказание о зверях и птицах», «Пчела, речи и мудрости от Евангелия, Апостола, святых мужей и внешних философов», здесь же драгоценные греческие книги «Повесть о взятии Царьграда крестоносцами в 1204 году», «Девгениево сказание» – греческий список вместе с переложением на церковнославянский, византийские хроники, излагавшие историю человечества, апокрифы («Сказание, како сотвори Бог Адама», «О царе Соломоне», «Хождение Богородицы по мукам»), а также особо почитаемые отроками «Александрия» и «Повесть о Троянской войне».
Каждую книгу Костя если не прочел, то в руках-то своих не раз и не два понянчил с любовью и благоговением. Он уж отцом большого семейства стал (сперва две дочери народились, потом сын Всеволод, через год Владимир), но вивлиофика оставалась по-прежнему главным предметом его радения. Решил, что иные книги сильно обветшали и требуют починки и поправки. Заказал греческим и ганзейским купцам довольное число дорогих харатий, которые называли еще пергаментом, а то и просто кожами, потому как они выделывались из телячьих или козьих да бараньих шкур.
Всю работу Костя любил исполнять собственноручно. Брал восемь пергаментных листов одного размера, пришивал их к бечевке или ремню, а затем крыл досками. Предварительно доски обтягивал кожей или оковывал золотом и серебром, украшал многоценными каменьями, навешивал на каждую доску затейливые застежки – не для красы, а чтобы не коробились и не портились книги. Ради этого на некоторых Евангелиях были даже приписки назидательные сделаны: «А который поп или дьякон чтет, а не застегнет всих застежек, буди проклят».
Имелись в вивлиофике еще и такие пергаменты, которые никак нельзя было переплести, – они не сшивались, а свертывались на скалку и назывались свитками. Для надежного и долговременного их сбережения Костя велел изготовить укладочки и чехольчики, а для одного старинного свитка длиной в восемь саженей сшили кожаную трубу с донцами. И не только книги и свитки – ни одна даже грамота, докончальная или жаловальная, попавшая каким-то образом в вивлиофику, не оставалась без Костиного внимания, всякая была накрыта чистым листом харатии и уложена в скрыню. И все казалось Косте, что мало у него книг, он заказывал писцам все новые и новые рукописи.
В детстве и отрочестве Юрий, как все княжичи, учился в монастырской школе и, как все, читывал «Сладкогласную Псалтырь», «Шестоднев», «Поучения Владимира Мономаха» и некоторые иные еще книжицы, какие наставники велели чести. Он полагал, что князьям, занятым многотрудными делами, не до чтения мудрых, трудных для уразумения книг, довольно простую грамоту знать. Другое дело счет, сию науку князю знать надо поизряднее – хоть воинство пересчитать, хоть взятую добычу оценить, хоть с купцами и ремесленниками безубыточно рассчитаться. А чтение – что? Оно только монашеству и духовенству приличествует.
Из шести братьев один лишь Костя наинак думал, пошел он не в род княжеский, а из рода. Правда, еще и Святослав чтением книг баловался – видно, когда сидел в Великом Новгороде, заразился от старшего брата.
После смерти отца единая Ростово-Суздальская земля разделилась на четыре княжества, во главе которых стали Юрий, Константин, Ярослав и Владимир, а младшие Святослав и Иван остались на руках у Юрия. Оба жили в своих малых уделах. Иван-Каша являлся к великому князю по первому зову, а вот у Святослава вечно находились какие-то нечаянные препоны и случаи, мешавшие приехать вовремя в стольный город. Юрий удивлялся, сердился, а однажды, когда Святослав вместо себя прислал гонца, решил нагрянуть к нему без предупреждения и узнать, каки таки безотложные гребты мешают ему исполнять волю великого князя. На вопрос, где Святослав, дворецкий ответил:
– Князь Святослав Всеволодович в пиршеской палате с важными иноземными гостями.
– Пиянствует?! – вскипел Юрий и кинулся по пристенной лестнице в верхнее жилье.
Святослав, верно, сидел в застолье с мужами досужими и вожеватыми, однако перед ними не кубки с медами стояли, а лежали раскрытые книги и чистые харатии. Юрий от неожиданности застрял в дверном проеме. Оставаясь невидимым для хозяина и его гостей, прислушался.
– Как вместить в разуме, что над землей семь небес, семь кругов и шесть ворот солнечных? Почто так мудрено устроено? – вопрошал Святослав.
Один из гостей, говоривший разборчиво, но с излиха усиленным выражением голоса на иных словах, отчего Юрий заподозрил в нем греческого священника, степенно возразил:
– «Книгу Еноха» иудейские жрецы написали. Все басни и брехня сиречь…
– Нешто и Космы Индокоплова писания басни и брехня суть? – вмешался в разговор местный поп Иоаким.
– Николи нет! «Христианская топография» истинно толкует: небо над нами двойное, прослойка между ними водяная, а поверх верхнего неба, коего не видим мы, смертные, обитает Сам Бог.
– И ангелы?
– Нет, ангелы живут между небом и землей и катят по небесным кругам разные светила.
– И души умерших тут же, между небом и землей, – добавил Святослав. Услышав его речь, Юрий изумился про себя: во-о, умник! А тот продолжал: – Известно, земля – аки столешница меж гор и стены высотой до неба, а писания язычников Аристотеля да Платона, еще и Птоломея в вивлиофике брата моего покойного Кости имеются, но честь их не след, дабы в смущение велие христиан не вводить.
– Истинно, истинно, – подтвердил важный греческий священник. – Да и то: буди земля аки шар, то иные из людей должны ходить вниз головой!
Это замечание вызвало смех всех, кто сидел за столом. Даже и Юрий за дверью понял несуразность суждений неведомых ему темных язычников и тоже едва не рассмеялся. Подавив веселье, вспомнил, зачем пришел, намерился было шагнуть в палату, да какая-то непонятная сила удержала его, он развернулся и, неслышно ступая мягкими, без каблуков, подошвами сафьяновых сапог, спустился вниз.
– Скажи князю Святославу, что опосля я приду, а нунь он мне не нужен, – велел дворецкому и привычно, почти не глядя, закинул левую ногу на спину стремянного боярина, который стоял уже, согнувшись, у оседланного коня. Не погнал с места вскачь, выехал с подворья шагом, словно боялся помешать Святославу и его ученым гостям вести многоумную прю.
Потом узнал, что Святослав сделал обыкновением каждодневно честь книги и милостиво принимал ученых мужей, приходивших из Греции и западных стран, подолгу беседовал с ними и спорил. А еще пожалел запоздало Юрий, что в свое время не пристрастился, как братья Костя и Святослав, к чтению книг: ведь пращуры Владимир Мономах да Ярослав Мудрый небось еще больше чли книг, нежели даже Святослав, а потому и стали столь прославленными и почитаемыми во всех землях русскими государями. Отчего же случилось так, что Святослава Костя направил на верную стезю, а Юрий остался на обочине?..
Костя, брат! Как мало я вспоминал тебя! А если вспоминал, то лишь злое. Липица язвой во мне сидела и жгла. Что я делил с тобой? И страстотерпцы Борис и Глеб меня не вразумили. Их кротость и старшему брату покорение совесть мою не разбудили. Ведь у них со Святополком Окаянным было так же, как у нас с тобой. Святополк как старший право на престол имел, а отец отдал его Борису. Но ты не убил меня, как Святополк брата, а снисхождение к неразумию моему оказал. Кровожадности не было в тебе. Я же понимаю, что на Липицу тебя Мстислав Удатный раззадорил. Никто не звал его – сам напросился в покровители новгородцев и в заступника твоего старшинства, вел себя как имеющий право наказывать и награждать. Ярославу велел покинуть Новгород, а мне сойти с престола великокняжеского. Удивительно ли, что Ярослав стал надмеваться? Удивительно ли, что я сказал: ежели сам отец не мог рассудить меня с Константином, то Мстиславу ли быть нашим судией? Пусть Константин одолеет в битве – тогда все его. Ничему, видно, сравнения не учат да и на ум не приходят, когда надобно. Мало мы в детстве дрались. Потом наверстывали. Борис и Глеб только свои жизни отдали, не желая междоусобия. А мы сколько людей положили на кровавом пире? Это и мучает меня больше всего. Но хотелось бы мне сейчас поглядеть на тебя, Костя, и поговорить. Пусть недолго. Мало же ты прожил! Всего тридцать три года. И странно, только ты умер, как вся обида моя испарилась куда-то, ожесточение прошло и надсада исчезла. Чувство вины, глубоко таимой, и сострадание овладели мной. Хоть и целовал я крест на верность тебе, но примирение наше было неполным. Те два года, что оставались до твоей смерти, я избегал встреч, а если они случались, не мог в глаза тебе смотреть и старался не произносить твое имя. Не сумел я, как заповедано, возлюбить ближнего, как самого себя. Себя любил больше… Но дети твои, Костя, сыновцы мои, никогда мне престолонаследие в упрек не поставили. Они твою волю чтили. Хотя сам ты решение нашего батюшки покойного переиначил…
Отца прозвали Большим Гнездом, потому что во всех северных землях княжить стали его дети. Старость его была болезненна, и в последний год жизни он, чувствуя, что изнемогает, решил урядить своих сыновей. Старшему Константину принадлежал Ростов, который считался в прежние времена городом главным. Юрию был отдан Владимир, бывший пригородом Ростова. Однако в последние годы тяжба городов за старейшинство и главенство окончилась в пользу Владимира, и стольным стал называться он. В него в призвал отец старшего сына занять великокняжеский стол.
Константин был не просто болезненным от рождения, но еще привередливым и упрямым. Он не захотел расставаться с милой ему отчиной, не явился на зов отца, а передал с боярином:
– Батюшка! Если хочешь ты меня сделать старшим, то дай мне старый начальный город Ростов и к нему Владимир или, если тебе так угодно, дай мне Владимир и к нему Ростов.
Вот как любил он Ростов!
Отец второй раз послал за ним, и опять старший сын не повиновался. Отец осерчал, позвал бояр из всех городов, епископа, игуменов, священников, купцов, дворян и объявил, что наследником станет его второй сын – Юрий, которому он поручает великое княжение и меньших братьев. Все многочисленное собрание больших людей одобрило решение великого князя, а ослушника Константина заклеймило преступником. Сам он таковым себя не считал, разобидевшись, даже не поспел на похороны отца, а затем повел себя вызывающе враждебно.
Неужто лишь гордынность толкнула его на нелепый отказ переехать из Ростова во Владимир, занять отчий и дедин стол? А почему столь решительно поступил отец, разные люди по-разному думали. Юрий же Всеволодович стал задумываться и постигать истинную причину отцова решения лишь много времени спустя.
Не скажешь, что мал да несмыслен был тогда – вполне зрелым мужем принял он от отца княжество. Но жизнь как-то уж столь бурно закрутила с самой той поры, что ни оглянуться, ни дыхание перевести.
Только-только отпраздновали свадьбу Юрия, как отец и волю свою объявил, будто нарочно подгадал, будто подарок свадебный преподнес. И не уразуметь было сразу: окончательно его решение или он еще передумать может? Даже поговорить об этом с Костей не успели, как отец умер – внезапно, в одночасье.
Едва стихли плачи и причитания об усопшем великом князе, а уж собрались во Владимире перед княжеским дворцом люди знатные и мизинные, направили к Юрию Всеволодовичу послов с зовом идти на стол. Священники и миряне, бояре и дворяне, родичи и простые граждане целовали крест и присягали, называя его не только великим князем, но и государем, самовластием, царем, господином. Миг сладкий, да скоротечный.
Обряд посажения был выдержан чин чином, как установлено на Руси приличием и обычаем, однако Константин, оставшийся в Ростове, и с ним меньшой брат Владимир посчитали, что родовое право Юрия держать старшинство спорно и надобен некий ряд – уговор с братьями, чтобы почитали они все Юрия в отца место, а коли такового нет, то и прав на княжение у Юрия нет. Но Юрий верил, что занял стол по законному преемству, согласно отцову завещанию, его поддерживали в этом другие братья: Ярослав и Святослав.
Сначала противостояние выражалось в неповиновении, словесной пре и брани, а скоро вылилось и во брань ратную. Вспыхнувшая братоубийственная бойня оказалась столь позорной и жестокой, что ее, верно, долго станут поминать на Руси недобрым словом. Монастырский дьяк хоть и был лишь сторонним наблюдателем, но, правильно проницая случившееся, занес в Свод дрожащей рукой: