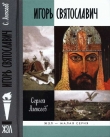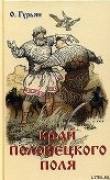Текст книги "Юрий II Всеволодович"
Автор книги: Ольга Гладышева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Легкими стопами вбежал Василько, крепко обнял сзади, прошептал:
– Я только что узнал. Крепись, отец. – Первый раз он впрямую назвал его отцом, а то все почтительное – батюшка.
– Теперь ты у меня старший сын, – сказал Юрий Всеволодович.
Другие два сыновца стояли у входа с потерянными лицами. Они сообщили, что опять завьюжило, а по реке движутся всадники, незнамо кто, и сороки до свету сокочут, беспокоятся.
Как неведомая сила подбросила великого князя. Он теперь желал любой перемены, хоть самой плохой, любого события, всем существом зная и чувствуя: бездействие закончилось.
Наружи ветер гудел в поднебесье, где-то высоко в верхушках сосен. Снег летел ворохами, наметал поперек дорог и тропинок рыхлые сугробы. В сизой мгле метались тени людей, откуда-то из кромешной лесной тьмы доносилось ржание и всхрапывание коней, лай обеспокоенных неожиданной людской суетой собак, и самое странное, что взнялся сорочий шум.
Среди этого гама ясно различалось: лошадиные кованые копыта бухали по льду гулко, с продолжительным, застывающим в морозном воздухе звоном.
– Беда, государь, беда неминуча! – кричал на скаку воевода Дорож, в безумном отчаянии понуждавший к прыти своего вконец выдохшегося коня.
Тот на ровном льду еще сохранял скорость, но, выскочив на глубокий, предательски ломающийся наст, стал вязнуть, трудно вытаскивая из снега ноги, и наконец вовсе остановился, шатаясь и роняя под ноги ошметки пены. Вторая лошадь, пришедшая следом, принесла на себе мертвого всадника. Ошалевшая от запаха крови, она взлезла на берег уж из последних сил. Мокрые бока ее опали. Ноги дрожали.
– Меж двух огней мы! Беда неминучая! Беда! – повторял воевода. – Татаре везде!
– А где дружина твоя? Погибла?
– Нет, мы разделились. Большая часть отряда пошла вдоль излучины. Не знай, живы ли, дойдут ли!
– Что, не подорожилось? – грозно воскликнул подоспевший Жирослав Михайлович.
– Како! Обклады кругом! Аки волки, мы в западне. Обошли нас со всех сторон. Меня навзрячь догоняли, а утек.
– Что ж ты бой не принял? – гневно схватил его Ярослав за плечо и тут же отпрянул: – Чего это такое липкое? Ты ранен?
– Две стрелы во мне! – все так же горячечно говорил Дорож. – Лекаря скричите! Умру сейчас. А бой не приняли – коней много потеряли. В лесу снег глубокий, под ним колдобины, ветровал. Ноги кони поломали. Пришлось прирезать. Ой, как больно-то, Господи!.. Это еще шли мы след в след, а широко двигаться, еще больше урону.
– Так где все-таки татары? – Юрий Всеволодович видел, что Дорож вот-вот обеспамятеет.
– Они Волгу перешли, встали возле Конятина напротив Углича.
– О-о, мои-то там! – вырвалось у сыновца Владимира.
Глухо и тяжко шмякнулся на снег труп дружинника, висевший поперек лошади.
Глава седьмая. Утро
Ко всем племянникам Юрий Всеволодович относился совершенно так же, как к родным сыновьям. Он не занимался нравоучениями, не наставлял, но всем своим каждодневным поведением давал им возможность незаметно, но глубоко вчувствоваться в его жизнь, принять как свои собственные его устремления и те жизненные основы, от которых нельзя отступать. Если среди родных сыновей он не делал выбора, все трое были одинаково дороги, то из племянников любезнее всех его сердцу был Василько. С малых лет он полюбил рать и походы, охотно шел на них по первому зову великого князя и непременно стремился быть с передовым полком, где требовалась особая отвага. Он не искал добычи или какой-то иной выгоды от побед на ратном поле, просто влекли его трудности и опасности. Преодоление своих слабостей высоко поднимает человека в собственных глазах, дают ему такой взгляд на жизнь, при котором он чувствует себя нужным, значимым.
Перемогая свое отчаяние, Юрий Всеволодович спросил:
– Как мыслишь, не последний ли в жизни бой нам предстоит?
– Николи, государь! Пращур наш Мономах восемьдесят три похода совершил. Я хочу столько же, и чтобы все победные!
Юрий Всеволодович кивнул. Это хорошо, что про Мономаха вспомнил Василько. «Поучение» его читали все молодые княжичи, а по семейным преданиям и облик его всем известен. Сказывали, что был великий пращур ликом красен, ростом не велик, но крепок и силен, глаза имел большие и яркие, волосы рыжеватые и кудрявые, чело высокое, бороду широкую. Добрую и громкую память оставил по себе, выделяясь перед всеми князьями здравым умом, несокрушимой волей. Говоря о своих восьмидесяти трех походах, он не кичился, а скорбел, вспоминая погибших боевых соратников, а пуще всего печалили его душу несогласия княжеской братии, требовал он пресекать зло в начале.
– А что, Василько, не посрамили мы его седин? Завещал он нам беречь братство Рюриковичей, предупреждал, что в противном случае все мы обратимся в убийц и земля Русская погибнет, варвары овладеют ею. Не так ли все и вышло, а?
– Нет, нет, государь! – возразил Василько поспешно, наверное, даже слишком поспешно, и тем выказал свое понимание того, что сам Юрий Всеволодович таил в исстрадавшемся сердце. – Нет, нет, отец, – повторил Василько уже без горячности. – Не верь наветам. Ты все правильно сделал.
Юрий Всеволодович глядел ему в глаза, испытывая острую печаль и вспоминая родных сыновей. Не сам ли он обрек их на гибель?.. А теперь вот и судьбы трех племянников в его руках. Может, еще не поздно отправить их куда-нибудь к Дышащему морю, где льды круглый год нетающие, куда и вороны не долетят, не то что узкоглазые степняки?
Казалось, Василько чутко уловил его потайные мысли:
– Не сомневайся больше ни в чем. Исполним завещанное без страха. Й в том будет наша правота.
– Думаю, схватка с Батыгой неминуча прямо нынче.
– Решил выйти навстречу? Неужто же? – встревоженно спросил Василько. Он видел, в какое потрясение и неистовство пришел Юрий Всеволодович, когда узнал о гибели Владимира, всех сыновей, жены и внуков. И сам Василько в горячности чуть было не сорвался со своею дружиной искать татар.
– Два месяца мы тут просидели в полном неведении, – продолжал великий князь, – а за одну ночь столько узнали, что сразу-то и не осмыслишь. Верить ли Бий-Кему, как думаешь?
– Нет, – без раздумья сказал Василько.
– Верить ли Глебу Рязанскому?
– Какая может быть вера братоубийце окаянному?
– А брату моему Святославу?
– А Дмитрию? – вопросом на вопрос ответил Василько. – Сомневаюсь в обоих. Бежали сюда без памяти, оба твердят, что надо уходить еще дальше. Они упали духом и к битве не готовы. Чего от них ждать, какого совета разумного?.. Может, на всякий случай немедля раздать оружие и дружинникам и ополченцам?
– На всякий случай? – повторил Юрий Всеволодович.
Василька не смутил испытующий взгляд:
– Сам знаешь, все может быть… А воин без орудия еще не воин. С оружием ратники крепче себя почувствуют, с духом соберутся. А то иные расслабли и уже не верят, что придется биться.
Юрий Всеволодович раздумывал. Намерение вооружить все воинство загодя и его не раз посещало, но каждый раз он отказывался от него. Дорого ратное орудие: меч стоит как пять коров, кольчуга идет в цену шести голов, а воин на коне обходится в целое рогатое стадо. Да и в обрез в стане мечей, щитов, луков, кольчуг.
– Что татары нас окружили, не самое главное, – сказал Василько. – Важно, сколько их и откуда движутся.
– Теперь я так понимаю, что сам хан Батый пришел в Углич, оттуда по льду Корожечной речки поднялся вверх до лесного поселка Кой, а там большие запасы сена всегда были. Я и сам собирался туда наведаться, да опоздал, видать. Темник хана Бурундай через Суздаль держит путь на Бежичи и Красный Холм.
– По нашим стопам, стало быть?
– Выходит, так. А потому Бурундая нам и следует ждать первого. Но есть у татар еще и третья дорога: от Ростова они могли пройти к Ярославлю и Костроме, а затем двинуться к верховьям Мологи.
– Как? Там же моя дружина стоит! Что же получается, отец? Бий-Кем нарочно наврал, будто все воинство татарское в Углич Поле собралось? Значит, мы со всех сторон должны их ожидать?
– Вот то-то… Чуешь, что замыслили?
– Обрезать нам все пути отхода?
– И подкрепления чтоб не подпустить. А без него силенок у нас не хватит.
– А ты все-таки питаешь мысль, что придет кто-нибудь?
– У тебя конная дружна сколько копий?
– Триста.
– Пеших ратников?
– Тысяча.
– Я придам тебе еще тысячу сицкарей.
– Ну их, каки это воины!
– Не горячись, Василько. Они родились с топорами в руках. Каждую берлогу медвежью, каждое логово волчье они знают, все потайные пути тропинки им ведомы.
– Все одно, зачем они мне? Я встану в Шеренском лесу, а там чащоба непролазная.
– Места надежные, но и удар там будет самый сильный. Татарам нужна моя голова, а еще больше нужно богатство Великого Новгорода. Шеренский лес как раз может стать на пути у них… Но больше тысячи сицкарей я тебе придать не могу. Весь клин, что при впадении Сити в Мологу, удерживать станут объединенные полки Жирослава Михайловича. А я с владимирцами останусь в челе. Брат Святослав при мне будет. Иди, готовь дружину к бою, Василько. Делай, как уговорились.
Угли в жаровне потухли, затянулись серой пленкой изгари и больше не грели. Потягивал сквозняк, вздымавший к дымовому отверстию хлопья попела и редкие искры.
Юрий Всеволодович достал из походной кожаной сумы доспехи. Глубокий шлем с круговым оплечьем – в нем еще отец ратоборствовал. Отцовская же кольчуга из тридцати тысяч колец – сколько раз пересчитывали эти кольца Юрий и его братья, потом его сыновья, пока малы еще были…
Были сыновья – гордость и надежда отца. И вот их больше нет.
Была жена, с которой создавал очаг семьи в любови и счастье. И вот нет ее.
Была богатая и сильная Отчизна, завещанная отцом и дедом. Больше нет и ее.
Ничего нет!..
Он достал из ножен тяжелый рыцарский меч с длинным перекрестием, с полуторной рукоятью, богато отделанной золотом и камнями, – тоже наследие отцово.
– Никого и ничего у меня нет, но мне есть за кого и за что мстить! – Он облачился в кольчугу, нацепил стальные наручи, примерил шлем – все впору, все пригнано, надежно. И сразу сам себя почувствовал ладным, готовым к битве.
И на Василька можно положиться, как на самого себя. Да только не на смерть ли верную и он идет в Шеренский лес?
Последний раз Юрий Всеволодович оглядел шатер. Вскинул голову – наверху, в круглом дымовом отверстии начало синеть предутреннее небо.
Наступил час самый страшный, знобящий час ожидания схватки, когда вскипает кровь от ненависти и неутоленной жажды мщения.
Все изменилось – тревога разлилась по стану, даже закуржавленные ветви деревьев казались напряженными и беспокойными. И ворон-вещун объявился, сидел, ссутулившись на березе, ждал поживы. Его сгоняли криком, он лишь тяжело перелетал на другое дерево и продолжал искоса смотреть на людей, словно выбирал себе жертву.
Юрий Всеволодович с ужасом обнаружил, что сообщение Дорожа застало его врасплох. Оружие, свезенное из разных городов, так и лежало на распряженных санях. Даже не везде разбросали ежей, заготовленных в кузнях кованых колючек, которые, как ни брось, лягут смертельным для лошади шипом вверх.
– Боялись, как бы самим на них не напороться, под снегом-то не видать, – оправдывался главный воевода Жирослав Михайлович.
Ополченцы, располагавшиеся поблизости от стана, начали разбирать мечи, копья, не отбрасывая и свои припасенные топоры и рогатины.
Дружинники – лучники и копейщики – занимали заранее обозначенные места под прикрытием снегового вала. Каждая десятка и каждая сотня знали свои места.
Юрий Всеволодович метался по стану, конь под ним уже стал всхрапывать и екать селезенкой, пришлось пересесть на другого, резвого коня.
– Ставить стяги! – велел великий князь тысяцким и сотникам.
– Конную дружину – в лесную засаду!
Как начали раздавать оружие, из землянок, наспех срубленных клетей, просто из-под елок вылез на свет люд пестрый и во множестве: остатки разгромленных татарами рязанских, муромских, даже булгарских и половецких войск, мирные утеклецы из дальних и ближних русских городов, а больше всего крестьян из северных и заволжских волостей. Когда в прежние времена собирал Юрий Всеволодович в поход ополченцев, обещал всем, кто останется живым, великие ослабы, нынче же ни у кого не были ни малой надежды на мзду и еще меньше надежды уцелеть. И даже не верилось: пришел на Сить с малой владимирской дружиной, а собралась превеликая сила, о какой и не мечтал и которая до утра не бросалась в глаза.
Полученному оружию радовались как дети, деловито пробовали на крепость ременные паворзени, которыми во время боя привязывают к руке шестоперы – кистени о шести перьях и клевцы – топорики с острым клювом для проламывания шеломов и лат. Примеряли и подгоняли по росту полученные доспехи: кому достался колонтарь из металлических пластин, скрепленных кольчужным плетением, кому – кожаные панцири – кояры, а кто должен был довольствоваться куяком – суконной рубахой, на которую нашиты металлические пластинки разной величины, какие под рукой оказались.
Верхоконные воины проверили подковы у лошадей, подогнали упряжь. Коней подседельных, поводных не всем хватило. Юрий Всеволодович велел раздать и товарных, что с обозами ходили, а также сумных, вьючных лошадей.
Повсюду слышались преувеличенно громкие голоса, храп растревоженных ранними сборами коней. Утренний воздух был пропитан запахами кострового дыма, конского пота, сыромятной кожи, дегтя.
И другие еще заботы торопливо исполнялись: сполоснуться в баньке, надеть чистое исподнее, для этого случая сбереженное, и бегом в часовню исповедаться да отпущение грехов получить и даже от епитимьи, за поступки противосовестные наложенной, избавиться молитвой разрешительной.
Старый кашевар Леонтий из одного котла разливал похлебку, а рядом уж второй костер разложил – заварил еще и кашицу, чтоб напитать народ перед боем поплотнее. Вокруг него грудилось все больше и больше людей – мало кто из-за пищи, просто на огонек пришли: поговорить да послушать, авось что новое известно о треклятой татарве.
– Можа, нынче уже и сложим кости, – вроде беспечно сказал Губорван, а сам глядел вопрошающе, с надеждой, что ему станут возражать, мол, такого никак и никогда не случится.
Но мраморщик холодно подтвердил:
– Беспременно так. Уйдем на ниву Божию.
– Полно мыслить-то! Делай, что велят, и все! – вмешался Леонтий. – Теперича мыслить ни к чему, себя только ослаблять. Поел побольше, подпоясался потуже и сполняй, что приказано, доле от тебя сейчас ничего не требуется. Теперича твое дело татаров поболе уложить и самому уцелеть.
– Хоть бы остатний разок жену повидать, – выдал себя Губорван.
Мраморщик помягчел:
– Что и говорить, неохота на тот свет уходить, не попрощавшись с женой да с сыночком.
Их слушали молча, сумрачно. Есть никто не хотел, жевали красный лук да чеснок, о своем думали. Каждый знал, что смертный, что он только странник на земле, но одно дело, если это когда-то еще случится, другое – если прямо нынче.
– Жизнь наша земная по законам небесным, Господним течет. Только Спасителю одному ведом предел наш, – сказал монашек, бесшумно подойдя к костру, и трижды перекрестился в ту сторону, где виднелась за бором часовня с крестом.
– Иди к нам, чернец, – позвал Леонтий, – расскажи что-нито, ты ведь ближе нашего к Богу.
– Не-е, я тут постою.
– Каши моей не хочешь? Иль ты и в лесу молишься, как во храме?
– Везде молюсь. И ты тоже, коли христианин, должен находиться в постоянном стремлении к молитвенному общению с Господом.
– Цельный день молиться? И больше ни о чем, кроме Бога, не помышлять? Рази можно так – обо всем остальном забыть?
– Отчего же нельзя? – насмешливо сказал Губорван. – Вон, глянь, Лугота наш… Цельный день о своей поповне думает, но и о делах не забывает.
Все оглянулись на сидевшего на корточках под елью Луготу. Сбросив овчинную рукавицу, он голой ладонью очищал лезо только что полученного меча, снег таял в его ладони, хотя ночной мороз еще не отпустил. Поднял светящееся лицо:
– У меня и лук есть. Со стрелами. Шестнадцать штук, и все переные.
Леонтий помолчал в раздумье, качнул головой:
– Молись, молись, монах. Молись за всех нас, грешных.
– А как же! Монахи в обители за весь мир болеют, не только о своей душе пекутся.
– А я, чай, и сам могу перекреститься! – задиристо бросил Губорван, подставляя Леонтию оловянную чашку. Получив свою долю каши, он торопливо осенился. – Вишь, монах, могу я и сам за себя попросить Господа, и, чай, понадежнее выйдет, чем тебе доверять.
Монашек покосился на Губорвана без осуждения и обиды, ответил терпеливо:
– Братия моя молится за весь мир, а мир не видит и не знает, как милостиво Господь принимает их молитвы.
– Отчего же не знает? – продолжал дерзить Губорван, облизывая ложку.
– Оттого, что за всех людей мы молимся. И за тех, которых уж на земле нет.
Задумчивая тишина настоялась у костра после этих слов монашка. Ее нарушил Леонтий:
– Кашки-то все же плеснуть тебе, а?
– Не-е, я уже вкушал.
– Это когда еще было? А впереди дельный день, и не знай, до еды ли будет. Просить станешь, скажешь: дай, Леонтий, хоть малость, хоть котел полизать.
– Не стану. Мы вкушаем единожды в день, – отвечал монашек необидчиво. – Притом пищу малоценную и не до сытости.
– Погоди, монах, о пище малоценной, – опять раздражился Губорван. – Что пользы в твоей молитве тем, кого уж нет? Для них все кончилось, и суду предстоят иному, не человеческому. Человеческий суд злой и неправедный, а нам предстоит милостивый, отеческий. Так чего тебе утруждаться-то?
– Тебя как звать? – кротко взглянул на него монашек.
Губорван запнулся, изменившись в лице.
– Н-ну, Мироном, – сказал грубо. – А что?
– Чтоб знать, как помянуть тебя, если что… в живых али в мертвых. Ведь некому, поди, помянуть-то?
Губорван опустил голову:
– Ты это… не забудь… Мирон, мол.
– Да не забуду, – примирительно оказал монашек. – Как забыть? Помолюсь о здравии твоем аль за упокой. Как придется. Ты не печалься и не бойся, Мирон. Землю мы все покидаем. Но не мир. Видимая глазами смерть разлучает душу от тела, а человек попадает после земного странствования в вечный мир духов.
Опять стало тихо. К монашествующим у людей отношение особенное. Жизнь монахов таинственна: души их будто и настежь распахнуты, а заглянешь – непостижимы для ума простого, житейского. Даже спросить о чем-то не решишься сразу-то: боязно обидеть иль душевно ранить грубостию своею.
– Э-э, глянь-ка, снежинки кружатся над костром, – задрал голову мраморщик и покосился на монашка с едва уловимым упреком в голосе. – И скажи ты, ведь не с земли на небо летят, а наоборот, на землю.
– Однако они как бы раздумывают либо в сумлении. – Леонтий тоже покосился на монашка.
– Охота ли в костер падать на гибель неминучую? – не смолчал и Оборван. – А может, это души человеческие, а? Что скажешь, монах? Возможно ли, что душа уйдет из тела, а потом как снежинка вернется на землю опять?
– Возможно, – уверенно подтвердил монашек.
– Ка-а-ак? – выдохнули единым вздохом все, сидевшие у костра.
– Святой Андрей, юродивый ради Христа, в течение целых двух седмиц пребывал в созерцании невидимого мира, а затем вернулся на землю. Вернулся и рассказал своему сотаиннику иерею Никифору о своем дивном видении. Рассказал, что видел себя в раю прекрасном и удивительном. Восхищаясь духом, размышлял: что это? Знал, что живет в Царьграде, а как очутился там, не может понять. Видел он себя облаченным в светлое одеяние, как бы сотканное из молний, венец был на голове его, сплетенный из великих цветов, и был он опоясан поясом царским. Радуясь этой красоте, дивясь умом и сердцем несказанному благолепию, он ходил и веселился. Там были многие сады с высокими деревьями, они колебались вершинами и ублажали зрение, от ветвей же исходило сладкое благоухание, сладкое и тонкое… Одни из деревьев непрестанно цвели. Другие были украшены златовидными листьями. Иные имели на себе различные плоды редкостной красоты и приятности. Невозможно те дерева уподобить никакому дереву земному, потому как Божья рука, а не человеческая насадила их. Птиц в этих садах было бесчисленное множество. Иные со златовидными крыльями, другие белые, как снег, а иные разнообразно изукрашенные. Они сидели на ветвях, и от пения их Андрей не помнил себя, так радовалось его сердце, казалось, гласы их достигают до самой высоты небес. Стояли те прекрасные сады рядами, как бы полк напротив полка. В то время когда Андрей ходил между ними в веселии сердца, увидел он реку великую, текущую посреди них и напояющую их. На другом берегу реки был виноградник, у которого листья украшены златыми листьями и златыми гроздьями. Дышали там со всех сторон ветры тихие и благоуханные. От их дыхания колебались сады и производили дивный шум листьями своими…
Бледное узкое лицо монашка порозовело то ли от близости костра, то ли от душевного воспламенения. Он говорил столь увлеченно и самозабвенно, что не заметил, как оказался в плотном кольце слушателей.
Кто-то сзади из-за темных кустов крикнул:
– Громче сказывай, нам не слыхать!
Монашек прокашлялся:
– Святой Андрей был восхищен не только в рай, но, как апостол Павел, даже и до третьего неба поднялся, превыше небесной тверди. И захотелось ему увидеть Госпожу Пресвятую Богородицу. Но только помыслил он об этом, некий муж светлый, как облако и носящий крест, сказал: «Не время! Должно тебе возвращаться, откуда пришел!» – и святой Андрей очутился снова на земле. Он был как бы без плоти, потому что не чувствовал ее. А еще он говорил иерею Никифору, что видел устроение горних обителей и жителей их бесплотных, чего не может представить себе человек, пригвожденный к земле, не обновленный и не воспитанный Духом Святым, а потому неспособный проникнуть в таинство будущего века.
Монашек обвел слушающих взглядом, в котором угадывался требовательный, взыскующий вопрос: веришь ли, что это истина?
– Значит, правда? – нарушил тишину громким вскриком молодой кашевар Бровач. Усовестившись своей горячности, попросил монашка: – Слышь, рассказать тебе про отца моего? Как умирал он? Мы думали, он умер, а хвать, не умер он вовсе… Отец у меня бортником был, древолазцем. Один раз сорвался, сучок под ним обломился. Бездыханным домой привезли. Уж мы и попа позвали, он отпевать начал, а отец-то и поднимается! Мы сами все так и обмерли!.. А он и спрашивает, серчая: чего это, мол, вы делаете со мной, пошто тут поп? Уж опосля, когда все успокоилось, он и сказывает, что пока он мертв был, несли его бесы, духи лукавые и приговаривали: наш он, наш! Ангел-хранитель, юнош светоносный, хотел отнять его у бесов, как отец мой благочестив и боголюбив был, да не успел. Раздались в это время с неба слова громогласные, такие же, как святой Андрей слыхал: не время! – тут же отец и сверзился с высоты небесной и оказался на лавке в нашей избе лежащим. Но только ведь мы все время были с ним, никуда он не отлучался! Значит, что же выходит: это одна лишь душа его возносилась?
– А муринов он там не встречал? Слышь, Бровач, муринов? – влез мраморщик, к неудовольствию других слушателей.
– Муринов, нет, не видал, токмо духов лукавых, сиречь бесов.
– А может, видал, да забыл? У нас в Еремкине баба одна утром померла, а к вечеру ожила, так сказывала, что у нее душа тоже с телом разлучалась, лица видала, каких никогда не видывала, глаголы слыхала, каких никогда не слыхивала. И много муринов, эфиопов с лицами темными, будто сажа али смола, а глаза стреляют, как уголья из костра каленые.
– Нет, отец ничего эдакого не видел, одни бесы толклись, хотели его в тартарары унесть.
– Но ты все-таки порасспроси его, может, вспомнит про муринов-то?
Бровач, уже не слушая надоедливого мраморщика, закончил приглушенным голосом:
– Летошний год батюшка мой вдругорядь расшибся, когда колодец рыли. Я ждал, опять вернется, но пришла его смерть уже окончательная.
– Успенье, – обронил монашек.
Бровач задумчиво помолчал и согласился:
– Ну да, это так, успение.
И все, сидевшие у костра, шевельнулись. Животворный дух веры каждому из них помогал облегчить истому трудного ожидания и неизвестности. Успение – это не смерть, а засыпание. Матерь Божия, умершая не добровольно, как Ее Сын, но по естеству Своей смертной человеческой природы, неотделимой от нашего падшего мира, не осталась во власти смерти, была восхищена Богом в Небесное Царство в полноте ее духовного и плотского бытия. С той поры и поныне каждый верующий слышит на всенощной слова Ее благодарения Богу:
– Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Бозе Спасе Моем.
Владыка Кирилл появился в праздничной нарядной епитрахили, низанной жемчугом по вишневому бархату. Воздев руки к небу, исторгнул из самого сердца:
– Осанна! Спаси и сохрани, Господи!
Подходивших под благословение оделял просфорами, кои прислал с Луготою поп из Городка Холопьего.
– Надлежит спрятать себя, – говорил владыка, – приготовить к смерти внезапной, ратной кончине. Да не оставит вас бодрость и мужество. Обиды друг другу простите немедля, грехи исповедуйте, – повторял, торопливо крестя воинов. – Сказано Господом: в чем застану, в том и сужу.
– Вдадыко, я в Григорьевском монастыре небрежением книгу исчернил, – признался Лугота. – Книгохранитель: кто, мол, это? А я смолчал. Он за меня руган был настоятелем премного.
– Небоязнью нынче на битве исправишь проступок свой, – чуть заметно улыбнувшись, сказал Кирилл. – А хранитель тебя, поди, уж давно простил. Думаешь, он не догадался тогда, кто это напроказил? Но ты ведь раскаялся, правда? – Он положил руку на голову Луготе. – Пощади, Боже, наследие Твое! Прегрешения наши все прости! Аще не имаши греха, аще и тьмами меч острится на тебя, но избавит тя Бог.
Иные молча истово крестились, иные молились громко, во весь голос взывая к небу:
– Избави нас видимых и невидимых враг!
– Скончав число настоящих мирских лет, позволено человеку отойти в обетованную землю живых, там все красно, благо, все добро, ничего нет супротивного, нет труда телесного или мысленного, но всегда и без конца тихий покой. С нами Бог, и Он призывает! – закончил епископ. – Уповаем на Попечительницу душ восходящих сраженных.
Лекарь тут же, на снегу, перебирал и укладывал в короб свои снадобья: длинные полосы из старых выношенных рубах, чтоб перевязывать раны, мешочки с порошком из сухой медуницы, чтоб засыпать их, яичное масло – кашицу из растертых и прокаленных желтков, чтоб мазать ожоги.
Губорван мрачно наблюдал за всем этим.
– Брови нависли, дума на мысли? – пошутил, проходя мимо, владыка. – Что хмуришься? Как звать-то тебя?
– Мироном, – удивленно помолчав, откликнулся тот.
– Ну-тка, Мирон, повторяй за мной!.. Ангел Божий, хранителю мой святый, данный мне от Господа с небеси для сохранения меня, прилежно молю тебя, ты меня сегодня просвети и от всякого зла сохрани, настави на добрые дела и на путь спасения направь. Аминь!
Мирон, исказив, как от боли, лицо, с трудом перекрестился.
– Рука будто пудовая, владыка. Не помню уж, когда крестное знамение на себя клал. – И добавил тихо, полуотвернувшись: – Из самых глубин грехов моих к Тебе, Господи, взываю.
Владыка благословил его:
– Молись всегда. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его. Знаешь?
– Знаю… Яко исчезает дым да исчезнут…
– Молись, – повторил епископ, отходя от него.
– А ты, Лугота, что унылый, по подобию моему? – обратился к юноше Мирон. – Не обижайся на злоязычие мое, что над Ульяницею твоей посмеивался, мол, она маленька да морглива. Это у меня самого сердце похотию было уязвлено, смолоду обуян ею. Простишь?
– Сон тяжкий мне привиделся, – сказал Лугота.
– Ну-ка?
– Будто сидит с нею некий дивный собою муж, и пьет она с ним, а он начинает играть с нею бесстыдно. Ульяница же, по ланите его игриво ударив, встала и, обняв его, в шею лобызать начала.
– Пустое! – убежденно воскликнул Губорван. – Пустой сон! Уж я-то во снах понимаю. Это пустой сон ты сбредил. Дух мрачен гони, а яростию ратной укрепляйся! Не до поросят свинье, когда самое палят.
– Уж скорей бы! – тоскливо оглянулся Лугота.
– Поспеем! Чай, не к обедне опаздываем!
– Да и то! Говорю одно, а думаю иное: хоть бы еще часок не начиналось!
– А мерина моего звали Катай, – скорбно сообщил Леонтий монашку. – Забыть его никак не могу. Собою сер, а грива налево с отметом.
– Мне великий князь Константин Всеволодович в восемнадцатом году икону заказал Богоматери для Успенского собора в Ярославле, – задумчиво говорил монашек о своем. – Не знаю, уцелела иль нет? Великая панагия называется. Цвета я взял одинаковы: золото и киноварь, серебро и киноварь, охра, белый, – все цвета величия. А синий и зеленый – символы смирения – покрыл я золотыми проблесками, умалил их обширностию алых оттенков. Даже епископу Симону тогда понравилось. И в том же году написал я еще Оранту Ярославскую в память победы на Липице.
– Так ты такой же старый, как я? – поразился Леонтий.
– А ты думал, младень? – посмеялся монашек. – При каше скорее старишься. А когда постишься много, время медленно идет. Ну, что, Леонтий?.. Зрю меч и Небу себя поручаю. Чаю смерть и бессмертие помышляю? Так ли? Храни тебя Господь!
– И тебя тоже, – вмале прослезился Леонтий. – Люди-то кругом как и хороши кажутся перед смертью. Как мы могли злобиться и взыскивать друг на друге? Ты скажи, отчего монахи светлы и не вздорны?
– А мы о смерти кажин день помышляем. Ну, брат, не страшись. Может, еще уцелеем?
Обнялись.
Оружие все еще продолжали раздавать с возов: бронь, сулицы, ножи – засапожники пятивершковые, рогатины. Знаменосцы разбирали стяги и знамена, трубачи – сурны, рога и трубы.
Ратники еще и еще затачивали наконечники стрел и копий, десятники выдавали железные булавы и кистени, бляхами утяжеленные, литые булавы с шипами, а ино булавы – шестоперы.
Святослав с сыном надели шлемы с личинами – железными забралами, для защиты щек и затылка к шлемам прикрепили, помогая друг другу, кольчужные сетки, застегнутые пряжками у шеи.
– Митрий, у тебя подковы ледоходные?
– Так, батюшка.
Был Дмитрий все утро замкнут и сумрачен.
Святослав жалел его: не отдохнувши, сразу опять в бой.
– Шпоры-то шипастые надел? – заботился как отец.
– Да, тяжелые. – Дмитрий был краток и не разговорчив.
– Нож у тебя есть?
– Наваренный. Хороший.
– Митя, а что ж ты не сказал дяде, как сын-то его младший погиб? – несмело напомнил Святослав.
– А зачем? Ему легше, что ль, станет? Живы будем, после битвы скажу.
– Помолиться бы о нем. Сорока-то ден нет еще?
– Кто остался жив после пожара, тот помолится обо всех.
– А остался ли кто?
– Откуль мне знать! – равнодушно ответил Дмитрий.
Досада распирала его, но приходилось это скрывать.
Так получилось, не хватило времени с батюшкой сговориться, чтоб утечь отсюда подалее. Теперь лишь бы уцелеть и в плен не попасть. Эта мысль только и занимала. Он ее не высказывал, но про себя знал: всю хитрость приложу, чтоб из боя невредиму вырваться. Неуж мое сильное, хотя и усталое тело того достойно, чтоб вран его расклевал, как труп молодого Владимира? Никогда не забыть, как татары, хекая, его на куски разрубали.