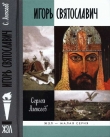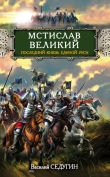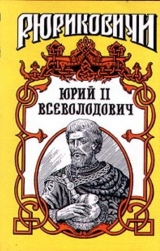
Текст книги "Юрий II Всеволодович"
Автор книги: Ольга Гладышева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Как не считал себя Дмитрий предателем, убегая из осажденного города, так теперь он не ощущал себя трусом: просто непреодолимо велико было его отвращение к смерти, к тому безобразному, стылому, бесчувственному, что остается после нее. Быль, как смола, а небыль, как вода. Но кто разберется в были и небыли после той битвы, какая сегодня начнется? Все смешается, переплетется, и некому будет расплетать.
Что дело плохо кончится, Дмитрий был уверен до глубины души. Раздражало, что отец не понимает сей неотвратимости, заботится о шпорах, о подковах. Будто это спасти может!
«Прощай, батюшка, вряд ли еще свидимся», – мысленно сказал Дмитрий, улыбкой отвечая на ободряющую улыбку отца.
– Мечи голы брать! – велели сотники.
И десятники подхватывали:
– Мечи наги!
Мечники молча выхватывали оружие, бросали ножны наземь: больше не понадобятся – иль убиту быть, иль победить! – тогда и меч заново точить, и ножны ему ладить.
Кажется, единственный человек, который незаметно наблюдал за Дмитрием и понимал его состояние, был епископ Кирилл. Не мужская та душа, ежели расслаблена бывает печальными сиими напастями, думал он. Пожалуй, еще опять уцелеет, пожалуй, еще и схиму примет, но знал бы, на какие муки совести тайные себя обречет! Вот и говори, что воля человеческая с умыслом Божиим борется. Она, конечно, борется часто, только всегда к невыгоде человеческой.
Воины все продолжали подходить под благословение. Кладя на них крестные знамения, Кирилл говорил им словами Христа, усиливая свой и без того звонкий голос, чтоб слышно было всем:
– Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую Я дам ему, соделается в нем источником, текущим в жизнь вечную.
Он обнимал глазами в последний раз леса в осыпающихся снегах, предутреннее небо, лица людей в выстраивающихся рядах и думал, почему на его веку самые кровавые битвы происходили на реках: Липица, Калка, теперь вот Сить?.. Не каждая ли речка, ручей, всякая вода текущая суть сила живая, съединение могутства земного и небесного? Земля рождает, ложе в себе дает, небо питает, одухотворяет, как отец и мать единствуют в своем дитяти.
Кони все вдруг взоржали. Их тревожный и жалобный глас полился по рядам, по полкам.
– Не меня ль приветствуют? – пошутил Жирослав Михайлович, выезжая рядом с великим князем на караковом нарядном жеребце. Станом жеребец был вороной, а пахи и ноги с гнедым просветом.
Сразу же к ним бросился лекарь:
– Боярину ростовскому от застарелых кровоточных причин на лошади сидеть немочно.
– Это который вчера у Василька пьянствовал? – глянул искоса и насмешливо Юрий Всеволодович. – А брашно обильное, меды крепкие ему не во вред?
– Князь, до тебя дружинник один добивается с самого вечера, – перебил воевода.
– Кто таков?
– Иван Спячей зовут. Коломенский. Слово хочет сказать заветное.
– Про что слово? – рассеянно переспросил Юрий Всеволодович, оглядывая гудящий, весь в движении стан. Ведь вчера лишь сидели, укрывшись, мерзлы, недвижны! Сейчас же стройно и деловито каждый к своему месту гнездится. В лицах – решимость и незаметно смятения.
– Слово про Коломну и Владимир, – гудел возле уха воевода.
– После. Я уже все знаю.
– Когда после-то? – с досадой брякнул Жирослав Михайлович.
– После битвы скажет.
– Н-ну… если жив будет, то скажет, – согласился воевода.
– Как наш Дорофей Федорович?
– Дорож-то? Лежит, в однодышку дышит, – с горькой надсадой сказал Жирослав.
– Отправить бы его в Городок иль в Рыбаньск.
– Как я его отправлю? Он же сказал, татаре всюду!
Подъехал князь Святослав с бледным, воротящим лицо Дмитрием, открыл было рот что-то сказать, но, словно догадавшись, о чем он хочет говорить, Юрий Всеволодович опередил его, прошептал ему на ухо угрожающе:
– Если побежишь, как тогда, на Липице, я тебя собственноручно придушу, хоть ты и брат мне, а я не Глеб Рязанский.
Отец с сыном молча, оскорбленно поворотили коней.
Больше всего тревожило Юрия Всеволодовича то, что не вернулись лазутчики воеводы Дорожа. Дорофей Федорович и сам беспокоился безмерно, но подняться у него не было сил.
Жирослав Михайлович полез на сторожевую вышку, сооруженную на высоченной сосне и невидимую в густой кроне, долго молча всматривался в даль, наконец сообщил вниз с облегчением:
– Слава Тебе, Господи, идут! – И тут же голос его стал тревожным: – И татарове, никак, за ними? Верно!.. Догоняют! Но не застали врасплох наших ратничков… Разворачиваются… Счас…
Юрий Всеволодович, хоть и был чреват, по лестнице взобрался проворно и безнатужно. Глянул сверху на стан – словно разворошенный муравейник. Копошатся, двигаются друг за другом и навстречу друг другу без всякого видимого смысла и порядка. Однако прямо на глазах образуются ровные и слегка колышущиеся квадраты – десятки, сотни. Живых квадратов все больше, они сгущаются, становятся все чернее и все подвижнее. Вдоль реки перед полками носятся всадники.
– Княже, туда погляди! – позвал воевода.
За Ситью, в трех-четырех поприщах между редко разбросанных берез шла конная рубка. Всадники кружились, увертывались от ударов, подставляли щиты. Разобраться, где свои, где чужие, невозможно, только просверки мечей над головами да разноцветные гривы вскидывающихся в испуге на дыбки коней. Потерявшие всадников лошади отбегали в сторону от опасной сечи, трясли головами.
Снежное поле все гуще пятнали тела побитых, бугорки потерянных щитов и шеломов.
– Ур-р-ра-гах! – донесся чуждый гул.
Черная лавина покатилась к Сити.
Юрий Всеволодович прикинул: татары смяли русских. Но это конечно же лишь малая часть сторожевого полка Дорожа.
Поняли это и занимавшие передние ряды владимирские лучники.
Пождав, пока татарская конница приблизилась на один перелет, пустили тучу стрел.
Татары сразу же развернулись и, оставив на берегу нескольких убитых, ускакали.
– Как мы их! – радовался, сияя всем юным конопатым лицом, Лугота.
Вышли из своего шатра Константиновичи.
– Ну, что, за наших детей, братья? – негромко сказал Василько.
– Прости, что вчера речи против твоего смысла говорил, – повинился младший Владимир.
– Прощай? – коротко взглянул старший.
Еще раз все трое посмотрели друг на друга, вскинулись в седла.
Лошади задирали головы, повинуясь всадникам, послушно устанавливались в ряды.
Выдвинулся перед ними великий князь. Челом суров, очи набрякли темными окружьями в морщинах. Шелом держал в руке, волосы слабо шевелил утренний ветер. Посмотрел продолжительно.
– Погибнуть аль живу быти? Но – победить! Лучше живу быти. С Богом! – И надел шелом, сразу засиявший изо всех.
Многие поспешно еще раз перекрестились. Иные шевелили губами, творя молитву.
– Ставьте стяги! – негромко велел Юрий Всеволодович.
Это означало строиться всем конникам и пешцам. Это означало готовиться к бою.
Сразу же завыли рога и трубы.
Меднорудые кроны сосен, пронизанные утренним светом, отливали то голубизной неба, то золотом восходящего солнца. Разгоревшаяся заря окатила розовым светом снега. Само солнце поднималось над бором багровое, воспаленное.
– Зарево! Пожар!
– Ништо! Заря столь жаркая.
– Не там! На закатную сторону погляди, куда светило западает!
Юрий Всеволодович оглянулся. Далекое зарево огня сгустило утреннюю дымку. Верхушки ближних деревьев пропали из виду.
– Никак, Езьск горит?
– Нет, подальше. Рыбаньск, должно.
Кроваво-красный всполох пучился, вздымался над мертвенно-немыми рекой и лесом.
Наконец огненный пузырь прорвался черными вихрями сразу в трех местах.
– Бежичи горят!
– И Городок!
– И Езьск пылает, братцы!
– Надо бечь на помощь, огонь гасить!
– Татаре, что ли, пожар-то вздули?
– Они, они! Везде – они! Все четыре погоста запалили. Вот-вот сюда будут.
– Охолонь! Не нагоняй страху. От погостов до нас десять поприщ. Успеем изготовиться!
Со стороны горящих погостов двигалось живое месиво из людей и лошадей. Шум, скрип, отдельные выкрики, но ни слова нельзя было разобрать…
Но вот долетело отчаянное:
– Татаре! Татаре!
Значит, верно, что это они пожар вздули. Не хотелось верить, что и в окрестных городках оказались татары. Именно в ту сторону Юрий Всеволодович намечал отход в случае поражения, именно для этого велел вырубить широкую просеку в лесу. А теперь ею воспользуются татары. И как они смогли все прознать, как успели обогнуть огромный лес и выйти с тыла? Они пока еще далеко, можно развернуть часть полков в их сторону…
Но нет! Даже если бы удалось вовремя оценить опасность, если бы удалось призвать всех князей, и не только Северо-Восточной Руси, но и Южной – того же Михаила Черниговского, можно было бы нанести больший урон пришельцам, но отбросить их не удалось бы все равно. Это смерч! Что им русские деревянные крепости, что им рвы и частоколы, если они прошли изгоном по Китаю, Средней Азии, Ирану, Кавказу, если перед ними не устояли и каменные, до их прихода казавшиеся неприступными крепости.
– Маячь! Ставить стяги! Уряжать полки! – понеслось тем временем от главного воеводы к тысяцким, сотским, десятским – по всей цепи и в глубь воинства. – Ставить стяги!
Жерди и слеги с воинскими хоругвями вздымались за линией рвов перед стеной соснового бора. Приглушенный шум голосов, переступ конских копыт, звяк мечей и щитов, беготня, окрики тысяцких и сотников. Опытных воинов прохватывал внутренний холодок, каждому уже метилась кровавая сеча.
– Ну, что, ратнички, потрудимся? – взывал Жирослав Михайлович, объезжая строй.
– Потрудимся, как Бог есть!
– Готовьтесь, ратнички, труд предстоит славный!
Это уж так: труд для русичей и подвиг ратный, и все, что с работой или ратью связано – заботы и страдания, печаль и горе, боль от ран и язв, недуги и болезни – все-все труд, все, что трудно.
Юрий Всеволодович вместе с главным воеводой объехал всех тысяцких и сотских военачальников. Все на местах, все готовы к битве, один взрачнее и дюжее другого, в полном порядке воинского убранства.
Много ратников бывалых, не раз ходивших с великим князем в походы. Только прежние рати не такими были: победа давала добычу – оружие, дорогие доспехи, пленников-рабов. Уж так велось испокон века повсюду: война – грабительство. А сейчас, даже в случае победы, не будет никакой поживы – ни добра, ни рабов, ни красных женок. Да и татары, надо думать, не рассчитывают на добычу, как рассчитывали, когда брали города, и они пришли в глухую лесную сторону на смерть или на одну лишь славу.
Жирослав Михайлович сразу же распорядился выслать по всей линии обороны – от погоста Бежичи до устья Сити – мелкие отряды лазутчиков. А к оставшимся в живых людям Дорожа выслал подкрепление.
Юрий Всеволодович одобрил это скорое решение и порадовался, что не ошибся в своем главном воеводе. Грузен, не молод, с одутловатым лицом, но стати не утратил. Выше всех ростом, латы облегают его плотно, выглядел Жирослав Михайлович будто бочка, однако подвижности его и сноровке и молодые позавидуют. Ни на кого не подымал начальственного голоса, но замечал все главные упущения и указывал на них строго, взыскивал беспощадно. Помощники и гонцы были у него понятливые и расторопные.
– Подлинно стратег! – похвалил его Юрий Всеволодович.
Не обманул надежд и главный боярин Василька Жидислав, худощавый и подтянутый, что тетива жильная. Он сумел быстро и справедливо, не вызвав ни у кого ни ропота, ни нареканий, раздать пешим ратникам оружие и броню, определить каждому свое место.
Старый дружинник Якум с красным от мороза лицом и черной с редкими серебряными нитями бородой находился при великом князе безотлучно, все распоряжения понимал с полуслова. Еще только собрался Юрий Всеволодович верхоконных дружинников предупредить, чтоб не вздумали гнаться за татарами, а Якум уж вскочил на снежный взлобок берега, перекрыл горячим головам путь:
– Они заманят вас туда, где у них главные силы. Или не слышали про их коварство?
Глеб Рязанский, невыспавшийся и похмельный, ходил хвостом за великим князем и канючил:
– Вели, Гюрги, дать мне меч! Не с укладным же ножиком мне драться?
– Будешь при мне толмачом. Ужо возьмем пленных, станешь их пытать.
Глеб в ответ взглянул вдруг остро и трезво, но смолчал.
Кашевары – старый Леонтий и молодой Бровач – тоже взялись за оружие, хотя Жирослав Михайлович и попенял им, что присмотр за котлами и варевом бросили.
Святослав не находил себе места, забыв обиду, все допытывался у брата, где ему быть да кем предводительствовать. Глядя на своего князя, и слуга его Проня чувствовал себя лишним.
Братаничи, все трое, во главе со старшим Василько и своими боярами быстро заняли отведенное им и их ратникам расположение в междуречье Сити и Мологи, там, где истоки обеих рек близко сходились к поросшему лесом взгорью.
Солнце только-только поднялось над еловым перелеском, как уж все полки заняли назначенные им места обороны.
Юрий Всеволодович на своем вороном Ветре начал смотр воинства.
На левом крыле стояли служилые люди, собранные из разных мест, но все обученные военному делу и почти все имевшие на себе бронь – проволочные кольчуги, пластинчатые латы или хоть самодельные из луба, обтянутого кожей, все это броненосное воинство – железные полки латников находилось под началом Жирослава Михайловича.
В середине располагалась пятитысячная пешая рать – простые вои, а за ней с боков – ударный верхоконный полк владимирцев.
Всю правую сторону прикрывали пешие и конные ратники братаничей – засадный, или затыльный, полк.
Замысел построения был такой: большой полк – чело, или перед, – это воеводы и два крыла, полки правой и левой руки, это княжеские дружины, а еще сторожевой полк, дающий знать главному о месте нахождения и передвижениях неприятеля. Запасная стража из лучших дружин называлась стена, а построение широкой стороной к противнику называлось пяток еще во времена похода Игоря Северского. Пяток очень любили применять новгородцы. Его крылья – княжеские дружины на конях, основание – копейщики, по бокам – лучники.
Все это Юрий Всеволодович хорошо знал, но знал также, что победу всегда решает численное превосходство, сила, мужество и умение владеть оружием. Не раз применял он эти военные правила: заманивание противника, обход, охват, окружение и – свежий полк из засады добивает. Все!
Но такого противника у великого князя еще не бывало.
За ночь все обметал пушистый ивень: стяги, копья, лошадиную сбрую.
– К теплу! – говорили вои.
– Знаменщикам развернуть знамена! – раздалось приказание полкам.
Утреннее солнце слепило зрение. Игольчатым строем воздвиглись пики, и тени их отразились на снегу. Другая, живая тень от дыхания множества людей и коней бежала по голубым сугробам.
Великий князь сощурил глаза:
– Твердость, выносливость, суровость – вы этим обладаете, – сказал он. – Отдайте же все это лучшее на последний подвиг ратной жизни. Укрепитесь храбростию и мужеством во имя отечества. С нами Бог и Пресвятая Богородица!
Вместе со служилыми воинами в строю находились городские и сельские ополченцы, которых наскоро научили уже здесь, в стане, стрелять из луков, рубить мечами прибрежный тальник, метать сулицы. Однако вид ополченцы имели прискорбный. Одеты по-разному, смотря по достатку: одни в заплатанных полушубках, другие в медвежьих или волчьих шкурах, но у всех одинаковое вооружение – рогатины, топоры, пики из суковатых жердей и луки, согнутые во время стояния и ожидания врага.
– Не на всех мечей хватило, – оправдывал вчерашних лыкодеров, бортников, смолокуров, земледельцев Жирослав. – А кому достался меч, тот не знает, что делать с ним до рати: то ли из рук не выпускать, то ли на плече носить. Лучше уж пусть с привычными рогатинами и лесными топорами воюют.
Юрий Всеволодович ничего на это не сказал. Да и что скажешь! Люди добровольно пришли к нему защищать свою родную землю и будут делать это, как умеют. А чтобы не оказались они при встрече с врагом уж очень беспомощными, прикрепили к ним опытных, бывалых ратников – лучников и копейщиков.
Бой начинают лучники – застрельный полк, а потом сражаются копейщики и мечники.
– Взять ножи засапожные, – наставлял ополченцев боярин Жидислав. – Бить сначала коня в шею али в глаз, потом татарина упавшего в спину, в подкрыльца. Это когда в рукопашную пойдем.
Конную дружину Василько отвел в засаду, а впереди ощетинилась копьями тысячная пешая рать. Все загодя надежно окопались, у каждого – красный щит, заостренный книзу, чтобы легче устанавливать его на земле или на снегу, все, как один, в металлических шлемах, в кольчатой или пластинчатой броне.
Проезжая вдоль строя, Юрий Всеволодович с облегчением отметил спокойствие и уверенность на обращенных к нему лицах ростовских воинов. Василько уже воздвиг на высоком шесте свой полковой стяг. Покачивались на ветру и стяги его братьев: на одном – лук к земле рогами, на другом – лук стоймя.
– Кня-азь? – позвал вкрадчивый голос.
Юрий Всеволодович оглянулся. Перед ним, покачиваясь, стоял полупьяный еще с ночи Бий-Кем.
– Я тебе не все сказал. Не хотел огорчать щедрого уруса. Мы за февраль попленили четырнадцать городов. Запоминай! – Широкая улыбка раздвинула опачканный засохлой блевотиной рот толмача. – Четырнадцать городов, кроме слобод и погостов: Ростов, Ярославль, Переяславль, Юрьев, Дмитров, Волок, Тверь, Торжок, Городец на Волге и Галич близ Костромы…
Юрий Всеволодович выхватил меч и яростным замахом снес смеющуюся всклокоченную голову в смоляных волосах.
Все близстоящие охнули общим радостно-злым стоном. Впервые на их глазах убили татарина. Вот он дымящийся, изливающийся кровью обрубок.
Начали?
Лучники взяли луки и наложили стрелы.
Конники двинулись втай, однако быстро разогнались, перескочили снежную загороду и вырвались на ровное место уже на рысях, ощетинившись копьями.
Татары стояли вдалеке плотно сбитыми кучами. Косматые лошадки поматывали головами, встряхивали гривами.
Беззвучным настилом, как по воздуху, летели русские отряды. Уже различимы сделались остроконечные шапки неподвижных врагов.
На ровном дыхании несли кони русских ратников.
Запрыгали на месте, вскидывая задами, коротконогие монгольские коняшки.
И вдруг разрезал утро дикий гортанный крик:
– И-и-и-а, ур-ур-ур…
И пошла, потлела тьмущая тьма навстречу.
Каждый из русских уже выбирал, намечал свою жертву, напрягая в руке копье, целил острие в узкий глаз, в разодранный воплем рот.
Лучники выпустили тучи поющих, повизгивающих стрел…
Глава восьмая. Битва
– Словно бы новый лес вырос там, куда ускакали потрепанные лучниками татары: длинная, так что и глазом ее враз не охватишь, черная волна катилась на Сить. Сколько же их? Тумен? Два? Три?
– Никак не меньше двадцати тысяч, – проронил Якум так, словно не в первый раз довелось ему видеть такое число конников, собранных в один строй.
Спокойствие его никого не обмануло. Ворохнулись в своих укрытиях лучники, закачались над головами копейщиков хищно поблескивающие на солнце отточенные железные наконечники, заколыхались стяги. Юрию Всеволодовичу показалось, что пешее воинство его готово дрогнуть и пуститься в бега.
– Ты скажи, валом валят! – дрожащим голосом пожаловался Губорван.
– Ниче… Они не знают про наши засеки, – сказал мраморщик.
– Да, да, засеки! – воскликнул обрадованно Губорван, и слово это спасительное покатилось по рядам.
Засеками, на которые ратники так надеялись, были скрытые под снегом бревна, елки, пни с сухими корнями, наваленные в беспорядке и непроходимые для конницы. Тянулись засеки не сплошной полосой, но прерывались там, где были болотистые подлески, по которым пройти можно лишь потайными тропками, а ступи рядом – уйдешь по уши в болотную пучину, не замерзающую и в январе.
– Счас, счас!
– Гляди, гляди, подходят…
Цепь всадников, не снижая скачи, вдруг разорвалась в нескольких местах. Наиболее ярые кони выскочили далеко вперед, и ни один всадник не упал, ни одна лошадь не споткнулась. Ликование защитников сменилось унынием и недоумением.
– Как же это?
– Неужели загодя проведали?
– Пусть проведали, но как по трясине-то проскочили?
– Заколодело, знать… Морозы-то стояли куда как хваткие.
– А они все пронюхали.
– Все они знают! И кто им сказал?
Юрий Всеволодович проскакал верхом вдоль рядов лучников, придержал коня возле своего багрового стяга с ликом Спасителя, крикнул срывающимся на морозе голосом:
– Маячьте!
Вестовщики, поднявшись во весь рост, стали передавать по цепи условные знаки движениями рук над головой.
Сразу же затрубили полковые карнаи, и звериный рык воинских труб покатился вправо и влево от великокняжеской ставки.
Услышали его, как видно, и татары. Их несокрушимый строй будто на стену наткнулся. Упал с седла один всадник, второй, третий…
В стане русских опять поднялось ликование:
– Не терпят нашей мусики!
– Шибче дудите, нетрог их, сыпятся!
А татарские всадники, и впрямь, сыпались на снег. Кони, хромая и припадая, разворачивались боком. Иные ложились. Шедшие следом спотыкались о них. Образовалась свалка.
– Что это с ними происходит? – недоумевал Юрий Всеволодович.
Другие военачальники тоже не понимали, в чем дело.
Первым сообразил Якум:
– Княже, да это же наши шипы – невидимки там… Ты же сам велел их выковать. А татары, похоже, не все знают – напоролись на них, вот и сыпятся.
Юрий Всеволодович тоже вспомнил, что в самом начале стояния на Сити, еще по малоснежью наказывал насыпать по берегу реки этих смертельных для лошадей трехконечных шипов, которые, как их ни брось, все одним острием обращены кверху. Насыпали, да не везде. Теперь запоздало сетовали:
– Эх, надо было весь берег усеять!
Татары потеряли не меньше двух сотен коней. Ряды их снова сомкнулись и продолжали по-прежнему катиться вперед с устрашающим гулом и топотом.
Но еще одна неожиданность подстерегала их.
Сить закована была в прочную ледяную броню. Но не случайно река получила такое название: издревле на Руси ситью называли и камыш, и тростник, и осоку, а там, где росли они, особенно в заливах на мелководье, лед рыхлый, непрочный. Каждый малец в здешних местах знает, что выходить на лед надо подальше от камыша.
А татары, и верно, не все знали.
Опять падения лошадей, раздосадованные крики, всхрапывание и ржанье, – видно, кони ноги поломали. Еще несколько десятков всадников выпало из строя. Опять детское ликование в стане русских.
Татары грозили им маленькими темными кулаками, собирали слетевшие шапки, прирезывали дергающихся лошадей, стаскивали с них седла и колчаны, еще полные стрел.
Но на этом случайные удачи для русских закончились. Татары сбились было на рысь, но, перестроившись, снова пошли во весь опор.
На скаку они выпустили несметное число стрел, от которых, казалось, и солнце померкло. Они мчались с ревом, подняв над головами мечи, мчались, презирая страх и чужую силу.
Юрий Всеволодович от своей ставки видел, что в то время, как головные сотни всадников достигли реки, замыкающие тысячи шли еще где-то там, за небоземом, и несть им преград!
У него не было строго продуманного замысла встречного боя. Да его и не могло быть без ясного знания соотношения сил. А те сведения, которыми он располагал, заставляли решительно отказаться от намерения вести единоборство в открытом поле.
Имея за плечами богатый и разнообразный ратный опыт, Юрий Всеволодович сейчас чувствовал себя так, как перед первым в своей жизни боевым походом – все внове, много непонятного, пугающего, непредсказуемого.
Еще со времен князя Святослава Киевского, сына Игоря и Ольги, до основания разорившего хазарское гнездовье триста лет назад, русские привыкли начинать войну, предупреждая противника: «Иду на вы!» После этого враждующие полки сходились в условленном месте в условленное время.
Татары же не только никого не предупредили, но лазутчика заслали Бий-Кема, чтоб он наврал и нагородил с три короба, дабы русских в заблуждение ввести и бдительность их усыпить.
Всякая схватка – со своими ли, с датчанами или немцами, с половцами или мордвой – начиналась обыкновенно с единоборства двух богатырей, после чего уж вступали в бой главные силы, которые бывали примерно равны.
Татары с равными себе в драку ни в коем случае не ввязывались, им нужно хотя бы двойное превосходство, а теперь стало ясно, что пришло их на Сить даже больше, чем можно было ожидать в этой непролазной глухомани.
Путь отступления через просеку к погостам перекрыт, за спиной дремучий лес, сквозь который коннице не пройти. Попытаться прорваться сквозь татарскую конницу к Волге – тоже верная гибель.
Оставалось только одно: вытянуться во всю длину укреплений и стоять спиной друг к другу, чтобы вести круговую оборону. А это как раз и претило больше всего: и сам Юрий Всеволодович, и соратники его привыкли вести только наступательную войну.
Также смущало и беспокоило уверение Глеба Рязанского, что татары не любят, когда противник собирает все силы вместе, стараются раздробить их на несколько частей, а потом порознь уничтожить. Теперь Юрий Всеволодович понял, что это правда, но оказалось, поздно: все воинство уже растянулось вдоль Сити от истока до устья. А надо бы ставить заслоны по глубине – один за другим в лесу и на болотах. Такое расположение было бы устойчивее и обладало бы большей ударной силой.
Великий князь досадовал на себя, но теперь приходилось надеяться лишь на то, что пехота должна приковать татар к местам, им неизвестным и невыгодным, а верхоконные дружины попытаются нанести разящие удары из засады.
Полагая, что татарские военачальники захотят взять в плен или уничтожить прежде всего его самого, Юрий Всеволодович надежно укрепил свою ставку, считая, что тут татарские всадники завязнут в рукопашной сшибке с пешцами, после чего конные полки Жирослава Михайловича будут бить их по левому крылу, а с правой стороны, обходя перелески и дубравы, незаметно подкрадутся дружины Василька и его братьев.
Казавшимся безупречными расчетам не суждено было сбыться. Татарская конница шла сплошной лавой по всей линии обороны.
Это было невиданно огромное воинство!
Главное же, у татар все было обдумано и испробовано заранее, а русским пришлось поступать наобум.
Первые сотни татар схлестнулись с укрывшимися за высокими щитами лучниками и копейщиками.
Голова неприятельского войска сразу же перестала продвигаться вперед, увязнув в рукопашной.
Сить в этом месте делала резкий изгиб. Не сумев прорваться через защиту, татарские всадники разделились надвое и стали охватывать излучину реки.
Левое их крыло накрыло то место, где находилась ставка великого князя.
Вот здесь-то как раз и были самые надежные укрепления.
Крыло переломилось. Всадники пошли вразброд.
Юрий Всеволодович дал знак стоявшей в засаде дружине, которая могла теперь воспользоваться временным превосходством в силе и окончательно расчленить крыло.
Рубка закипела с еще большим ожесточением.
Татары не ждали столь решительного нападения, прижались к сосновому бору, пытаясь остановить русских стрелами.
Дружинники на своих неутомленных конях, действуя кто мечом, кто копьем, уничтожили весь обособившийся отряд противника поголовно.
Справа же, за горбом водораздела, татары вклинились беспрепятственно.
Где же там Жирослав? Отчего медлит?
Тут примчался верхоконный гонец:
– Татаре по Мологе идут!
– Много их?
– Ой, князь! Словом не сказать! Главный воевода подмоги просит.
Поверить было невозможно, что враг такой же лавой, как здесь, смог обрушиться и на полки Жирослава Михайловича. Ведь раз идут по Мологе и требуется подмога, значит, не выдержал удара главный воевода? И значит, татары могут зайти теперь уже и с тыла?
А от Василька и гонца нет…
Погосты пылали с прежней силой. Только языки огня в черных сгустках дыма при свете солнца сделались не столь ярки, даже белесы.
Татар, похоже, вовсе не смутило неожиданное поражение в скоротечной рукопашной схватке. Словно не замечая понесенных потерь, оставляя раненых мучиться в предсмертных корчах, они обходили горб водораздела. Стало очевидно, что они хотят взять в кольцо ставку великого князя, чей алый стяг помогал им не уклониться в сторону в непривычном для них лесу.
Пешие лучники и копейщики, сохраняя боевой порядок, спокойно ждали врага – непрерывная цепь красных щитов и частокол взятых вверх железных копий.
Татары словно почувствовали, сколь неприступен отвердевший строй перед ними, перешли на рысь. Наверное, и им было страшно, потому что они, как споткнулись – с рыси перешли на уторопленный шаг, а потом и вовсе остановились, будто в раздумье. Ждали, не выскочат ли к ним конные дружинники, с которыми рубиться привычнее, не то что с зарывшимися в снег и закрывшимися длинными щитами отчаянными пешцами.
Юрий Всеволодович наблюдал за происходящим, сидя верхом на Ветре и в окружении трех мечников.
Одна стрела просвистела над его головой. Вторая обожгла ухо и за спиной вонзилась в ствол сосны, дрожа с тонким позвоном. От этого позвона засосало в животе, зноб прошелся по телу, вздыбил на затылке волосы.
Вот оно!
После краткого колебания татары под гул медных труб и удары бубнов снова двинулись вперед, выставив перед собой пики.
Русские ряды тоже шевельнулись. Но никто не побежал. Наоборот, многие смельчаки поднялись с луками и щитами.
Якум, вернувшийся с дружинниками после первой рукопашной рубки, соскочил с лошади, голосом и движениями рук заставил ее повалиться боком на снег. Послушная и обученная лошадь лежала, будто уснувшая.
Укрывшись за ней, Якум расчехлил лук, опробовал зазвеневшую тетиву.
Якум наложил и выпустил первую стрелу.
Она вспорола морозный воздух и канула где-то в строю татар.
После этого стрелы Якума полетели одна за другой. Три всадника почти одновременно опрокинулись навзничь. Двое рухнули в снег. Один зацепился за стремя, и обезумевшая лошадь поволокла его по серому льду Сити.
Не все еще воины успели колчаны расчехлить по примеру Якума, а он уже расстрелял все свои двадцать четыре стрелы до единой, после чего сбросил с себя тулупчик, оставшись в одной нательной кольчуге, голосом поднял лошадь и подвел ее к великокняжескому стягу.
– Княже, твой длинный меч хорош, но тяжел для долгой рати. Возьми мой. – Якум с хрустом выдернул из ножен свой знаменитый харалужный меч, отобранный когда-то у половецкого хана, протянул Юрию Всеволодовичу. – А твой давай мне, поменяемся на счастье и удачу.
Подняв над головой княжеский, с рукоятью на полторы руки меч, Якум ринулся прямо в гущу врагов, будто решил, что уж достаточно ему самому жить и теперь остается одно – забрать как можно больше татарских жизней.
– Постой! – пытался остановить его Юрий Всеволодович.
Но Якум не слышал или не хотел слышать. Он врубился в чужие ряды, бросил поводья, взял меч сразу двумя руками и принялся размахивать им без останову и роздыху, не разбирая, где кони, где люди.