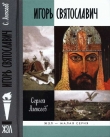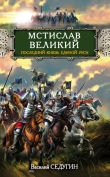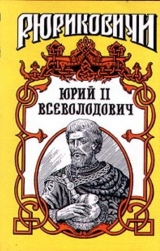
Текст книги "Юрий II Всеволодович"
Автор книги: Ольга Гладышева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
– А ты сбежал? Да? – мнимо участливо спросил Василько.
– Нет. Мии-баши как узнал, что я толковин и лазутчик, велел меня не трогать. А тут бой под Коломной – страшный бой, такого монголам еще не приходилось вести. Ставка Кулькана, сына Чингисхана, была, как положено, позади войска, в безопасности, но ваши урусы прорвали ряды, очутились сзади и умертвили Кулькана – неслыханный позор! Неслыханно и невиданно, чтобы погиб чингисид! Такое началось в войске смятение, что один татарин в моей десятке бросил копье и помчался к реке, чтобы обмыть рану. Тысяцкого, который выручил меня, сразили стрелой в горло, мне не на кого было уж рассчитывать… – Бий-Кем посмотрел на Василько, доверяет ли ему молодой русский князь. – Вот тут-то я и решил бежать.
– Да зачем же? Ведь вы же взяли Коломну, победили? – не понял Василько.
– Э-э, князь, это по-вашему так… Не знаешь ты монгольских порядков. За проступок одного воина у нас рассчитывается своими жизнями весь десяток, за вину десятка – вся сотня. Трусость в бою, бегство – нет тяжелее преступления. А воину вырывают сердце даже за то одно лишь, что он растерялся, или вовремя не выручил соседа, или опоздал в строй из-за того, может, что заболел или ему приспичило – никто не станет разбираться, смерть на месте!
– Что же это так зверски-то? – удивился Василько.
– А как же иначе можно покорить всю вселенную?
Мед делает человека разговорчивым, и казалось, монгол предельно откровенен. Юрий Всеволодович вспоминал предостережения Глеба Рязанского и не мог решить для себя, как относиться к услышанному от монгола.
– А ты не врешь ли все? Не хочешь ли одурачить меня?
– Князь! – поднявшись со скамьи и преданно глядя в глаза Юрия Всеволодовича, начал Бий-Кем. – Если я замыслил против тебя плохое, пусть никогда не родится у меня сыновей, пусть родятся одни только девки.
– Значит, говоришь, до весны Батыга сюда не сунется?
– Бурундай…
– Это все одно. Значит, до весны?
– Пусть споткнется и упадет на полном скаку мой конь!
– Ну что же, может, поверю тебе, а может, погожу, – промолвил Юрий Всеволодович, словно бы для одного себя лишь, и велел мечникам увести пленника.
– Да, посмотрим ужо, – согласился Василько. И оба они представить себе не могли, как недолго им оставалось годить и смотреть.
Ночь была совсем уж близка, но небо стало светлее, на нем появились грязно-серые разрывы, а небоземная овидь на закатной стороне пробивалась едва приметным розоватым свечением. Стали угадываться и ближние деревья. Они стояли тихо-тихо, не шелохнувшись, словно помертвевшие.
Раздражавшее шуршание льдистых снежинок в дымовом отверстии шатра прекратилось. И многодневное утомление мыслей утихло. Печаль души и смущение ее сменило спокойствие обреченности, пустота отчаяния. Зачем снова и снова обманывать себя надеждами, притворяться, что веришь в ожидаемую подмогу, в чудо, во внезапное, необъяснимое исчезновение татар? Сам Христос молился, боясь: если только можно, Отче, пронеси чашу сию мимо Меня; и не миновало Его, но страданием Его и мукою крестной спасение человеков началось. Что же, и мы во спасение отчины своея примем меру назначенную.
То, что ни один из сыновей за месяц и знака не подал, уже предзнаменование. Они или в осаде, или в плену, или мертвы уже. Ушли, оставив победить отцу.
– Сыновья твои в изножье твоем упокоятся, – произнес чей-то такой знакомый, но неузнаваемый голос.
– Кто здесь? – воскликнул Юрий Всеволодович, вглядываясь в полутьму шатра, слабо освещенного походным масленым светильником.
В углу проступило худое лицо с густой бородой и выпуклым лбом. Глаза глядели пристально и печально.
– Шурин, что ль? – со страхом вопросил князь Юрий. – Ты как здесь? Иль на подмогу пришел? Немыслимо… Что я? Разве ты не в Чернигове? А говорили, ты к уграм бежал? Как же тут очутился? Как нашел нас?
Князь Михаил помедлил:
– Сказать что-то хочу…
– Скорее же! В тоске я и нетерпении.
– Ярослав не придет. Но наказан будет.
– Нам погибнуть, ему – жить. Этим наказан?
– Сына убьют.
– Александра? Который женится сейчас?
– Другого. В Твери.
– Тлен дыхает по всей земле нашей.
– Так.
– Но откуда знаешь про Ярослава и детей моих? Что это значит: в изножье упокоятся? Почему так?
– Там уснут, – таинственно пообещал черниговский князь.
– Дивлюсь я видеть тебя. Как тебя стража пропустила? Я и не слыхал ничего. Али спят псы бесстыдные?
– Да о чем ты? – отвечал Михаил как-то невнятно и неохотно. – Можно ли не впустить брата жены твоей? Пришел, и все. Видеть тебя надобность. Важное нечто молвить хочу.
– Что же? Реки быстрее? Страшно мне отчего-то.
– Слушай! – в ухо сказал Михаил. – Се тайна. Ты что попросишь – получишь. Я получу, что захочу.
– Не понял я, – шепотом же ответил Юрий Всеволодович. – Чего я попрошу? Откуда ведомо?
– Зна-аю, – протянул Михаил из уст в уста. Дыхание его шевелило бороду Юрия Всеволодовича. – И я то же получу. Одинаково у нас будет.
– Что будет? Ты прорицаешь, что ли?
– Ах, больно мне, больно, – исказивши лицо, тусклым голосом пожаловался черниговский князь. – Тут больно. – Он показал перстами на сердце. – Прямо пятками бьют.
– Да ты что? – закричал Юрий Всеволодович. – Кто тебя бьет? Ты бредишь, что ль?
– Не знаю кто, – всхлипнул черниговский князь. – Я их не знаю.
– Ты-ы видение? – догадался Юрий Всеволодович. – Ты мне примстился?
– Какое я видение? – осерчал Михаил. – Я тебе столь важное известие, а ты – видение…
– Так что, и мне – пятками в сердце? – дрожа, спрашивал Юрий Всеволодович.
– Тебе? Нет, тебе – другое, – бормотал Михаил, отшатываясь в тень, в угол и сверкая оттуда глазами. – Но головы, головы наши одинаково…
– Я получу, что попрошу, а ты, что захочешь? Но не одно ль и то же это? Пошто прямо не можешь предсказать?
– Куда уж прямее? – усмехнулся Михаил. – От-де-лят-ся, шурин. Отделены будут.
– И ты сам захочешь? – еле шевеля губами, спросил Юрий Всеволодович.
– Не своею охотою, нет. Его же не предам. Слышь, князь? Но ты не узнаешь. Ты уйдешь до этой поры.
– Ты позже? – прошептал Юрий Всеволодович.
– Я потом, – таинственно сообщил Михаил. – Внуков повидаю, а уж потом…
– Каких внуков? Очнись! Иль не знаешь, они в Ростове? И живы ли, неизвестно. Ты безутешен, как я, и бредишь.
– Внуки? Не-е. Как можно? Глеб княжить будет в Белоозере. И град его будет силен богатством. Но это не сейчас, потом, потом… – бормотал шурин. – Его не увижу, но с Бориской, старшим, еще встречусь на земле.
– Где? – холодея, допытывался Юрий Всеволодович.
– Не знаю. Не ведома мне земля сия. Река большая, не видывал я такой. А Бориска отроком уже будет. Вот он на шею мне кинулся. А мне больно, я залит чем-то горячим: и грудь моя, и одежда. Но уста мои, каменея, все равно будут повторять: я христианин.
– Он и мой внук, сын Василька. И я оплакиваю жизнь его пятилетнюю.
– Говорю тебе, спасся! – радостно и удивленно воскликнул черниговский князь, зажимая себе шею. Сквозь пальцы его текли багряные струи и капали на грудь.
– Лжешь ты, а? Себя и меня тешишь. Отчего ты в крови? Кто тебя? Откройся!
– Напрасно ты Ярослава ждешь. Своенравен и самолюбив без меры. Не оправдаются надежды твои. Помнишь, как он мне сказал: вы – себе, а я – себе и креста никому не целую?
– Всяк человек переменчив, – вздохнул Юрий Всеволодович.
– Не придет он.
– Откуда ведомо?
– Он возьмет то, что у тебя из рук падает.
– Престол, что ль? Стяг мой великокняжеский?
– Всю землю, – покивал головой Михаил. – Землю Русскую возьмет, елико сможет, и всех оплачет и, что сумеет, обустроит.
– Чем я провинился, что муки такие мне насылаются? – горько вскричал Юрий Всеволодович.
Шурин хитро улыбнулся:
– Много напакостил, одначе. Новгороду угрожал? Торжок пограбил? Семь тысяч гривен взял?
– Торжок я наказал. А в Новгород тебя на княжение воздвиг. И все они соделались довольны.
– Я отошел от них с миром в отчину свою. Хотя да, был любим, и с усердием просили меня остаться, не покидать их. Отпущен я был с великою честию. И тогда на мое место твой брат Ярослав сел, душою бешеный, коего ты сейчас ждешь не дождешься.
– Господь нас всех рассудит, – тихо молвил Юрий Всеволодович. – А то все попрекают меня кто чем. Всем никогда не угодишь. Ярослав литву бил, финнов бил, новгородцы пленных не могли даже всех увести с собою.
– И бесчеловечно умерщвляли их, – вставил Михаил.
– Но иных и просто отпустили, – возразил Юрий Всеволодович. – И корел он покрестил – дело благое.
Шурин на крещение корел не отозвался никак, думал о чем-то своем.
Конечно, брат Ярослав нравом буен, своеволен, предерзок и решителен, но и новгородцы мятежны суть ему под стать: могут владыку своего избить и заточить – дожди, вишь, не перестают, сена мокнут, архиерей плохо молится, ненастье не унимает. Могут тысяцкого своего пограбить. Промеж себя дерутся, домы жгут. Могут старосту повесить, если не понравится. А на общую подмогу тугоньки: мы-де далеко, татары не добредут до нас, да что про это! Все уже ясно.
– А помнишь, Михаил, как ты поссорился с Олегом Курским? Я войско тебе в помощь привел и помирил вас, и племянника Всеволода на его дочери женил. Вот так бы все споры разрешались меж собой, да?
– Сейчас совсем-совсем другое, – прошептал Черниговский. – Ярослав предприимчив, на выдумки своевольные горазд, побитый собственным тестем, князем Мстиславом на Липице, не угомонил притязаний на власть в Новгороде Великом, а желал неустанно, чтоб город сей по его лишь велениям жил и поступал. С Черниговом моим сколь много ссорился, тебя в свары вовлекал и сыновцев желал восстановить противу тебя. Не так ли?
– Так. – Юрий Всеволодович поник головою. – Что возразить?
Таков уж он. Но ведь брат! С ним ли вражду воздвигнуть!
– Янюшка брат твой, самолюб и самотник.
– Ну, что ты все упреки да счеты былые!
– Да кабы стереть все, как прах на стекле, и жить заново, – согласился Михаил кротко.
– А ты ведь сам ревновал Мстислава Удатного к славе его и чести, – не удержался Юрий Всеволодович.
– Где это я ревновал-то? Пошто мне?
– Пошто? А когда явился семь лет назад во Владимир, новгородцами науськанный, и отнял у меня, шурина-то твоего, товар ихний, что я имал у них в Торжку? И повез им и отдал. И пошел к себе обратно в Чернигов, будто тебе ничего не надо. Окроме благородства и памяти. Словно бы ты Мстислав Удалой.
– Пошто ты, Юрья, уязвляешься? – тихо возразил князь Михаил. – Да, так Удатный поступал, корысти не ища, так я поступил, да, новгородцы меня с честию проводили, как я справедливость восстановил. А ты пошто товар-то цопнул, веретено вострое?
– А ты позабыл, что мои сыновья – племянники тебе? Иль мы не родня близкая?
– Да, Мстислав Удатный тоже любил Новгород, – продолжал шурин, не слушая. – Голову свою, слышь, повалю за вас. Вишь, как выражал сильно? Кому же не лестно этакое?
– Вот и выходит, что города и славу вы любите больше своих детей, – упрямился Юрий Всеволодович. – Как Мстислав с сыном Данилой поступил? Не виноват ли перед сыном?
– Ну, ошибся маленько, – неохотно признал черниговский князь. – Он и сам осознал, да поздно, как ввалился на престол венгерец. И отважный удалец ошибиться может. Горяч, а сердцем прост. Недальновиден. На сыновнее место венгерского короля впятил.
– У нас, князей великих, маленько не бывает. Каждую ошибку в строку ставят. Чуть соступнулся – обвал многих жизней. Я много думал и понял. И я хотел бы многое изменить, да поздно. В одном нет раскаяния: детей своих я не обижал.
– Э-э, – вздохнул почему-то шурин. – Если Господь не созиждет дом, суд будет строгий.
– Ты о чем это? Что знаешь про дом мой? Так скажи! Я так давно известий оттуда не имею!
Князь Михаил, криво усмехаясь, как-то все клонился в сторону, частью растаивая в темноте, и на месте его рук и плеч было пусто, а голова отдельно.
– Живи по Закону Божьему, – палец погрозил сам по себе из угла, – а не по закону размножения.
– Но разве это грех? – возразил горячо Юрий Всеволодович. – Сказано: плодитесь и размножайтесь.
– Но не к этому весь Смысл сводится и не этому лишь подчиняется, – крикнул без голоса пришелец. – Смысл выше!
– А в чем он? – вдруг обмяк Юрий Всеволодович.
– Узнаешь! – пообещал шурин, совсем истаивая. – Скоро сам узнаешь.
– Что же дальше? Зри еще! Проникай! – просил Юрий Всеволодович.
– Дымно. Черно. И как дымно! И треск! То пламя распаляется с воем. То молитвы из собора его заглушают и плачи, крики детские и визги женские. О-о, где выход? Пустите меня! – оскалив в муке зубы, Михаил бросился на стену и пропал в ней.
И сразу же за шатром загудел ночной лес. Не шелестом, не всплесками летних шорохов и листвы, но густым, мерным гудом, будто кто-то могучий, не переставая, глухо дул в тяжелый рог.
Юрий Всеволодович вытер лоб, осыпанный каплями, вскочил на ноги с намерением немедленно что-то делать решительно и быстро – ведь ночь на исходе! Надо провести осмотр войск, проверить оружие и доспехи, которые надо будет раздать ополченцам перед боем. Холод бегал у него по спине, и кожа на голове съеживалась под волосами. Почему Глеб Рязанский крикнул: не верь монголу? Кто из них лжет? Или оба? И что означает видение, примстившееся только что? Не собственная ли неспокойная совесть рождает подобный бред? Но почему судией явился шурин Михаил? Зачем опять старые упреки и что он пытался так путано предсказать?
Вдруг остро и ясно возникло сознание: это больше не может продолжаться – терпение и неизвестность.
Он уже отстегнул полог, закрывающий вход в шатер, но тут же отпрянул назад: то, что он принял за гул лесного ветра, было невнятным гудом множества голосов, среди которых явственно различались только хозяйственные покрикивания бессонного Жирослава Михайловича. Юрий Всеволодович замер, прислушиваясь: неужели все-таки пришли новые полки на подмогу или это Дорож со своими вернулся?
Мечник за стеной шатра сказал:
– Великий князь отдыхает. Утром допустим до него.
На что высокий злобный голос ответил:
– Да пошел ты! – и ввалился тот, кого совсем не ждали, даже и речи о нем не вели с братом, храпевшим на все лады в дальнем углу шатра.
Вошел сын Святослава Дмитрий, малого роста и грубого вида младень. Юрий Всеволодович не сразу и узнал его: оморщиневшего, с ввалившимися глазами и подвязанной щекой.
– Зубы! – сказал он вместо приветствия и поклонился как-то боком.
– Ты где пропадал-то, Митька? – грозно спросил Юрий Всеволодович, задрожав от радости.
– Я ополчение привел, – поморщился племянник и, скинув шапку, сел. Концы платка торчали у него на поредевшей маковке.
– Сколько?
– Не считал, дрянь народ.
– Что так? Зачем же вел?
– Сами пристали. Угнетены очень. И без оружия. А батюшка тоже здесь? – всмотрелся Дмитрий в распростертое на лавке тело. – Когда приехал?
Святослав, будто услыхав, затих, потом дернулся, всхлипнул и пустил хриплую музыку еще пуще.
– Где собирал ополченцев-то? – допытывался Юрий Всеволодович. Хотелось спросить обо всем сразу, что известно братаничу, и страшно было: слишком уж необычен вид у Митьки, всегда веселого, оскаленного в редкозубой улыбке. Сейчас он сидел, старообразый, забыв снять шубу, и не глядел на дядю.
– Собирал я их по дороге, – обстоятельным голосом сказал племянник.
– Как грибы, что ль? – раздражился великий князь.
Дмитрий медленно усмехнулся и стянул повязку. Багровый вспухший кровоподтек занимал всю щеку и скулу. Глаз тоже заплыл и слезился.
– Эк, чем это тебя? – невольно посочувствовал Юрий Всеволодович.
– Палицей слегка прикоснулись, дядя. А зубы выбиты сбоку, мочи нет говорить.
– Где ж это было? Татары – тебя? Ты их видел?
– Свои приложились в толчее… А воев я собирал так: со мной пошли раненые и обожженные, кои могли идти, а кои не могли, тех мы оставляли у дорог замерзать.
– Почему обожженные? – пересохло спросил Юрий Всеволодович. – Ты откуда прибыл?
– Я был везде, – сказал Дмитрий и впервые поднял замокшие слезами глаза на великого князя.
– Я знаю, они Рязань взяли, – поспешно вставил Юрий Всеволодович.
– Рязань взята в осаду шестнадцатого дни декабря, пала двадцать первого. Исчезло богатство ее и отошла слава – только дым, головни и пепел. Ни пения, ни звона – церкви все изгорели. Остался жив один князь Ингварович и нашел среди трупов мать свою, великую княгиню и снох и так кричал и рыдал, что пал на землю как мертвый. Едва его отлили и на ветру отходили. И с трудом ожила его душа в нем. А все это мне сказывал ученый дьяк рязанский, притекший по зиме и морозу во Владимир, не в силах зрети мучений рязанских и слышати вопли ихние. И все были уже в страхе.
Отвернув лицо в угол, князь Дмитрий говорил ровно, будто Псалтырь читал.
Юрий Всеволодович слушал не перебивая, наконец спросил безголосо:
– А что ж во Владимире? Стоит ли он?
– Сын твой Всеволод разбит под Коломною и притек во Владимир.
– А Москва? – стиснуто выдохнул Юрий Всеволодович.
– Взята на копье.
– Но Владимир стоит?
– Взят на щит.
Юрий Всеволодович схватился за лицо руками, прижав пальцами глаза, и огненная тьма заплясала искрами перед ним.
– Митька-а! – взревел на лавке Святослав. – В безумстве ты! Не может такое правдой быть! Зачем дьяка рязанского слушаешь? Я давно проснулся и все понял. О-о, сынок, кто ж тебя так? Кто лик твой на сторону своротил? Брат, радость у меня: сын, вот он, удалец мой!
Святослав сполз с лавки, пошел на коленках к сыну. С размаху обнялись. Замерли в бесслезной горечи.
– Митя, скажи не тая, как есть! – хриплым шепотом попросил Святослав.
– Владимир сожжен и разграблен, батюшка. Три дня горел.
– Весь?
– Дотла. Одне соборы стоят закопченны.
– А… народ?
– Жители взяты в плен или истреблены. Неделя прошла, а пожарище все тлело и выметывало, если ветром раздует. Подойти близь не можно, таким жаром попаляет.
– Всеволод жив ли? – глухо спросил Юрий Всеволодович сквозь ладони.
– Ударила его стрела через броню под сердце. У Ирининых ворот было.
Великий князь, застонав, уронил голову на стол.
– С таким великим звуком приступили, что земля сама всколебалась от шуму и трескоты и от вопу человеческа. Яко мурины, страшны и зловидны, яко враны кричали. На приступ же гнали впереди себя плененных, понуждая их биться с нами. А кто отказывался или пытался бежать, тут же убивали, – продолжал Дмитрий. – Мостовые даже горели. Но жены и дети и старцы, мужскую доблесть восприняв, нечестивых побивали, кто чем мог.
– Но другие-то мои сыновья уцелели? А супруга моя? – Юрий Всеволодович поднял молящие глаза. – Я не верю. Быть не может.
Дмитрий с помощью отца начал стаскивать шубу.
– Но ты-то ведь спасся? – бормотал Святослав. – Может, и они? Ты на коне сбежал?
– Я на четвереньках спасся. Как сбили меня, я промежду ног, согнувши, уполз, червем извиясь. Думал, стопчут. Но бились в воротах – они сразу в четверо ворот хлынули, – а я был у Волжских, взлез на стену и выпал в сугробы на обрыве у Клязьмы. Никто не углядел меня. Отлежался.
– Страшны татары? Какие они? – вдруг спросил мече-ноша, до того немо и остолбенело присутствовавший здесь.
– Маленьки ростом и злобны. Рожи темны и словно бы рябы, а щеки надуты, глаз не видать. И визжат пронзительно. Мы потом сбились на стрелке Лыбеди со Клязьмой полуживые сбежавшие, в крови, как псы порванные, а один из Посада на снегоступах утек, пока Серебряные ворота еще были свободны. Но он потом умер. А я его лыжи взял. Месяц к вам добирался. Всего и не пересказать. Чудом прорвался. Просто чудом.
– Племя поганское, дьяволом рожденное! – ругался Святослав. – Помет собачий!
– Так что же? Всему конец? – сказал великий князь, бессмысленно глядя на всех и никого не видя.
– Мы остались одни. Совсем одни. – Дмитрий беззвучно затрясся, скривив разбитый рот.
Глава пятая. Враги
Рязанская земля стала первой жертвой нашествия. Рязанцы защищались беззаветно-отчаянно, сопротивление оказывали не только хорошо обученные, умелые в воинском деле дружинники, но и мирные жители – крестьяне и ремесленники, старики и женщины. И все они легли, по слову летописца, «на земле опустошенной, на траве-ковыле, снегом и льдом померзнувшие, никем не блюдомые. Звери тела их поели, и множество птиц их растерзало. И все лежали, все вместе умерли».
Уже семь дней монголо-татары грабили город, жгли дома и храмы, насиловали и умерщвляли жителей Рязани. Лишь пепел и дым остались от прославленного рязанского узорочья, а сам город остался в памяти потомков как Рязань Старая, новую пришлось возводить на другом, неоскверненном месте – в стороне от Оки, при слиянии рек Трубежа и Лыбеди.
Батый, как обычно, поставил свой желтый шатер с золотой маковкой в отдалении от тех мест, которые только что были полем боя, и на возвышении, чтобы видеть, как располагаются кюрейны – стойбища из колец юрт. Подобно тому, как вокруг ханского шатра стоят кругом малые юрты его личной охраны из тысячи отборных нукеров, и малиновые шатры царевичей-чингисидов окружены малыми кочевыми шалашами для многочисленной свиты из шаманов и знахарей, сокольников и доезжачих с борзыми собаками, трубачей и поваров. У входа в ханскую ставку на длинном древке поднято пятиконечное знамя, на котором выткан золотом ужасный лик бога войны Сульдэ, точно такое знамя покровительствовало в походах самому Потрясателю вселенной Чингисхану. И возле шатров царевичей – их одиннадцать – свои боевые знамена из шелковых разноцветных тканей. Ближе всех к ханской ставке кольцо юрт с шатром из снежно-белого войлока – в нем главный военачальник, непобедимый Субудай-багатур.
Именно непобедимость старого полководца стала с некоторых пор вызывать у Бату-хана досаду и раздражение.
Не то чтобы он завидовал, да и кому может завидовать внук Чингисхана, которого курултай назначил предводителем похода! Нет, места для зависти в сердце Бату не могло быть, однако слава главного полководца часто мешала ему принимать самостоятельные решения, а после Булгар он начал даже и сомневаться в справедливости утвердившегося суждения, будто Субудай за пятьдесят лет, проведенных на войне, не потерпел ни одного поражения.
Субудай прослыл верным псом Чингисхана, который незадолго перед смертью поручил ему своего любимого внука для воспитания из него истинного монгольского вождя. Вскоре после смерти Потрясателя вселенной на Керулене был созван курултай, где присутствовала ханская, родовая и воинская знать. По сообщению Субудая, вернувшегося из разведывательного похода, курултай принял решение начать завоевание далекой Руси, чтобы затем дойти уж до последнего моря, покорить все существующие страны. Во главе похода поставили хана Бату, а в помощь ему придали Субудая – багатура. Это всеми было принято как должное. Да, Субудай стар. Да, он крив на левый глаз, а правая рука с рассеченной в давней битве мышцей висит плетью. Но слава его слишком велика: он разрушил три китайских столицы, покорил десятки народов, и он один уже имел ратную схватку с орусами на реке Калке. Его в глаза называли непобедимым, и он не отрицал этого, и все верили в это. И Бату не сомневался до прихода к берегам Итили.
Легко разгромив камских булгар, которые горазды были торговать, однако робки в бою, Бату узнал от пленного булгарского князька, что четырнадцать лет назад к ним приходил после битвы на Калке Субудай с воинством. Прослышав о несметных богатствах великого города, он рассчитывал на легкую победу, да угодил в ловушку, после чего бежал самым позорным образом. Однако же ни словом не обмолвился об этом, принимал как должное величание непобедимым.
Бату ни намеком не показал, что знает о давнем поражении багатура, но тот все же заподозрил либо продуманно поостерегся и проявил даже и для него излишнюю жестокость и безжалостность – приказал уничтожить всех булгар поголовно, в том числе и того князька.
На беду, кроме Бату, о давней камской неудаче Субудая узнали и царевичи – чингисиды Гукж-хан и Менгу-хан. В отличие от осторожного и скрытного Бату, эти двое выдали себя, и Субудай вскоре после переправы через Итиль при впадении в нее Еруслана отослал их в поход на половцев. Конечно, еще на курултае принято решение покорить не только орусов, но и соседние с ними народы – булгар, мордву, буртасов, асов, половцев. И военачальниками Гуюка и Менгу назначили заранее, но ведь Субудай отправил с этими двумя ханами почти четверть всего воинства, не согласовав этого заранее с Бату, хорошо, что Менгу был другом и пришел прощаться, где и рассказал все.
Верный пес Чингисхана Субудай знал, что не посмеет выказать своего негодования молодой предводитель похода. Однако не может он не знать и того, что Бату по-монгольски значит – твердый, крепкий. Если не знает он, безродный пастух, этого, то любимый внук и надежда Потрясателя вселенной образумит его, ведь главная часть похода еще впереди.
Взятие Е-ли-цзяни и ее мелких городов не прибавили славы ни Бату-хану, ни Субудай-багатуру. А главное, по-прежнему не было полной ясности: что же это за народ такой орусы?
На курултае Субудай рассказывал, как бился он на Калке с князем Ми-чисы-лио, и такой вывод сделал: орусы народ доверчивый, но крутой.
Е-ли-цзянцы подтвердили правильность слов Субудая: ни сам их главный город, ни один самый ничтожный не сдался без боя. О десятине во всем даже слушать не захотели, ответили куда как высокомерно:
– Лучше нам помереть, нежели сором на ся прияти! Отцы и деды наши испокон дани никому не даваша, а за свою землю и честь головы складаша. То же и мы!
И ведь так и сделали, как сказали!..
А Федор-то, щенок, самому джихангиру Бату-хану в лицо рассмеялся, нечестивым царем обозвал! Ну ладно, он получил за это свое, но хатуня-то его – с дитем млекососущим о землю сама расшиблась! И что бы значило это? Бату смутно чувствовал, что то был прекрасный порыв во имя любви и супружеской верности, но понять и оценить его не мог. Никогда и нигде не встречал он ничего подобного, а ведь хатуней-то чужих побывало на его ложе столько, что и не счесть.
И ни одного орусского пленника не удалось привлечь на свою сторону. Лишь вон Глеб Рязанский, презренный старик, прибился, но человек он мутный, дрянной, да и тот последнее время неразговорчив стал, глазами зыркает туда-сюда…
То, что при взятии Е-ли-цзяни полегло немало и его воинов, Бату-хана мало беспокоило. Неисчислимая его орда в пути таяла и тут же восполнялась и будет еще увеличиваться за счет покоренных народов.
И то еще удивительно, отчего это орусы называют их всех татарами? Нет тут никаких татар. Потрясатель вселенной Чингисхан истребил их всех как ненавистных врагов, примеряя детей татарских к тележной оси. Есть в орде меркиты, кераиты, кипчаки, ойраты, найманы, Их всех поначалу стали звать без разбору монголами, а пришли на Русь и стали, вишь ты, татарами. И что это все они, и князь Федор тоже, решили, будто мы – татары? Нешто из великого презрения стали называть нас столь ненавистным именем?
Словно желая убедиться в собственной правоте и получить подтверждение тому, что в его стопятидесятитысячном воинстве нет татар, он вдруг решил объехать верхом на коне все тумены. Про себя он знал, что не вдруг и не случайно такое решение у него возникло, еще рано утром молодые царевичи-чингисиды Кулькан и Бури намекали ему, что Субудай-багатур оттягивает продолжение похода по каким-то одному ему известным причинам, а воинство тем временем разлагается от безделья, грабежа местных жителей да беспробудного пьянства.
Он встал с кованного золотом трона, подошел к пологу и крикнул наружу:
– Коня мне!
Нукеры проворно сняли попону с саврасого иноходца, накинули седло, затянули подпругу, сменили на голове коня оборота на дорогую, украшенную золотом и драгоценными камнями уздечку с наборным поводом. Конь был готов к скачке как раз в тот миг, как Бату-хан вышел из шатра. В тяжелой горностаевой шубе, покрытой зеленым шелком, он поднялся в седло сам, без помощи стремянного и погнал коня вдоль заснеженного берега Оки в сопровождении телохранителей, одинаково одетых и на одинаковых, рыжих лошадях.
После взятия Е-ли-дзяни всем воинам было дано, как водится, три дня на разграбление города и на отдых. Но шел уже седьмой день после первой большой победы над орусами, празднование ее явно затягивалось. Хмельных напитков в городах и селах Е-ли-цзянщины запасено было столь много, что хватило с избытком на всех. Пили, верно, день и ночь, не зная меры, иные так до рвоты, а извергнув из желудка излишки, тотчас же восполняли утраченное. Не все, конечно, так; многие просто ели в запас да отсыпались. В пути пищей было мясо павших лошадей да жареное просо, а сейчас и баранины вдоволь, и овощей разных, а еще копчености, сало. Спали кто в опустевших избах, кто в наспех сколоченных будках или хворостяных шалашах, а кто так, как привыкли в монгольских степях: раскатывали отвороты длинных рукавов, чтобы не мерзли руки, накрывались с головой и закапывались в мягкий снег.
Бату спокойно чувствовал себя в седле иноходца, конь не скакал, а словно плыл по воздуху.
– Байза! – опережал хана крик, летевший от сотни к сотне.
Получив своевременное предупреждение, даже уснувшие или захмелевшие воины успевали к прибытию джихангира привести себя в порядок и пасть на колени.
Не доезжая до развалин, в которые превратился город, Бату развернул коня и сразу повстречался с царевичем Кульканом. У того под седлом был конь тоже саврасой масти, какую любил Потрясатель вселенной Чингисхан.
Поздоровавшись, пошли небыстрым ходом стремя в стремя.
– Я гнался за тобой, – сказал Кулькан.
– Понял. Но зачем?
– Сказать тебе, что луна стала полной, вот-вот пойдет на убыль. А шаманы пророчат…
– Знаю. И что же?
– А Субудай будто не знает, что нельзя начинать поход на убывающей луне, чего он медлит?
– Спроси его.
– И спрошу! А что? Спрошу!
– При мне спросишь. Я буду в ставке. – Бату послал иноходца и вырвался далеко вперед.
Возле своей золотисто-желтой ставки легко спрыгнул с седла, вошел в шатер быстрым шагом. Нукеры опустили за ним ковровый полог и встали у входа, перекрестив копья.
Он сидел в шатре в одиночестве. Не на троне, а опустившись на пятки возле никогда не затухавшей жаровни. Смотрел на малиновые угли остановившимся взглядом, стараясь подавить зародившийся в груди гнев.
Кулькан встретился ему не случайно. А караулил его не за тем, чтобы жаловаться на Субудая: упрекая старого полководца за медлительность, метил попасть отравленной стрелой в самого Бату-хана. Он никак не может подавить в себе зависть и обиду на то, что не его курултай назначил джихангиром – главным предводителем объединенного воинства. Из одиннадцати участвовавших в походе царевичей священных кровей Кулькан – младший и единственный оставшийся в живых сын Потрясателя вселенной – был самым знатным, а потому рассчитывал на наивысшую почесть. Курултай рассудил, что Кулькан еще молод, неопытен в воинском деле и отдал предпочтение его племяннику Бату. Ни решение высшего совета на Курултае, ни молодость и неопытность не смущали самолюбивого девятнадцатилетнего хана, Кулькан знал одно: он – единственный сын повелителя народов и призван самим Небом закончить то, что не успел исполнить отец, и он верил, что покорит вселенную скорее, вернее, чем кто-либо, чем Бату или Гуяк, чем кто-либо из чингисидов.