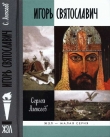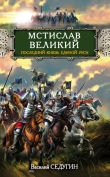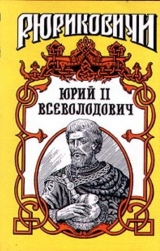
Текст книги "Юрий II Всеволодович"
Автор книги: Ольга Гладышева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
Обороняя свою отчину, Андрей за время княжения принял участие во многих ратях, не раз подвергался смертельной опасности, а погиб в родном Боголюбове от рук людей, которых сам приблизил к себе.
На глазах многих очевидцев произошло это злодейство, а говорить о нем потом стали разное.
Двадцать восьмого июня 1174 года двадцать человек, все из приближенных князя Андрея, недовольные его строгостью, составили заговор. Во главе стояли шурин великого князя Яким Кучков, зять Якима Петр, ключник Анбал Ясин и чиновник Ефрем Моизович. Ночью они взломали дверь и ввалились в ложницу великого князя. Андрей хотел схватить меч. но его на месте не оказалось. Меч этот греческой работы с надписью: «Пресвятая Богородица, помогай рабу Твоему» – принадлежал раньше святому Борису, убиенному Окаянным Святополком. Не раз выручал этот меч Андрея, об этом знали заговорщики, потому-то Анбал Ясин и выкрал его заблаговременно. Андрей, хоть был уж не молод, но столь телесно сильный, что и безоружным оказал убийцам достойное сопротивление, так что они впотьмах да спьяну покалечили друг друга, а одного соучастника даже и закололи насмерть. Князю Андрею сначала отрубили руку, потом вонзили меч в грудь, убивали неумело, трусливо и жестоко. Мертвое тело бросили на огороде. Слуга князя Кузьмище стыдил ключника Анбала Ясина:
– О, еретик! Помнишь ли, жидовин, в каких портах пришел? А теперь в аксамите стоишь, а князь лежит наг?
Так все и было, и многие самовидцы подтвердили. А иные – из добрых ли чувств, из злословия ли – припоминали разные иные подробности, предшествовавшие убийству. Сказывали, что женатый на дочери Кучки Андрей осыпал милостями ее братьев, но один из них уличен был в некоем злодеянии и заслужил казнь. Его брат Яким будто бы возненавидел за это князя и решился на месть. А другие утверждали, что виновница всего сама супруга Андрея Улита. Будто требовала она пригоновения и плотского смешения в постные дни, а встретив нелюбие, привела тайно к ложу мужа своего убийц.
Заступивший на княжение после Андрея брат Михаил с невесткой расправился жестоко, не поглядел, что женщина и родня. Приказал повесить Улиту на воротах и расстрелять из многих луков.
– То было время великих страстей! – говорил древний Михно. – Каки были люди! Ничего не боялись!
– А сейчас какое время? – спрашивали княжичи в сладком ужасе.
Михно думал, – моргал ослепшими глазами и предвещал, что скоро настанет время великих испытаний и великого терпения.
Весело в детстве ждать великих испытаний: уж мы-то все преодолеем, мы себя покажем!
Гюрги со старшим братом Костей и с Ярославом в обнимку ходили, неразлучны были. Кабы знать – что впереди!..
Михаил княжил всего один год. По мнению Михна, злоба его сожгла и съела. После его смерти на престол взошел Всеволод Большое Гнездо, который и довершил будто бы кару над убийцами Андрея: бросил их в озеро Пловучее в этих самых коробах.
Этой ночью на Сити Юрий Всеволодович снова вспомнил о коробах и запоздало пожалел, что так и не собрался выловить их из озера и показать всем воочию, дабы убедились в злоречии недругов владимирских князей. И еще сокрушался, что не успел и теперь уж, видно, не успеет никогда докопаться до подлинной правды о деде Юрии и дяде Андрее, пресечь навсегда клеветы и пересуды и занести правду в монастырские пергаментные свитки.
Да, не успел. Но и как было успеть, когда сам-то лишь сейчас, в канун своего судного часа получил озарение, сведя воедино горестные утраты и разочарования минувших лет!..
Дед Юрий стал первым основателем Ростово-Суздальского могущества, однако, протянув долгие руки в Залесье, всеми помыслами оставался в Киеве, чем нажил тайных и явных врагов в Южной и Северо-Восточной Руси. Дядя Андрей, всеми друзьями и недругами признанный мужественным, трезвым и одним из самых мудрых князей русских, сделал родную Залесскую землю главенствующей среди всех русских земель, но, укрепляя свое самодержавие, решительно пресекая междоусобия, окружил себя инородцами – половцами, кавказцами, евреями, которые погубили его да еще и опорочили в глазах потомков. Отец Всеволод Большое Гнездо, осторожный, умевший не только настаивать, но и уступать, по доброте своей не стал следовать правилу брата, не отменил делений на уделы, и птенцы его разлетелись по своим гнездам.
«В лета 6702 посла Всеволод тиуна своего на Русь и созда Городец на Востри, и обнови отчину свою». Эти строчки из летописи – все, что знал Юрий Всеволодович о пожалованной ему Мстиславом Удатным волости. Не довелось ему раньше бывать не только в Городце, но и в ином каком месте на Волге, которую монастырский писец назвал почему-то Вострой. А река-то оказалась столь величественной да сильной, что когда впервые увидел ее с крутого взлобка, то не просто изумился, а испытал смирение и робость.
И как это отец сумел место такое выбрать – другое такое навряд ли и отыщешь.
В отличие от известных Юрию рек – Оки, Клязьмы, Нерли и других еще многих, у которых не сразу и разберешь, какой берег правый, какой левый, Волга выстроила свои земные пределы очень строго: одна сторона реки гориста, с чередою холмов, где на кручах стоят угрюмые и столь могучие леса, что кажется, растут они со времен сотворения мира. А противоположный берег скучно-отлогий, с песчаными отмелями, за которыми, сколь хватит взгляда, лежит луговая пойма. В том же месте, где обосновался Городец, берега сблизились и один из холмов словно бы перескочил на левую сторону. Волга, сжатая с двух сторон, течет бурно, гневливо, образуя воронки на воде, и подмывает сразу оба берега, так что они оба сделались отвесны. Сколь потом ни объезжал Юрий Всеволодович волжские берега вниз и вверх по течению, не видел, чтобы где-нибудь на левом берегу был еще один такой кряж. И вот на его-то венце, у самой окраины уступа и срубил отец город, ставший для сына местом заточения.
Сосланный на безысходное жительство, Юрий Всеволодович первое время предавался унынию, часто поминал недобрым словом Костю и Мстислава Удалого, трудно было привыкать к тому, что никто не идет к нему с челобитными, ни с приятельством. Уж куда как верно изречение в «Пчеле»: «При власти многы другы обрящеши, а при напасти ни единого».
Но тем отраднее было, что духовный отец его епископ Симон оставил Владимирскую епархию, которую он возглавлял, и добровольно последовал вместе с Юрием Всеволодовичем в Городец. Однако не из-за одной лишь преданности своему попавшему в опалу князю принял такое решение Симон. Он понимал, что сын его духовный уезжает с возмущенным сердцем, жаждущим нанести ответное зло огорчившим его, а потому нуждается в бережной поддержке и душевном врачевании.
Юрий Всеволодович не скрывал и говорил Симону не только на тайной исповеди, но и в обычной беседе, что пылает гневом, который время от времени возгорается с особой силой и горит долго, не затухая.
– Не забыл ли ты, что зло побеждается только добром? – всякий раз напоминал Симон. – Мне отмщение, и Аз воздам, говорит Господь.
– Да, умом-то я понимаю, что не моею волею наказаны будут обидчики, но отмщением Божиим, а сердце все равно горит злопамятством… А ты, отче, разве никогда не гневаешься?
– Возмущения сердца были, но я научился и внутри не давать ему пылать.
– Скажи, как этому можно научиться?
– Меня авва Дорофей научил, чудный подвижник.
– Как ты, подвижник?
– Ну, куда мне до него! Он давно жил.
– Что же, писание оставил?
– Назидание вот такое, слушай: нанес, говорит авва Дорофей, один монах другому малое слово брани. А это, как горящий уголек, который может разгореться в костре в большое пламя. Если ты перенесешь это слово, то погасишь огонек, если же подумаешь, зачем он это сказал, а раз сказал, то и я ему скажу. А скажешь – значит, положишь на уголек лучинку. И произошло уже общее смущение, раздражение, отомстительное восстание на опечалившего тебя. Но и сейчас еще не поздно погасить – молчанием, молитвою, одним поклоном от сердца. Если же будешь распалять огонь сердца, уподобишься человеку, подкладывающему дрова на огонь, отчего образуется пламень огненный, который и есть гнев. А закоснеет гнев, он обратится в злопамятство. Надо отсекать страсть, пока она еще молода. Иное дело вырвать малую былинку, а иное – искоренить большое дерево.
– Пусть так, отче, я вырву малую былинку… А брат мой?
Глаза у Симона стали строгие, пропала вся его обычная ласковость:
– Святой евангелист Иоанн говорит: всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца!
Он каждый день общался с Симоном, просил совета, беседовал о простом, житейском и всегда невольно любовался владыкой, глядя, как тот прячет, стесняясь, в рукава рясы широкие, могучие ладони. Иногда Юрий Всеволодович думал, что его духовник не так уж и открыт, как кажется по его честным синим глазам, по благообразию и приветливости всего его облика.
Но сколь ни вглядывался, никаких потаенных влечений и душевных порывов не мог угадать. Спокойствие и бесстрастие были всегдашним состоянием Симона. Ни разу он не сказал о чем-нибудь: мое. Ни об имуществе, которого у него не было, ни даже о столь любимых им книгах.
– У монаха ничего своего нету, – часто повторял он.
Во всех обстоятельствах жизни он много читал, писал поучения и послания к бывшим своим монастырским сопостникам. Не чурался и черной работы – с топором и теслом обустраивал свое жилье, распевая при этом псалмы. Но все-таки была, была у владыки страсть, алчба ненасытная – собирание грибов. Он и Юрия Всеволодовича к этому приохотил. Князь втихомолку посмеивался над собой – больно уж какое-то стариковское занятие, но случалось, целыми днями ходили они вместе по сосновому бору или березовым рощам. Из всех грибов Симон отдавал предпочтение рыжику и горячо доказывал князю его преимущества. А состояли все преимущества в красоте рыжика. Нашед его средь сосновой хвои, владыка не кидался скорее его схватить, а сначала обстоятельно любовался красножелтой головой, приговаривая:
– Ну, какой он рыжик? Он жаркой! Смотри, какой независимый стоит!
Если поиски были успешны, владыка радовался от души, при неудачах же не скорбел и не печалился, лишь становился более разговорчивым.
…Особенно запомнился один серенький преддождевой день с запахом прошлогодней прели, печально повисшими ветвями берез, редкими скучными облаками на бесцветном небе. В роще было тихо, укромно, даже птицы затаились, и трава стояла не шевелись.
– Много за морем грибов, да не по нашему кузову, – сказал Симон, пересчитав добычу и убедившись в полном неуспехе нынешнего хождения. – Да и то хорошо, успею нынче ответить сестре твоей Верхуславе.
– Сестре? Иль она к тебе пишет? Иль случилось что?
– Дело у нее ко мне, вот и пишет.
– А почему не мне? Иль и для нее я больше ничего не значу? – готов был обидеться Юрий Всеволодович.
– Экий ты стал мнительный! – улыбнулся владыка, отделяя целые рыжики от раскрошившихся. – Дело, о коем она хлопочет, не в твоей власти. Желает она поставить епископом в Новгород или в Смоленск черноризца печерского Поликарпа.
– Чем же он ей так показался?
– Да он и сам хочет. Наверное, попросил ее.
– И в чем задержка?
– А в том и задержка, что сам хочет. Чести ему захотелось. Ему я уже написал, пресек таковое искательство, монаху не подобающее.
Юрию Всеволодовичу было все равно, чего там захотел неведомый ему Поликарп и в чем проступок его, но владыка все продолжал говорить, забыв на земле плетюху с грибами, и такое было волнение в его голосе, что Юрий Всеволодович остановился и с удивлением стал слушать.
– Я ему написал, что надобно прежде подумать, зачем захотел он выйти из святого, блаженного, честного и спасенного места Печерского. Думаю, что Бог побудил его к этому, не терпя его гордости, и извергнул его, как некогда сатану с отступными силами, потому что не захотел Поликарп служить святому мужу, своему господину, а нашему брату, архимандриту Анкидину, игумену Печерскому, коему и я, раб Божий служил. Ведь Печерский монастырь – море. Не держит в себе гнили, но выбрасывает вон. Горе ему, что написал ко мне о своей досаде: погубил он свою душу. Спрашиваю его: чем он хочет спастись? Будь ты постник и нищ, не спи по ночам, но если досады не можешь снести, не получишь спасения!
Никогда доселе не слыхал Юрий Всеволодович в голосе владыки такой страстной внутренней силы. Вот она какова убежденность монаха: отвердение всего, что не иночество. Не только соблазнов тщеславия, но и воли собственной, хотения, поиска, даже только мысленного, другой жизни. Нет, не привычкой послушания, не утеснением – но любовью к родному монастырю это внушается и держится.
– Но, владыка, ты ведь и сам из того моря? – осторожно сказал Юрий Всеволодович, и, кажется, невпопад.
– Хочешь сказать, что и я гниль отверженная?
– Что ты! Да упаси Бог эдакое на тебя молвить!
– Ты просто хочешь знать, не жажду ли я туда вернуться, чтобы не печься ни о чем земном, желая одного небесного? Перед Богом скажу тебе, что всю славу и власть епископскую счел бы я за ничто, если б мне только хворостиною торчать за воротами или сором валяться в Печерском монастыре и быть попираему людьми. Так я и Поликарпу написал.
Юрий Всеволодович запоздало вспомнил, что именно он сам три года назад уговаривал Симона оставить игуменство в Рождественском монастыре и возглавить вновь созданную особую Владимирскую епархию.
– Отповедал я также Поликарпу, что совершенство не в том, чтобы быть славиму ото всех, но в том, чтобы исправить житие свое и сохранить себя в чистоте. Оттого из Печерского монастыря так много епископов поставлено было во всю Русскую землю. Если считать всех до меня грешного, то будет около пятидесяти. Рассуди же, – тут Юрию Всеволодовичу показалось, что владыка обращается уже к нему самому, а не к мятежному Поликарпу, – какова слава этого монастыря. Постыдившись, покайся и будь доволен тихим и безмятежным литием, к которому Господь привел тебя.
Только при последних словах открылось Юрию Всеволодовичу, сколь мудр и прозорлив его духовный отец. Эх, если бы еще уметь следовать его советам!
– А Верхуслава мне твоя пишет: не пожалею, мол, и тысячи серебра, если Поликарп епископом станет.
– Для кого – серебро? – тупо спросил Юрий Всеволодович, застыдившись за сестру.
– Для меня, вестимо, – засмеялся владыка, но без осуждения.
– Она всегда была своенравна и своеобычна, до всего ей дело.
– Она хочет сделать сейчас дело небогоугодное. Так ей и отвечу. Если бы Поликарп побыл в монастыре неисходно, с чистой совестью, в послушании игумену и всей братии, трезвясь во всем, то не только бы облекся в святительские одежды, но и небесного царства мог бы надеяться получить.
Юрий Всеволодович промолчал.
Они вышли на венец к городским воротам. Симон остановился и повернулся лицом к Волге. В багровых лучах закатного солнца противоположный берег высвечивался необыкновенно глубоко, так что окраина земли, к которой помыкало небо, отодвинулась в неоглядную даль.
– Смотри, сын, – совсем иным, детски восторженным голосом позвал Симон. – Всю Русь отсюда можно обозреть. Сам Киев позавидует… Вот где надобно было бы стольному граду встать! – И, смутившись, прибавил: – Мечтание такое у меня. Но только мечтание.
Юрий Всеволодович очень хорошо понял, что за мечтание.
Он жил в Городце, положившись на неминучее в земном пути предопределение судьбы, не ропща на свой жребий и не пытаясь предугадать дальнейшую участь, лишь свято веря в Божий промысел. И Симон поддерживал его в этом, часто говоря о неисповедимости путей Господних, все повторяя из Матфея: «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него».
Почему-то казалось, что владыка в этих словах о нуждах и прошениях видит не тот смысл, какой воспринимал сам Юрий Всеволодович, а больше, глубже, судьбоноснее. Будто и утешал своего духовного сына, но в то же время никогда не утверждал, что нынешнее – навсегда. И это странное мечтание о стольном граде здесь, на Волге…
Юрий Всеволодович гнал от себя эти мысли и догадки, иногда впадал в уныние, не находя просвета в жизни, иногда тайно надеялся на что-то, чего никак не решился бы высказать вслух.
Веря в бездну богатства премудрости и ведения Божия, епископ Симон был накрепко привязан к земле, к мирским будням и заботам. Любуясь пойменным лугом, буйно расцветшим после спада вешней воды, обронил будто ненароком:
– Грешно не использовать столь тучные пастбища. А рыбы-то в полоях!
Тогда Юрий Всеволодович призвал огнищанина и велел ему налаживать хозяйство, обустраиваться, как бы рассчитывая весь век здесь проводить. Огнищанин приехал сюда вместе с князем, но томился от безделия, не зная, надо ли ему надевать отличия дворецкого, потому как ни двора настоящего, ни хозяйства, которым ему надобно управлять. Он только и ждал княжеского слова – уже через несколько дней забегали по усадьбе бояре, дворяне, отроки и мечники княжеские. Огнищанин наряжал их по возможностям и пристрастиям: кого ключником и казначеем, кого постельничим, стольником, конюшим, седельником.
Уже к осени на княжеском дворе было две тысячи кобыл, полтысячи коней, а на гумнах несколько тысяч стогов сена для них. В амбарах, кроме жита, стали появляться разные товары, в том числе железо и медь. В скотницах – великих кладовых и в глубоких, со льдом бретьяницах скопилось несколько сот берковцев с разными ставлеными и ягодными медами: сыченым, обарным, черемховым, приварным, брацким, почти сто корчаг с греческим вином, которое доставили мимоезжие купцы. Они же в следующий приезд привезли разные заморские плоды, индийский перец, благовония. В платежных сундуках стало увеличиваться число богатых одежд, сапог сафьяновых, поясов, украшенных золотом и каменьями. Словом, жизнь пошла совсем княжеская. Вслед за купцами нашли дорогу в Городец камские булгары, мурома с Оки, меря и черемисы с левого волжского берега – везли мед, дичину, рыбу, пушнину.
А Юрий Всеволодович все ждал гостей из Владимиро-Суздальской земли, ждал вестей каких-нибудь значительных, которые всю жизнь его здешнюю налаженную перевернут, возвратят ей остроту, волю, да, прямо говоря, права возвратят, которые он потерял. «Несбыточно, нестаточно!» – твердил сам себе и все-таки ждал. Ни с кем думами своими не делился по-прежнему, лишь глядел жадным взглядом на уходящие вдаль дороги, не покажется ль гонец.
Только дважды за свою жизнь – в Городце и потом через много лет на Сити – испытал он тугое стеснение ожидания, душащее, дразнящее, все собой заполняющее.
И он дождался. Дождался ведь! Целый год длилось его терпение и молчание.
Сторожа углядела с крепостной стены, как на правом берегу спешились два всадника. Один остался с лошадьми, другой на легкой ладейке стал пересекать Волгу. Оказался дружинник из Владимира. Весть принес изустную:
– Великий князь Константин Всеволодович требует прибыть к нему немедля.
Юрий Всеволодович вскинул в мгновенном гневе густую бровь: требует? Но овладел собой, с незабытой властностью ответил:
– Скажи, буду. Елико возможно, скоро.
Он намеревался выехать верхом с тремя заводными лошадями, но Симон, кому верхоконная езда не дозволялась по сану, сказал, что надобно запрячь шестерик и ехать вместе.
Брод через Волгу имелся значительно выше, почти у Ярославля, так что немедля не получилось. Прибыли во Владимир лишь через две седмицы.
– Крест-то будешь целовать? – вдруг спросил Симон уже в виду городских стен.
– Н-не знаю… – неопределенно протянул Юрий Всеволодович, вспомнив, как на требование Мстислава Удатного целовать крест великому князю надменно ответил:
– Мне целовать вам крест невместно.
Но теперь?..
– Теперь-то, я думаю, надо быть выше злопамятства? Как думаешь, владыка?
Симон ничего не сказал, но еле заметно кивнул черным клобуком. После недолгого молчания произнес:
– Чаю, и не надобно это будет.
После этого долго ехали в безмолвии, пока Симон снова не разнял уста:
– Чаю, попросит он тебя принять великое княжение.
Сердце Юрия Всеволодовича стукнуло радостно и тревожно.
– С чего бы это вдруг?
– Правильно оценивая прошлое, верно будешь понимать происходящее, и тогда яснее станет будущее, – наставительно и несколько загадочно сказал владыка.
За год, что не виделись, брат очень изменился: лицо восковое, губы истончились, только глаза стали больше, блестели, как в жару, и метались по сторонам. Незнакомое, молящее выражение появилось в них.
– Дни мои изочтены, – сказал великий князь надтреснутым голосом.
Все мечты о возвращении престола показались теперь Юрию Всеволодовичу далекими, ненужными, грешными.
– Ничего, брат, Бог душу не вынет, сама не выйдет, – попытался он подбодрить болящего.
– На Бога и уповаю. – И немного погодя: – Устал я, Гюрги.
Что назвал детским именем, пожаловался на усталость в своем цветущем возрасте, блеск глаз и ослабевший голос так ясно подтвердили, что брат и в самом деле плох. Что сказать ему, чем утешить? Какую подать надежду? Сказать о своей внезапно вернувшейся любви, о сострадании? И это после того, что легло между ними? Как это сказать? И поверит ли он? Не примет ли за насмешку, злорадство: вот, мол, как ты наказан?
– Хочу, чтоб ты рядом был, Гюрги. Пора мне заканчивать земные расчеты. Страшно самому себе признаться, но конец мой близок. Пока жалую тебе Суздаль. Живи там. Думал, до Христова возраста дотянуть, да, видно, не судил Господь. В казне моей харатия положена, завещаю в ней тебе Владимир, а сыновьям моим малые волости.
– Куда торопиться-то? – тихо сказал Юрий Всеволодович. Продолжать разговор о престолонаследии, о передаче высшей власти в княжестве можно, только признав смерть нынешнего великого князя близкой и неотвратимой.
– Торопиться, конечно, не к чему, – без волнения продолжал брат. – Никто еще не отказывался солнышко видеть… Но у меня просьба к тебе. Исполнишь? – Он испытующе взглянул лихорадочными глазами.
– Все, что велишь! – вырвалось у Юрия Всеволодовича.
– Детей моих тебе поручаю. Стань им вторым отцом. – Все лицо у Константина как-то вдруг заблестело слезами.
Юрий Всеволодович подошел и обнял его без слов, испытав тоску и смрадное дыхание близкого небытия.
Константин Всеволодович скончался весной, не дожив до тридцати трех лет всего два месяца.
На вече во Владимире, как обыкли издревле русские люди решать дела важнейшие, горожане пригласили князя Юрия и присягнули ему на верность. Так, спустя два года, он снова вокняжился и сел на столе отца и деда.
Как издревле велось, великий князь устроил пир на весь мир: торжества шли не только во дворце – на всех улицах Владимира были расставлены в избытке меды, вино, крепкое пиво-перевар, всякие яства и овощи.
Епископ Симон вновь принял Владимирскую епархию. Благословляя Юрия Всеволодовича, в шутку посетовал:
– Теперь уж не искать нам с тобою рыжиков.
У епископа – строительство церквей и обустройство монастырей, объезд приходов и сбор десятины, рукоположения попов и дьяконов. Не только недосуг по грибы ходить, пришлось даже на время оставить творение Киево-Печерского патерика, подвигнув на дальнейшее описание жизни подвижников мятежного Поликарпа, который внял-таки суровому наставлению владимирского владыки и остался в монастыре.
У великого князя заботы – от объявления войны, заключения мира и наложения дани до оправливания своих людей судом и наказанием. Первые дни княжения посвящены были поставлению в должности: в тиуны, в посадники, в дворецкие, в тысяцкие; пришлось разбирать распри межбоярские, проверять сбор доходов в казну, который состоял из податей и пошлин, перемеров и истужников: одни из жителей погостов платили по назначенной мере, другие, победнее, – что могли заплатить, натужившись.
Устроив во своем дворе жизнь, в понятие которой входило все, что необходимо для существования: земли, службы, запасы, – Юрий Всеволодович выехал с ближними боярами и слугами на полюдье, чтобы окинуть хозяйским глазом все земли, на которые распространялась его власть.
А вскоре подоспел и боевой поход против камских булгар. Надобно было опять идти к Городцу, откуда вела дорога на камское устье.
Но прежде – в Муром! Он – по пути. Там – друг единственный, давний и верный. Еще при жизни отца Юрия Всеволодовича муромский князь Давид Юрьевич был надежным союзником и стражем суздальцев во враждебной Рязанской земле. Он первым узнавал о каждом заговоре рязанцев и не просто сообщал об этом Всеволоду Большое Гнездо, но и участвовал в его походах. Без колебания принял он сторону Юрия Всеволодовича, когда началась его вражда с братом Константином.
Город Муром славен многими примечательностями, но главное – его древность: как и Ростов, он известен с 862 года, как раз с того года, как начал свое государственное служение родоначальник княжеский Рюрик, прия власть всю един. Древностью своего города гордились все поколения муромских князей, отважно бились за сохранение независимости своей небогатой и на опасном порубежном месте расположенной отчины.
Сначала владимирцы шли прямиком через леса и поля, а вторую часть пути вдоль речки Колнь. Спустились до ее устья, намереваясь сделать привал на крутом берегу Оки. И уж начали ставить шатер, разложили костер под черным большим котлом, как Юрий Всеволодович передумал:
– Всего-то с десяток верст до Мурома, как раз успеем к обеду.
– Что-то не видать его, Мурома-то? – вяло усомнился тысяцкий.
– Вот туман от реки наверх подымется, и увидишь.
– Как бы не все пятнадцать верст, государь, а? – вмешался в разговор и стремянный конюх. – И лошади наши притомились.
– Так, а что дружина моя думает? – повернулся на седле Юрий Всеволодович в сторону участвовавших в походе бояр, мечников, кметей-телохранителей. Иные из них уже спешились, но, слыша слова великого князя, снова попрыгали на коней.
Первым отозвался дворовый челядин, который служил еще у Всеволода Большое Гнездо и научился с полуслова понимать желания своего господина:
– Что-то морит…
Дружинники вскинули головы – на небе ни облачка.
– Надо быть, к дожжу…
– Успеть бы, пока не ливанул!
– Видать Муром-то. Вона башня сторожевая.
– Жалеть коня – истомить себя! – Стремянный боярин резко взял на себя повод, сжал ногами бока лошади, которая послушно поднялась на дыбки, яростно мотнула тяжелой гривой и продолжительно заржала.
– Знамо дело, к чему кони ржут. Они ржут к добру.
– И к обеду…
– С медком сыченым, а?
Посоветовавшись на такой пошиб с дружиной, Юрий Всеволодович принял решение отказаться от привала и продолжить путь.
Шли уторопленной рысью, однако к обеду не поспели: город уже, по обыкновению, предался сну, ворота были закрыты, нигде не было видно ни единого человека, а на прибрежном лугу паслись без присмотра стреноженные кони.
Разглядев, кто прибыл, стражник на крепостной башне ударил в било. Совсем малое время спустя растворились ворота, а на глубокий ров перед ними лег подъемный мост.
Дворецкий провел высокого гостя прямо в опочивальню своего князя. Давид Юрьевич проснулся, отроки боярские суетились возле него: один натягивал на него сафьяновые сапоги, другой расчесывал его седую, без единого темного волоса голову, третий почтительно держал на протянутых руках отороченный соболем клобук и голубое с алым подбоем корзно.
– Не серчаешь, что сладкий сон нарушили?
– Како!.. Радешенек!
Поцеловались трижды накрест.
Как водится, устроил хозяин пир честной – в честь гостя, познакомил со своими домочадцами: с детьми и княгиней Евфросиньей.
О ней Юрий Всеволодович был наслышан, когда еще отроком был. Отец, помнится, рассказывал матери о том, как в Муроме сразу после совместного похода князей Давид Юрьевич женился на дочери древолазца, простого бортника за то, что она исцелила его от тяжелой болезни. Княгиня отличалась будто бы необычайной красотой и премудростью, однако же муромские бояре невзлюбили ее ясен ради своих. И вот, будучи навеселе, во время пира они начали издеваться над ней, говорили в глаза ей, что не желают видеть княгиней дочь крестьянскую:
– Возьми богатства довольно и иди куда хочешь!
Княгиня, не смущаясь и не робея, ответила:
– Что просите, будет вам, только и вы дайте мне, что я у вас попрошу.
Хмельные бояре пообещали.
– Ничего другого не прошу у вас, – сказала изгоняемая княгиня, – только супруга своего.
Князь Давид не имел обыкновения предаваться ярости от чего бы то ни было и жил строго по заповедям Божиим, потому без сопротивления покинул муромские просторы.
Вместе с супругой поплыли они в ладье по Оке, но уже на следующий день их догнали послы от бояр с известием, что в городе происходит великое кровопролитие из-за споров, кому княжить. Для прекращения общего бедствия послы от имени всего города просили князя и княгиню простить бояр, вернуться и править Муромом.
Не держа гнева, князь Давид вернулся властвовать. Конечно, женитьба на простолюдинке была делом редкостным, но совсем уж волшебством казалось то, что предшествовало этой женитьбе. Отец рассказывал, не скрывая изумления, даже сам не зная, верить – нет ли. И все, слушавшие его, пребывали в сомнении.
Встретив радушное, почти родственное гостеприимство, Юрий Всеволодович почел возможным расспросить о тех неправдоподобных слухах из жизни муромской четы.
– А где же, княгиня, тот заяц твой? – Юрий Всеволодович окинул взглядом все углы палаты.
Евфросинья тоже невольно повела головой вправо-влево, так что сделались видные длинные, полового цвета косы. Она тут же спохватилась, заправила волосы под убрус и ответила столь ловко в лад гостю, что тот не сразу сообразил, кто же над кем шутит:
– Не хорошо быть дому без ушей, а храму без очей.
– Как это?
– Вот и слуга князя муромского тогда не понял меня, когда сидела я в избе и точила кросна, а рядом тот заяц мой прыгал. А слова-то мои вовсе и не загадочны: как тогда, в рязанской деревне Ласково, так и сейчас оказалась я в простоте. Как тот слуга, так и ты вошел в мой дом и в хоромину мою вошел нежданно для меня. А если бы был в доме пес, он бы почуял чужого человека, залаял бы, не увидал бы меня слуга сидящей в светлице, а ты – простоволосой. Это дому – уши. А если бы было тут дитя, сказало бы, что ты входишь. Это – храму очи.
– А еще что ты сказала тому слуге?
– Что мать и отец мои пошли взаем плакать, брат же мой пошел через ноги зреть в навье…
– Покойник, что ли?
– И он, слуга Давидов, не понял тогда. А обиняк и тут не велик. Сказала я, что отец мой и мать пошли взаем плакать, так они пошли на погребение и там плачут. Когда же их смерть придет, другие по ним плакать станут: это заимодавный плач. А про своего брата я сказала потому, что он и отец мой – древолазцы, в лесу с бортей мед берут. Брат и отправился на такое дело. А лезучи вверх на дерево, надобно через ноги вниз на землю смотреть, чтобы с высоты не сорваться, не погибнуть.