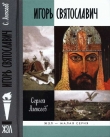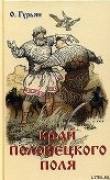Текст книги "Юрий II Всеволодович"
Автор книги: Ольга Гладышева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
На челе у всех – венчики с изображением Спасителя и предстоящими Ему Божией Матерью и Иоанном Предтечей.
– Живущий под яровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится…
После панихиды сразу и отпели.
– Плачу и рыдаю, когда размышляю о смерти и вижу во гробах лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту безобразною, безславною, не имеюща виду…
Маленький, словно игрушечный, гробик с Иваном Постником был отставлен в сторонку от одров его родителей, над ним батюшка Евстафий совершил особое отпевание, как над непорочным, безгрешным созданием. Нет нужды молиться об оставлении его грехов – их нет, а когда батюшка Евстафий произносит его имя, то поминает усопших Федора и Евпраксию, о которых блаженный младенец Иван Постник станет молитвенником как непорочный наследник Царства Божия.
Сын батюшки дьякон засомневался было, следует ли отпевать княгиню Евпраксию, сознательно лишившую себя жизни. Отец строго упрекнул его за нетвердое знание чинопоследования заупокойного богослужения: кто лишил себя жизни по неосторожности либо будучи невменяем из-за острого приступа душевного отчаяния, самоубийцами не признаются.
Отдали им всем последнее целование.
…Вот какова наша жизнь! Это подлинно цветок, это дым, это роса утренняя. Пойдем же на могилы и там посмотрим, куда делась доброта тела? Где юность? Где глаза и облик плоти? Все увяло, как трава; все погибло! Пойдем же, припадем со слезами ко Христу.
Принесли тела упокоившихея к великому Чудотворцу Николе Корсунскому и положили в едином месте и поставили над ними кресты каменные. И зовется о тех пор великий Чудотворец Николой Заразским по той причине, что благоверная княгиня Евпраксия с сыном Иваном сама себя заразила.
– Даруй, Боже, безбурие в лукавом море суетного и мерзкого жития. Страшно житие сие, люто море, и помышления, яко вороны, играют, – жаловался, стоя у кивота, владыка Кирилл. – Сам веси, Человеколюбче, о чем молю Тя. Упокой отведших к Тебе и живущих призри. Сохрани от дьявольска обстояния и неистовства вражеска. – Глаза его наполнились жгучею влагою. Торопливо утерев слезы, он мелко перекрестился со смиренным поклоном…
Что хочет разузнать великий князь от несчастного Глеба? Унижен человек безмерно и не восстать уж ему. Все внутренние скрепы в нем разрушены, и разум помутнен. Как душезнатец опытный, Кирилл это видел и не судил уже осужденного.
Но толмач, сидящий в порубе?.. О, тут что-то другое… Не полезнее ли было бы с ним, а не с Глебом иметь пространное собеседование?
Служка уже донес о прибытии в стан князя Святослава, о падении Рязани и о двух пленниках, захваченных Дорожем. Только один миг видел владыка Глеба, когда его вели на расспрос, лицо его дряблое, дрожащее, подобно тесту избитому. Одного лишь взгляда хватило, чтоб прочесть, что уготовано человеку сему. Стыдясь и за грех почитая, вспомнил владыка свой испуг: а вдруг попросит благословения? Но Глеб прошел мимо, усмехнувшись вкривую. Видно, давно уж привык жить без окормления духовного. Богоотступник отринутый – а жалость к нему остро когтила сердце, ибо предугадывалась обреченность его пути под водительством дьяволовым.
– Покаянию даешь время, Христе, нашу искушая любовь, – прошептал Кирилл в томлении. – Судьбы, Тобой ниспосылаемые, суть глубины великие.
– Владыка, – попросил служка, – дозволь служебникам и монахам облачиться в порты исподни овчинныя? Иные со студения изомроша беспортьем.
– Не возбраняем студения ради, – сказал Кирилл. – А разве они еще не забыли, что кожи животных носить им не можно?
– Ослабли от хлада.
– Руки и ноги ваши ослаблены, как в церковь идти, а на игрища и дела пронырливые убыстрены. – Зная за собой доброту, которой он и по нужде побороть был не в силах, владыка почитал необходимым выказывать иногда строгость самым неожиданным образом, чтоб трепетали и укорот заране имели. Но тут же и раскаивался и чуть ли не повиниться готов был. Поэтому быстрым переходом он сделался ласков и попросил служку проводить его с факелом в ставку великокняжескую, чтоб на толмача поглядеть, если он еще не спит.
– А хоть бы и спал! – ответил грубым голосом решительный служка.
– Вот ты, меншик, кем до меня был? – допрашивал владыка, поспешая за ним и недовольный его нечтивостью.
– Сначала батюшка урядил сады оплетать плетнями, потом соль вываривал. Мы из Соли Галицкой сами.
– Лучше в монахах-то?
– Трудно воде запруду прососать на перст, а там и пошла размывать, – загадочно ответствовал служка.
– Не знашь, покормили толмача иль просто так бросили?
– Собачье брашно ему, а не царский дар!
– Ты эти упражнения в речениях сильных брось! Монаху не приличествует.
– Да ведь он враг наш, владыка!
– Сорока молвит: я вчера у Бога была, нынче я буду мелких птиц судити.
– Понял, – засмеялся служка. – А вот, например, корчемники вино с водою месят. Их тоже осуждать нельзя?
– Любишь вино-то?
– Да так, просто для разговору молвил.
– Вино, возлиянное не по мере, люто. Новгородцы вон даже утвердили меж собою крестным целованием, чтоб играния бесовского не любити и бочек не бити.
Служка удивился и сказал, что у них в Соли Галицкой вино хранят не в бочках, а в корчагах.
– Вино – орудие диавольское для уловления слабых, – сообщил на это владыка.
– Да мы и не привержены, – потупился служка.
– Смотри у меня! – погрозил Кирилл.
У самой ставки служка осветил факелом лицо владыки и сказал, глядя в упор, со значением:
– Так думаю, толмач наш – ведец. Все вызнает, а за ним и ватага его нагрянет, и атаман ихний.
– Да мы его взаперти будем держать в темнице. Веди-ка его ко мне да огней поставь побольше. Мечники, пущайте пленного сюды!
Монгол вошел с достоинством, с поднятой головой, с прямым, бесстрашным взглядом узких агатовых глаз.
– Сядь! – указал епископ на лавку. – Кормили тебя?
– Хлеба давали.
– А меда?
– Этого нет.
– Но пьете ли вы меда да пиво? – начал владыка издалека.
– Арзу и харзу из молока пьем. Но не жадно. Ибо кто жаден к питию хмельного, тот потеряет и лошадь, и стада, и все добро свое, так что превратится в нищего.
– На, отведай меда нашего.
Служка живо налил из княжеского кувшина полчаши.
Монгол подошел шагами легкими, неслышными, протянул руку. Она была у него сухая и черная – то ли грязная, то ли отродясь такая.
Владыка даже отшатнулся.
– Давно ли в мыльне был?
– Где это?
. – В бане, где моются.
– Мы не моемся никогда, чтобы не противиться провидению и не гневить духов. Если смоешь грязь – смоешь и силу.
– А чем вы занимаетесь? Вы – скотоводы и владеете пастбищами?
Толмач отхлебнул и возвел глаза горе, как бы припоминая, чем таким они занимаются.
– Татары делают войлок и покрывают им юрты. Мужчины делают луки и стрелы, стремена и уздечки, строят повозки, объезжают лошадей и доят кобылиц, делают кумыс, шьют мешки для его хранения, сторожат и навьючивают верблюдов. Кожи они выделывают при помощи кислого молока. Женщины у нас обязаны править повозками, ставить юрты и снимать их, доить коров, делать масло и кислое молоко, приготовлять шкуры и сшивать их ниткой из жил. Они шьют также сандалии, башмаки и другое.
– Веруете ли вы в Бога?
– Да. Его зовут Начигай. Он бережет наших сынов и скот. Его делают из войлока и сукна и жену его тако же. Держат их в жилищах, питают хорошо и просят обо всем, что надобно. А еще духи предков из войлока и шелковых тканей, им тоже дают есть, пить и угощают сердцем зверя. Все предки Чингисхана тоже боги.
– Вы признаете, что у человека есть душа? – прищурился владыка.
– Даже две или три. Материнская душа плоти и отцовская душа кости. Она в чреслах помещается. Разрубить кость чресельную – убить душу. Грешники и убитые по злу делаются духами, приносящими несчастья.
– Откуда вы это знаете?
– Отец и мать передают нам.
– Кто же ваши предки?
– Серый бык и каурая лань.
Владыка не позволил себе ни малейшего намека на улыбку.
– А откуда вы происходите? Где ваша родина?
– Мы не называем себя татарами. У нас семьсот двадцать покоренных племен. Но мы, родившиеся на берегах Онона и Керулена, главные среди всех.
Владыка порылся в памяти, но ничего не вспомнил.
– А где это?
– Далеко! – неопределенно махнул рукой толмач.
– Вы богаты?
Толмач вдруг засмеялся, впервые поглядев в глаза епископу.
– Чему ты смеешься?
– Твоему вопросу. Мы никогда не поймем друг друга.
– Почему?
– Мы по-другому видим мир, чем вы. Следовательно, мы живем в другом мире.
– Зачем же вы завоевываете наш?
– По велению Неба. Наше могущество предопределено Вечным Голубым Небом. Высшее наслаждение, сказал Чингисхан, состоит в победе: покорить врагов, отнять их имущество, отнять их коней, жен и дочерей, заставить рыдать любящих их. Десять лет назад Чингисхан ушел от нас, с ним пошли сорок красивейших дев, вослед за его душой, подобной крылу отлетающей птицы. Он – наше божество. Но он любил мудрецов и отшельников тех племен, которые покорял. Поэтому я и говорю с тобою так прямо, так открыто, так пространно. Он знал, что люди верят в разных богов, и не запрещал этого.
Владыка Кирилл понял, что нет надежды ни на единую живую искру истины в таковой беседе. Правда, некоторая часть истины уяснилась, и состояла она в том, что толмач сей мыслит иначе, чем мыслил бы человек его судьбы и положения– Он не тот, за кого выдает себя. Душа его студеная и неверная. Сам он незнаемый и немилостивый.
– Вечное Голубое Небо мы называем Тенгри, – сообщил толмач, уже как бы любуясь, сколь много глубоких и важных знаний доверил он обмороженному русскому попу со светлыми проницающими глазами. – Мы знаем также очистительную силу огня, – продолжил он, – вы зажигаете свечи перед своими богами, значит, вам тоже доступно это понимание?
Владыке было равно отвратно возражать или объяснять что-либо. Поэтому он промолчал.
– Наши грамоты начинаются словами: Силою Вечного Неба повелеваем… Теперь уяснил, отчего так? Оно – источник жизни, вечный и правосудный правитель мира. Огонь же очищает не только от болезней, но от дурных мыслей и злых намерений. Вот причина нашей неуязвимости, спокойствия и сплоченности.
– Какова цель вашего существования, ваше назначение? – спросил владыка, чтобы прервать это грубое похвальство.
– Наше призвание – покорить весь мир, все земли, – был краткий и уверенный ответ.
Кирилл очень холодно усмехнулся.
– Теперь ты смеешься, – сразу заметил толмач. – Я говорил, мы не поймем друг друга.
– Ну, почему все-таки? Вроде оба мы неглупы… хотя и существуем в разных мирах.
– Потому что мы – высший народ. Вам недоступна наша преданность, наше отношение к жизни и смерти, к другим народам. Наконец, у вас не было такого вождя, как Чингисхан. Вы – неплохие воины, били хазар, половцев и даже ходили на Царьград, но такого, как Чингисхан, у вас нет и не будет.
– Мы когда-то почитали бога Сварога, чье имя тоже означает голубое небо, и его детей Сварожичей: Перуна, Велеса, они тоже идолы, как у вас, только их делали из дерева.
– Оказывается, есть кое-что похожее! – снисходительно заметил толмач. – Но Чингисхана, человека такой мощи, ума и величия, у вас даже и не может быть.
– Но у нас был князь Владимир, при котором крестилась Русь во Христа. Этот князь не устрашением прославлен, но милостив к нищим, сиротам и вдовам.
В этом месте толмач засмеялся и с любопытством поглядел на Кирилла: может, русские таким образом шутят?
– Он защитник слабых и помощник угнетенным, – продолжал владыка, не смущенный весельем татарина. – Мы не знаем смертной казни и пыток. Мы так любили князя Владимира, что прозвали его Красным Солнышком. Мы украсили свою землю храмами, возделанными полями. Вы оставляете после себя пепелища, разор и горе!
– Как нету смертной казни? – прервал Бей-Ким. – А кто зелье растворит на убитие человеку? Его разве не смертью карают?
– Этот закон есть, да. Но он не применяется. У нас нет отравителей.
– Чего ж тогда пишете?
– А ты много о нас знаешь, – заметил Кирилл. – Кто ты?
– Благоразумец с мудростию, приличествующей мужчине… Ты живописуешь мне ваш образец совершенства, – зевнул, может быть притворно, толмач. – Но чем доски, на которые вы молитесь, лучше идолов, которых свергли?
– Мерзко Богу такое окаянное дело, как идоловерие! – воскликнул епископ.
– Откуда знаешь? – лениво спросил татарин. Он поддерживал разговор, только чтоб время шло.
– Негоже то, что верою принято, дерзкими исследовать испытаниями. Господь во благе создал человека, но, видя его злобою привлеченным и оскверненным, дал нам святого Своего лица образ. Так на иконы преславное смотрение очам нашим дано. На иконе написание Христово мысленное, а не воображенное, на само чело Божие возметаем мы очи.
– Ты знаешь, среди татар тоже есть христиане. Только они зовут себя несториане, иоанниты, ариане.
– Это уклонившиеся от истины еретики! – с сердцем воскликнул владыка.
Толмач засмеялся:
– А вы одни знаете истину, да? Мы хоть допускаем, что истин много. Единый Бог является в разных вероисповеданиях разным народам, кто как может воспринять. Зачем горячишь мысль и голос? Пусть всяк верует по-своему.
– Истина одна. Истина во Христе, – твердо сказал владыка, заблестев глазами. – Любовь наша ничем поколеблена быть не может.
– Ты называешь любовью веру вашу?
– Именно. В ней главное – любовь.
– К кому?
– К Богу. К ближнему. И все, что из этой любови проистекает: терпение, милосердие, справедливость.
– Это вероисповедание рабов, – с превосходством сказал татарин.
– Христос – высшая свобода. Он смертию искупил грехи наши прошлые и будущие и открыл нам высшие степени свободы духа. Потому зовем Его Искупителем.
– Грех!.. Что такое грех? – поморщился татарин. – Тут можно мыслить и спорить бесконечно. Что одному грехом кажется, другому ничего не кажется, и он спокоен. Ты говоришь, истина одна, что Христос – Сын. Ну а Бог Отец, Вседержитель, Дух Святой, Троица, которой вы поклоняетесь?
– Единосущна! И живоначальна! – отрезал владыка.
– А наших царевичей тоже учат Евангелию, – сообщил толмач.
– Зачем? – изумился епископ, не подозревая, что ему самому когда-то предстоит крестить одного из этих царевичей, который даже станет русским святым, основателем монастыря в родной Кириллу Ростовской епархии.
– Н-ну, на всякий случай, – уклонился татарин. – Пусть знают. Не помешает. Ведь все христиане преклонятся перед нами.
– Никогда! – вспыхнул иерарх.
– Посмотрим… Жизнь впереди длинная, – лукаво улыбнулся толмач, не подозревая, что этому усталому попу жить еще четверть века, а ему самому лишь до утра. – Но мы начинали с тобой говорить о вождях, а ты мне – о крещении.
– Это самое главное событие в истории земли нашей во всю ее ширину, – торжественно и со слезой умиления изрек владыка Кирилл.
– Это история, и потомки рассудят, какое событие самое главное. А может быть, то, которое наступит через неделю… иль завтра? Иль нынешней весной?
– На что намекаешь? – встревожился Кирилл.
– Весной погибель вам, – без тени сомнения сказал татарин как о чем-то само собой разумеющемся.
– Господь рассудит, – постарался скрыть смятение епископ, а душа его испуганной ласточкой вся встрепенулась. – Ты лжешь, ведь ты в наших руках, подумай.
– Ну и что? Прикажете убить меня? Ведь у вас нет смертной казни! Но пусть даже убьете. Это ничего не изменит.
– Как ничего? И для тебя ничего?
– Хода событий ничья смерть не изменит.
– Не скажи! – недобро возразил Кирилл.
– Предопределения Неба не изменит ничто, – повторил татарин убежденно.
– Кроме князя Владимира, наши первые святые – его сыновья Борис и Глеб, убитые братом своим Святополком Окаянным, славные мужеством, красотой, милосердием и щедростью. Князь Борис сказал: не подниму руку на брата своего, не поставь, Боже, ему в вину смерти моей! Какая же сила духа! Какая кротость! Не хотели кровь лить в борьбе за престол и жизни свои принесли в жертву мира для, подобно Спасителю Распятому. Поэтому им дана благодать прощать и исцелять всякую муку и недуги. Они покровители и защитники наши.
Просвещенный татарин качал головой, как бы соглашаясь, но в то же время отнюдь не соглашаясь и презрение испуская из черноты глаз:
– Где отвага, монах? Где гордость? О какой силе ты говоришь? Покорность баранов, добровольно идущих на заклание! И ты хочешь, чтоб я восхищался? Что изменила их смерть в вашей безвестной и вялой истории? Чему научила народы? Да вы из-за этих мучеников-то своих едва не передрались. Сначала из-за того, в какой церкви их положить, потом из-за того, кто какому роду будет покровительствовать. Мономах-то едва умирил мятеж. И стал Борис покровителем его рода, а Ольговичи взяли себе Глеба. До того дошло, что Мономах в своем Поучении не упоминает Глеба, а в роду Ольговичей ни одного княжича не назвали Борисом. Ну и что? Кто-нибудь захотел повторить их судьбу? Их участь кого-нибудь удержала от новых браней и родственных распрей? А ведь все – Рюриковичи!
– А ты, оказывается, знаешь нашу историю? – удивился епископ.
– И как видишь, неплохо, – скромно усмехнулся толмач.
– Тогда ты, может быть, слыхал об Исаии Трудолюбивом, чьим подвигом жизни было безмолвие и непрестанный труд? Вот каких людей мы почитаем и примером для подражания признаем.
– Нет, про Исаию не слыхал, – зевнул Бей-Ким. – Не в том дело, что я воин, а ты священнослужитель. Монах может сражаться как лучший воин. Отважный воин может стать монахом. Не столь уж эти миры несоприкасаемы. Дело в мироотношении, дело в том, что почитать ценностью, в целеполагании.
– Меньше всего нашу историю можно назвать вялой. Мы постоянно в бурях. С юга – печенеги, половцы, Черные Клобуки, на западе иные враги рыщут. Теперь вот – вы. А земля наша красно украшена, возделана и обильна. Оттого и соблазны великие нас захватить и пограбить. Мало быть отважными, толмач. Мало быть ратником искусным.
– Отвага – все! – поспешно перебил татарин.
– Не все! Еще терпение. Еще добромыслие. Еще любовь! Не только ко своим щеням, но ко всем людям, во грехах и заблуждениях погибающим. А ты думаешь, подвиги в том, чтобы семьсот племен под ярмо свое подвести? Может быть, вы и сильны, и сильнее всех нас во много. Но пылью развеетесь в назначенный час. Ибо ваше целеполагание ложно. Вы можете ужаснуть вселенную, но никогда вам не вызвать ее восхищения. А сейчас и страх мой перед вами почему-то совсем прошел. И стало мне скучно с тобою говорить.
– Мне было скучно с самого начала, – поспешно сказал Бей-Ким.
– Стража, уведите его! – распорядился владыка.
– А вы будете опозорены навеки! И сами рассеяны, как полова! Покоритесь и исчезнете с земли, памяти не оставив! – с радостной злобой кричал татарин, толкаемый в спину и под зад веселыми стражниками. – Хорезм исчез! А вы кто перед Хорезмом!
– Режут его, что ли? – раздался вдруг властный голос.
Вошли великий князь и Василько. С ними Жирослав Михайлович и протрезвевший к этой поре сивый ростовский боярин. Увидеть снова владыку Кирилла ему было стыдно, потому он с ходу накинулся на толмача:
– А эта тварь косоглазая что тут делает?
– Казнить хотят и пыткам подвергают! – завизжал тот в сторону Юрия Всеволодовича.
Стража остановилась, опустив руки, не зная, что делать.
– Оставьте его! – сказал великий князь. – Пусть пьет и говорит.
– Не трог, сбрешет чего! – поддержал сивый боярин без надобности, а просто из уважения к великому князю и желания показать презрение Бий-Кему.
Все опять сели.
Тут снаружи послышался шум и пререкания. Ввалились, толкая плечами друг друга, сыновцы.
Василько рассерженно сказал:
– Не соглашаются все малые дружины собрать в одну, каждый хочет под своим стягом.
– А почему это я должен тебя слушаться? – ершисто возразил Всеволод.
– Он думает, если старше, так и умнее нас! Не стану я под его стяг! – заявил Владимир тонким суровым голосом.
Юрий Всеволодович слушал в сокрушении. Вот оно горестное: се мое, а то – мое же…
– Замолкните оба! – велел он им.
Бий-Кем морщил в улыбке желтое лицо, но взгляд узких глаз оставался непроницаем.
– Хочу знать о твоем народе, – сказал Юрий Всеволодович. – Не стану выпытывать и допрашивать. Пусть будет беседа без недоброжелательства. Возьми чашу полную и не бойся… Ваш полководец – Чингисхан? Расскажи о нем и хорошее и плохое.
– Плохого нет, только хорошее, – заявил монгол, опрокидывая чашу и чмокая. – Даже не просто хорошее, а великое.
Сивый боярин с жадностию глядел, как он выпивает – тоже хотелось, но не смел попросить и делал вид, что владыки Кирилла здесь нет.
– Чингисхан был главою народов, живущих в войлочных кибитках, – начал Бий-Кем. – Они разводили рогатый скот, коз и лошадей. Табуны коней – это главное богатство. Силу войска монголы определяют по тому, сколько лошадей. Самое важное сохранить коня в теле, чтоб не худел, не болел, был вынослив и быстроног… Чингисхан говорил: прежде у меня было только тридцать человек ночной стражи и семьдесят моих охранников, ныне ж Небо повелело мне править всеми народами. Он заботился о них, строил дороги и караван-сараи. Купцам было так безопасно, что, как говорил сам Темучин, можно было везде и в любое время носить на голове сосуды, наполненные золотом, и не быть ограблену… К концу жизни им были покорены семьсот двадцать народов, войска он имел сто двадцать тысяч. В нем должны служить все монголы, способные носить оружие. Храбрым и умным Чингисхан вверял войска, рачительным – хранение обозов, неповоротливым велел смотреть за скотом. Монголы лучше всех стреляют из лука с коня. Когда нет войны, татарские ратники работают, расчищают дороги, но домой их не отпускают. Оружие – не их собственность, оно общее и хранится отдельно. После похода каждый обязан сдать оружие.
– У нас так же, – кивнул Юрий Всеволодович.
– Но у них войска постоянны, а у нас токмо дружины, – возразил Жирослав.
– Семьсот двадцать покоренных народов могут прокормить такое войско, а мы – нет, если его все время содержать, – вмешался Василько.
– Это еще как сказать? – о чем-то думая, оживленно отозвался воевода. – Если бы всем князьям договориться да попробовать эдак-то…
Юрий Всеволодович только усмехнулся: эх, Жира, иль ты наших не знаешь?
– Как их можно было бы выучить! – мечтал Жирослав Михайлович. – Наши воины храбры, но малоопытны.
– Дружин хватит! – важно сказал протрезвевший сивый боярин. – Как делали, так и будем. Покамест никому еще не покорялись, ото всех отбивались, а захватывать чужое грех! По обычаю, оно вернее будет.
Бий-Кем самодовольно слушал рассуждения русских.
– Расскажи теперь об оружии, – обратился к нему великий князь.
– Допрежь всего, конница. Тяжелая и легкая. Пеши не бьемся. Чингис нам не велел. Тяжелая конница бьется. Легкая конница – сторожа. Очень много берем заводных лошадей. С ними можно двигаться быстро и на большие расстояния.
Русские переглянулись. Не понравилось им это. Но толмач хорошо был наставлен своими, что сказать и сколько, чтоб встревожить и напугать. Поэтому он продолжал:
– Преследует бегущего противника всегда конница легкая. От нее не уйти, и она беспощадна. Главное оружие – лук. У каждого воина их несколько. Запасных и колчанов со стрелами – тоже. Стрелы очень острые: у каждого воина есть пилка особая, и он постоянно подтачивает их. А еще у каждого шило, иголки и нитки, сито, чтоб просеивать муку и воду мутную процеживать. Мы не зависим от родников и чистых речек. Можем хоть из болота напиться. В одном кожаном мешке – вода, в другом – сушеный кислый сыр и еще небольшой котелок, чтоб варить мясо. А если совсем есть нечего, то пускаем лошадям кровь и пьем ее.
При этих словах слушатели содрогнулись от отвращения. Бий-Кем с удовольствием это пронаблюдал.
– Так, питаясь одною кровью, можем существовать десять дней, – прибавил он.
– Выносливые собаки, – тихо заметил Мирослав Михайлович.
Не знали русские, что пленный умалчивает, сколько соглядатаев оставлено татарами еще со времен битвы на Калке, сколь хорошо разведаны ими дороги, сосчитан каждый воз, прибывший на Сить, схоронены в окрестных лесах запасы пищи, намечены места дневок и ночлегов и легкая конница уже два дня шныряет незамеченная вокруг табора. Даже засады подготовлены.
– А еще у всадников есть особые крючья, чтоб ваших с коней стаскивать и наземь повергать, топча, – вспомнил толмач для пущего устрашения. – А щиты из толстой и крепкой кожи буйволиной. И греческий огонь есть, чтоб стены городов зажигать, и стрелы зажигательные, и порох, чтоб взрывать.
– Порох? – удивился ростовский боярин. – То есть прах? Как это, пыль взрывать?
– У китайцев научились. Ведь мы весь Китай завоевали! – похвастал толмач. – У нас детям лук дают с трех лет. И жены на охоту ездят и в походы – с мужьями. Кто непослушен, того наказываем строго. А меткость у лучников такая, что любой птицу влет убивает. Хорезм – наш, Бухарское царство и Самарканд, Армения, Иверия – наши и тако пребудут. Не бывало на земле такого народа, как мы. Не зная жалости, простираемся на всех, подобно туче, которую гонит ветер. В Бухаре было двадцать тысяч войска, в Самарканде – сорок тысяч. Мастеров-искусников мы обратили в рабство, остальных истребили, даже и младенцев в утробах матерей. Ургенч – главный город хорезмийцев – сопротивлялся семь месяцев. Но сын Чингисхана Джучи привел к нему пятьдесят тысяч – и он пал. Довольно ли?
– Кто идет на нас? – бесстрастно спросил Юрий Всеволодович. – Опять Джучи?
– Теперь пришел сын Джучи – великий Батый, с ним опытный полководец Субудай. После разгрома булгар, мордвы и половцев мы откормили лошадей на Дону, и нет нужды ждать весны. Зимой ваши дороги вполне проходимы, а оборона ваша затруднена. Суди сам, князь, кто перед вами! Мы не ищем больших сражений и сильного врага избегаем. Мы распыляем противника и уничтожаем по частям. Наши союзники – обман и коварство, ласкания лукавые. Против них не устоит ничто. Мы на Руси всюду… Изъявляющих покорность все равно убивают, ибо побежденные не могут быть друзьями победителей: смерть первых нужна для безопасности вторых.
– Теперь твоя собственная история, – с железом в голосе сказал великий князь, про себя подумав: что это он так разоткровенничался?
– Мой жребий таков, – охотно отвечал Бий-Кем. – На Калке я тоже толковином был. Когда русские перебили наших послов, я уцелел, потому что молил о пощаде. Батый с войском ушел, а я остался с кипчаками и русскими.
– Полюбил их? – с насмешкой спросил Юрий Всеволодович.
Монгол беспокойно ворохнулся на скамье, но продолжал смотреть при этом прямо и смело.
– Нет. Не по своей воле я остался. Тот поход Батыя был легкий. Подрались маленько да разошлись. Главное было разузнать, что за Русь такая, что за народ. Хан понял, что наскоком вас не завоевать, надо силу большую собирать, вызнать все заранее. Для того меня и оставили.
– Как он не боится во всем признаваться? – прошептал Всеволод младшему брату.
– Ишь, брада какая редкая, а ноздри распыряны. Противный какой! Языком так и жалит.
– Пророк прямо… А батюшка Юрий Всеволодович простоватым прикинулся. Эх, выпить хочется!
– Ничо! – мрачно сказал Владимир. – Разводье скоро. Перетонут поганые, вдырятся во льдах речных да болотах.
– Скорей бы уж! – вздохнул Всеволод. – А дядя Святослав спит, и ништо ему…
– Отчего ж именно тебя оставили, сука? – спросил Жирослав, сузив и без того невеликие очи.
– Оттого, что я не только по-русски толкую. Знаю и другие языки: венгерский, куманский, сарацинский.
– Зачем же столь много?
– По лукоморью разные купцы и послы ходят. Три года назад в Южную Русь приезжали четыре монаха из венгерского монастыря в Пеште. Поиздержались они в пути, прямо сказать, нищи соделались, и решили два брата, Юлиан и Герард, других двоих братьев в рабство продать. Я их купил и отправил в Каракорум, а сам с Юлианом пробрался в Волжскую Болгарию. Герард у нас по пути скоро помер.
– А зачем эти братья-то приходили?
– Я тоже не сразу понял. А потом гляжу, Юлиан все у меня выспрашивает. Признался мне, что их папский легат прислал. А зачем? После того как мы вас на Калке разбили, слух об этом до Рима дошел и беспокойство там вызвал. Прямо сказать, перепугались все: если даже русские разбиты, значит, враг неслыханно силен. Вот и прислали лазутчиков. Юлиан им сообщает: готовится новое вторжение в русские земли, а потом татары пойдут дальше в Европу.
– Постой, постой! Отчего ж мы на Руси в неведении были?
– Доверчивы и простодушны вы, – снисходительно улыбнулся Бий-Кем. – И самонадеянны, надо сказать. Очень уж в свою силу верите.
Юрий Всеволодович не мог скрыть озадаченности:
– Так ты один, что ли, остался в половецкой степи?
– Зачем один? Со мной еще с сотню лазутчиков было. Но мы не знали друг друга… ну, как будто не знали. Мы среди степняков прижились, за своих сходили. А туда, в Каракорум, слали донесения со своими людьми.
– И что ж ты доносил?
– Разное… – слегка замялся Бий-Кем. – Что русские народ хоть и доверчивый, но крутой. Что князья дерутся меж собой, как псы из-за мозговой кости.
– Но-но, тварь татарская! – построжал Жирослав.
Бий-Кем покосился на него, но продолжал говорить размеренно, ровно, без спотычки:
– Раз недружно живут, значит, можно их всех поотдельности перебить.
– Это ты так думаешь? – тоже ровно спросил Юрий Всеволодович.
– Таково было мнение курултая.
– Курултай это кто?
– Это по-вашему съезд князей.
– Ага, – сказал Юрий Всеволодович.
– Что ваш курултай постановил, нам плевать, – оказал Жирослав Михайлович. – А ты-то чем занимался?
– Я всего лишь узнавал, где какие реки, болота, леса, как города укреплены, сколько верст от одной крепости до другой.
– И все доносил… – глянул исподлобья великий князь.
– Не я один, все доносили. А одноглазый Субудай все на пергаменте начертал: дороги, города, даже пастбища. Такие пергамента у каждого мии-баши, то есть тысяцкого по-вашему. А также у юз-баши и он-баши, то есть у сотников с десятскими.
Князья переглянулись, это не ускользнуло от Бий-Кема, он торопливо добавил:
– Четырнадцать лет хан Батый с девятью чингисидами готовил этот поход, все учел. – Бий-Кем взял чашу с медом и не спеша, со вкусом допил.
Князья подавленно молчали.
– А сюда, на Сить, ты тоже как лазутчик явился? – В голосе Юрия Всеволодовича угадывалась опасная угроза, но Бий-Кем не дрогнул, только ворохнулся на скамье, уселся поудобнее и сказал с улыбкой:
– Дозволь одежду снять, мед горячий в пот кидает. – Он сбросил собачий малахай о головы, распахнул долгополую собачью же шубу шерстью наружу.
– Я тебя о чем спрашиваю?
– Счас, счас!.. Как пришли к реке Воронежу отряды Субудая, я влился в десятку воинов, у нас ведь воины строятся в десятки, а из них сотни, из сотен – тысячи. Не понравилось мне в десятке – одни там татары да уйгуры, я в другую перешел. Забыл я, что этого ни в коем случае делать нельзя, тяжкое наказание за это последует: кто допустил переход, того заковывают в оковы, а кто перешел, тому казнь, сердце вырывают.