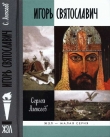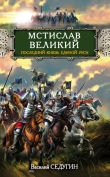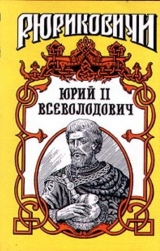
Текст книги "Юрий II Всеволодович"
Автор книги: Ольга Гладышева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
Не ему одному не терпелось поскорее поглядеть на новорожденного – все братья и сестры толклись возле дверей в надежде проникнуть в горницу к матери. Но она позвала к себе только Юрия.
Мать была не одна – возле слюдяного окна сидела на треногом стольце кормилица, держа на руках запеленутое дитя. Юрий заглянул в его личико, убедился, что еще не понять, в кого этот новый Иван уродился, потом подошел в лежавшей на постели матери. Она была иссиня-бледной, глаза в черных окружьях глубоко утоплены и неподвижны. Она не улыбнулась, как обычно, при виде сына, только пошевелила бескровными губами:
– Сядь на краешек.
Он примостился рядом с ней, испытывая смутное и необъяснимое беспокойство.
– Что делал нынче?
– Мы с дядькой к заутрене ходили. Я молился Спасителю и Святому Георгию… И Матери Божией…
– Хорошо, сынок. Молись и веруй. Но не только. Одной-то веры мало.
– Как это, мамушка? Почему?
– Сказано ведь, что и бесы веруют и трепещут. Надобно не только веровать, но не уставать добро делать, чтобы спасти душу.
– Я, мамушка, буду делать и не уставать, вот увидишь!
На ее лице обозначилась слабая, болезненная улыбка, и тут же она чуть вскрикнула и запрокинула голову на высокие подушки.
– Ну, все, иди, княжич, с Богом! – велела кормилицу.
Юрий вышел из покоев матери, за дверями его ждал один только дядька. Он сказал:
– Все братцы твои побежали во двор делать снежную горку для сестриц, поспешай за ними.
– Не хочу. Мамушка велела мне добро делать, а как его делать, дядька?
– Да просто, не чини зла, и все.
– Она сказала: делать.
Дядька задумался.
– В перелом, в среду значит, будет разгул. Знаешь?
– Ну?
– Блины печь почнут. Ты с первым блином что сделаешь?
– Съем.
– Вот. А ты не ешь, а нищему отдай, человеку Божьему. Это и будет дело доброе.
Юрий еле дождался разгульной среды. С самого утра стерег возле поварни, наказал строго, чтобы ему дали непременно самый первый блин. Получив его, ноздрястый, масленый, обжигающий руки, выскочил к Золотым воротам, где обычно собиралась нищая братия, живущая Христовым именем. Нынче побирающихся было особенно много. Юрий прошел мимо одноглазого старика, отвернулся от девки с младенцем на руках и остановился перед замерзшей, в дырявом платке сироткой.
– На тебе первый блин!
– Спасибо, княжич!
– Самый первый, самый сладкий! Сам хотел съесть, да дядька не велел, сказал, нищим отдать надо.
– Спаси тебя Бог!
Юрий был горд, рассказывал во дворце и братьям с сестрами, и челяди:
– Я выбрал саму-самую нищую! Она так обрадовалась!
В широкий четверг навестил мать и ей сообщил:
– Я сделал доброе дело, дал сиротке первый блин.
– Молодец, – похвалила мать. – А что сказал ей?
– Сказал, что он первый и самый сладкий, что сам не стал есть, для людей Божиих оставил.
– Сынок, не надо унижать берущего. Надо, чтобы он радовался.
– Она и обрадовалась! Три раза благодарила, так была рада.
– Ты еще кому-нибудь рассказал об этом?
– Всем-всем! Братьям, и дядьке, и батюшке! – гордясь, сознался княжич.
Мать посмотрела молча и печально.
– Помогать страждущим надо так, чтоб левая твоя рука не знала, что делает правая. Запомнишь? Завет Иисусов – не творить милостыню перед людьми с тем, чтобы они видели тебя.
Мамушка моя, болезная и труждающаяся! Удивительно терпение твое в страданиях телесных, не раз ты сравнивала себя с Иовом, удивительная твоя терпеливость и любовь, с какою ты пестовала детей своих; твоя покорность и преданность супругу была примером женам и завистью мужей. Почему столь поздно постигают дети родительскую правоту, своеволие свое усмиряя? Веселое время – молодость остроглазая, буря чувств и плотских утех, сколько раскаяний оставляешь, уходя! Святое невинное время детства, как спешим расстаться с тобой: скорей бы походы, пиры, сватовство и всякая гульба! И стремительное время старости, все знающее, печальное и тревожное, все вместившее в себя, всему определившее цену! Я жду тебя, ты – на моем пороге. Но как бы ни перебирал в памяти я свою жизнь, ничего не нахожу теплее усталого взгляда мамушки. Под этим взглядом я всегда прав, во всем чист, вечно – дитя. Но почему всегда, почему, вспоминая тебя, хочется просить прощения? Как бы ни любил тебя, все мало, как бы ни старался, все несовершенен, как бы ни стремился жить по правде, все равно наделал ошибок. Самое светлое мое, самое сокровенное – ты, мамушка. И самое невозвратное.
В неделю – день, когда никто ничего не делает, были проводы масленицы, и все просили друг у друга прощения. Юрий зашел сначала к отцу, поцеловал его в щеку, где жесткая борода начиналась, сказал с низким поклоном:
– Прости меня, батюшка, за все-все, ради Христа.
Отец поцеловал сына в макушку:
– И ты, сынок, прости меня, ради Христа, буде я виновен в чем перед тобой.
После этого пошел Юрий к матери и у нее попросил:
– Прости, мамушка, что я трубил про блин…
Она лежала, все такая же беспомощная, была еще бледнее, чем в четверг, и улыбка у нее не получилась, только уголки губ чуть заметно приподнялись:
– И ты меня прости, что родила я опять братика тебе, а не сестричку, как ты хотел.
– Ну, в другой раз родишь, – посоветовал он.
Она долго не отводила от него неподвижный взгляд, через силу качнула головой, прошелестела:
– Нет уж, сынок… Иди с Богом.
Он ушел, впервые испытав тяжесть в душе и беспокойство за мать. А с началом Великого поста во дворце только и разговоров было, что о трудной болезни великой княгини.
Отец послал в Киев за прославленными армянскими врачами, со всех городов и весей призвали целителей и знахарей, из дальнего монастыря привезли инокиню, знавшую травы и коренья для излечения недугов. Инокиня все снадобья готовила открыто и с молитвой. Знахарка из Суздаля тоже молилась и заставляла больную повторять за нею молитву, но заговоры свои произносила таинственным шепотом, постоянно пугливо озираясь по сторонам из опасения, как бы не подслушал ее дьявол. Наконец она решила прибегнуть к относу: снять с больной повойник, отнести его в лес и повесить на сучок, чтобы недуг ушел в дерево. Но княгиня не разрешила.
– Не хочу, – сказала, – а вдруг кто неосторожный возьмет повойник и захворает, как я?
– Мы стеречь будем, чтоб никто не взял.
– Нет, не хочу.
Знахарка тайно все-таки отнесла повязку, но болезнь не ушла. Матери становилось уже совсем невмоготу, она почти не вставала с постели.
Привезли из Киева армянского врача. Это был низенький старичок, высохший и почерневший от волнений и невзгод. Он держался чинно, вникал в расспросы великой княгини долго. Сказывали про него, что он, лишь взглянув на человека, определить может, будет жить иль умрет, а если видел, что больному суждено умереть, то и срок предсказывал. Глаза у старичка были черные, страшные, хотя лицо доброе. Уставив эти глаза на великого князя Всеволода, врач сказал, что излечить его жену невозможно, однако жить она будет лет пять, а то и десять, если пользовать ее дорогими лекарствами из Александрии и Царьграда. А потом он погладил княжеских детей по головам и уехал.
Мать проболела восемь лет. Муки ее были тяжкими, хотя она старалась скрывать их, не тревожить тех, кто о ней заботился. Когда боли стали вовсе нестерпимыми, она попросила постричь ее в монахини.
Великие княгини на Руси часто принимали ангельский образ, но лишь после смерти мужа. Уход в обитель от супруга здравствующего было делом неслыханным, но мать настояла на своем. Она, знать, чувствовала приближение кончины: постриглась в черницы и схиму второго марта, а девятого, через неделю, уже предала душу свою в руце Божии.
На похоронном причете плакальщицы причитали и вопили, пересказывали всю трудную жизнь почившей. Ее все любили при жизни, но никогда не воздавали таких почестей, как над гробом: величали русскою Еленою, второю Ольгою… А монастырский летописец прочувствованно записал:
«Постриглась великая княгиня в монашеский чин в монастыре Святой Богородицы, который сама построила, и проводил ее до монастыря сам великий князь Всеволод со многими слезами, сын ее Георгий, дочь Верхуслава, жена Ростислава Рюриковича, которая приезжала тогда к отцу и матери; был тут епископ Иоанн, духовник ее игумен Симон и другие игумены, и чернецы все, и бояре все, и боярыни, и черницы из всех монастырей, и горожане, все проводили ее со слезами многими до монастыря, потому что была она неизреченно добра для всех. В этом же месяце она умерла, и плакал над нею великий князь, ибо излиха любя ее, и сын его Юрий плакал плачем великим и не хотел утешиться, потому что был любим ею».
Самой знаменитой, какой еще не бывало на Руси, стала свадьба Верхуславы. Предсвадебные торжества начались сразу после Пасхи, когда отец жениха киевский князь Рюрик послал своего шурина с женой, тысяцкого и многих бояр тоже с женами в Суздаль за Верхуславой, чтобы везти ее в Белгород, где княжил его сын Святослав Рюрикович. Всеволод Большое Гнездо отдал свою дочь и устроил большой пир на Борисов день. С этого дня соловьи запевают: и ночи роскошны, и утра румяны, и вечера душисты.
Одарив сватов и отпустив их с великою честию, князь Всеволод ехал за милой дочерью до трех станов, и на каждом стане снова продавали невесту. В Белгород прибыли в конце сентября, и тут наконец повенчали строптивую Верхуславу.
Увидав алое лицо жениха юного, улыбку лихую, не скрывавшую некоторую неполноту зубов, княжна сменила гнев на милость и позабыла свои обещания супить очи, как медведица, и ввергнуть жениху горшок на голову.
Как не помыслить княжескую жизнь без боевых походов и охот, так обязательны в ней беспрестанные пиры. Многолюдные угощения с обильными медами и изысканными яствами задавались князьями непременно во время всех духовных торжеств – на Великий день, Рождество Христово, Троицу, иные двунадесятые и престольные празднества, а также при закладке и освящении церквей. Еще чаще устраивались пиршества семейные, и тогда на званые обеды по случаю пострига и посажения на коня княжеского отрока, именин и крестин, во славу победы на ратном поле или установления мира между враждовавшими соседями съезжались во Владимир гости из разных ближних и дальних земель. Задавали пиры, связанные со сговором, заручьем и свадьбами – велика семья Всеволода Большое Гнездо, а родню, ближних бояр, друзей да союзников и не перечесть.
Всякий пир длился три дня, а то и всю седмицу. Случались даже и еще продолжительнее – это пиры свадебные, и гостей такого празднества так и называли: пиряне.
Много дней играли сестрину свадьбу, на которой одних только князей присутствовало больше двух десятков.
Дошла очередь и до старшего сына Константина. Меньшие братья начали его поддразнивать, как делали это всегда при сватовстве сестер:
– Женится медведь на корове, рак на лягушке.
– Родился малешенек, женился глупешенек.
Не то чтобы находили женитьбу стыдной или зряшной, скорее наоборот: зная, что и их этот жребий не минует, присматривались, как улаживаются браки, но пристальное внимание свое прятали за нарочитой грубоватостью.
Сестры обыкновенно очень сердились, даже в рев пускались, а Костя – вправду ли, внарошку ли – остался невозмутимым и даже пошутил:
– От пожара, от потопа, от жены – Боже охрани! – А отцу сказал: – Рано мне женой обзаводиться. Зачем это?
– Эка, рано! Разве ж это рано? Одиннадцать годов скоро, вот так рано! Верхуславу мы сосватали осьми лет всего.
При этих словах отец как-то странно переглянулся с матерью, – видно, сами считали, что рано любимую дочь в чужую семью отдали.
– Как хоть невесту-то зовут? – захотел узнать Костя.
– Мстиславою, – улыбнулась грустная матушка.
– Хм… – сказал Костя.
– Я уж уведомил, что едем свататься, – продолжал отец. – Примерь-ка ожерелье, кое тебе к случаю золотошвеи соделали.
Дорогое шейное украшение было Косте великовато, и оттого его шея казалась особенно тонкой и слабой. Больше возражать он не посмел. Верхняя губа его дернулась, он сглотнул слезы и потупился.
Так стало жалко брата и почему-то страшно за него, что запомнилось на всю жизнь. Когда впоследствии увидали его невесту-ровесницу, и ее стало жалко, испуганную, в жемчужной густой поднизи, спадающей на детский лоб и виски. Лишь через четырнадцать лет родили они с Костей сына Василька, потом еще двоих сыновей, а овдовевши, Мстислава не надолго пережила мужа, всего года на полтора.
Костю, конечно, продолжали дразнить озорства ради, но следующий за ним брат Юрий женился поздно, и отец не пытался ускорить его выбор, а матушки уж и на свете не было к этой поре. Став взрослым и заимев собственных детей, Юрий никак и никогда не нудил их к заключению ранних браков.
Сваты готовились к поездке в Смоленск за невестой. Костя, кручинясь и томясь, уговаривал своего дядьку и брата Гюрги как-нибудь разузнать, что хоть за невесту ему выбрали, но этого никто не знал, а кто знал, молчал, потому как сговор велся, по обыкновению, за глаза.
Увидел он свою будущую супругу на третий лишь день после того, как сваты привезли ее во Владимир.
Отец с матерью встретили новых родственников караваем хлеба с солонкой наверху: хлеб пекли несоленым из-за страшной дороговизны этой приправы, так что каждый едок торовато присаливал себе по вкусу.
– Отведайте, дорогие гости, того и сего, – слышал Костя, а сам шарил глазами по разряженной толпе гостей: где она, которая?
– Хлеб-соль берем, а вас пировать зовем, – отвечала, отщипнув поджаристую корочку пирога, толстая и нарумяненная женка.
Гюрги, растопырив глаза до невозможности, прошептал жениху:
– Глянь, кака писаная, не иначе, она! Красавица, Коськ! Повезло тебе, а?
И Ярослав лобастенький в другое ухо жениху василиском шипит:
– Даже не сомневайся, она! А кто же еще-то?
Костя даже не отмахивался от шутников, головой вертел, как птенец в гнезде, в глазах у него рябило: понаехали боярыни все на одно лицо, все в красном уряжены, брови черны, щеки багровы, глаза рыскучие.
Тысяцкий, муж степенный, сжалился над ним, сказал, что спрятана покамест невеста в дальних покоях дворца, и до венчания глядеть ее, разглядывать не полагается, стыдно сие.
Костя смирился, но ходил как потерянный, в обед вкушать ничего не желал, после обеда не почивал. За два дня похудел, ланиты у него ввалились, глаза тоже ввалились, стали горькими, отчужденными.
И надо бы посочувствовать отроку, но не на смерть же его готовят, а к событию радостному!.. Только матушка одна его понимала, от себя не отпускала, все тихонько убеждала в чем-то, дорожки мокрые на щеках незаметно вытирала. Подолгу он в покоях у нее оставался, а когда выходил, то, казалось, не понимал, что это из-за него такая суматоха во дворце, удивлялся, зачем так много съезжается и съезжается гостей, спрашивал, почему тысяцкий ходит за ним как тень, каждый шаг его следит, и на что столь много прислуги приставлено – свечники, каравайники да какой-то ясельничий?
А Гюрги с Ярославом не унимались, все допытывались, куда невеста запропала, почему ее не кажут? Может, страх и глядеть на нее? А то вдруг их осеняла догадка, что невеста Костю как-нибудь издаля увидала, и он ей не понравился, и она идти за него не хочет, и ее теперь секут каждый день, пока не согласится. Братья сокрушались и высказывали свое сочувствие, а обреченный на супружество Костя обижался, не понимая, что им просто не терпится увидать его скорее под венцом и за свадебным столом. Ведь свадьба – это не только венчание и пир, нет, все вместе это веселое пиршество, когда не только пьют и едят, но еще и песни с плясками, потехи да ристалища. В добром разгулье находится место и детям и отрокам. Они ввязываются в борьбу, в беготню взапуски, даже кулачные бои меж собой устраивают, чая заслужить за силу и сноровку похвалу взрослых, а то и богатый дар, вроде лука разрывчатого со стрелами или даже оседланного коня.
– Когда же я тебя-то благословлю? – несколько раз подступала мать к Юрию, да так и не дождалась: когда она умерла, он оставался неженатым, хотя ему исполнилось уж девятнадцать лет – возраст, до которого никто больше из детей не доживал необрученным. Правда, сговорен и заручен он был еще в раннем детстве – отец заневестил ему польскую королевну, но сделал это конечно же без ведома жениха, так что можно было лишь гадать, какая такая супруга ему уготована. Так что Костю он очень хорошо понимал: сам боялся потаенного сообщения с неведомой королевской дочкой. Однако время шло, а разговоры о его будущем браке возникали в семье с каждым годом все реже и реже.
Юрий прошел постриг и посажение, заимел княжескую шапку – алую, с разрезом впереди. Семи лет начал учиться грамоте. В двенадцать стал отроком, а в семнадцать – юношей возросшим и возмужалым. Тайком от матери водился с девками, одной лишь забавы ради.
Что в те годы мешало довершить сватовство – войны ли, ссоры ли с поляками на порубежье, отец не считал нужным сообщать, но однажды объявил:
– Хватит тебе боярышень обманывать, пора семью заводить.
– Пошлешь сватов в Краков? – приуныл Юрий.
– Пошлю, но не в Краков, а в Киев, где нынче утвердился мой союзник, князь черниговский Всеволод Святославич.
– А как же невеста польская?
– Э-э, невеста не жена, можно и разневеститься. А у князя черниговского, по прозванию Чермного, дочь красавица, слух такой идет.
Конечно, невесту не по красоте и не по слухам князю выбирают – это Юрий уже хорошо понимал. Значит, у батюшки замысел союзный имеется. Но почему с ляхами передумал? Сколь ни читал в летописях Юрий про женитьбы русских князей – все они старались родниться с иноземными дворами. Великий князь Владимир, приняв христианство, сочетался браком по церковному обряду с греческой царевной. Ярослав Мудрый был женат на шведской королеве, дочери его вышли замуж за королей: французского, угорского и норвежского, три сына женились на дочерях европейских государей, четвертый – на родственнице греческого императора Константина Мономаха. Князь Владимир Мономах женат был на Гиде, дочери англосаксонского короля Гарольда. Да что далеко ходить, мать Юрия – чешская княжна, бабка по отцу – греческая царевна. Почему же отец изменил древнему обыкновению?
Юрий начал издалека и осторожно:
– Дочь Ярослава Мудрого княжна Анна вышла замуж за Генриха, короля Франции, а ты всех своих дочерей…
– A-а, ты вон о чем! – перебил отец. – Похвально, что сам задумался, что к чему. Знаешь, чаю, что на Руси нынче полтора десятка княжеств, почти каждое из которых по размерам да по зажитию поболее Франции будет. Много нас на Руси, и розни промеж нас много, хотя все понимают, что заедин быть надобно. Вот почему, Гюрги, сосватал я Всеславу за Ростислава Черниговского, Елену за князя брянского, Верхуславу за Ростислава Белгородского, Костю женил на княжне смоленской, Ярослава на дочери князя галицкого Мстислава Удатного. И тебя вот хочу женить на дочери Всеволода Чермного.
Разговор такой случился за год до кончины отца, и чем больше проходило времени, тем яснее становилось запоздалое понимание: как могли они с Костей противиться одиночеству русских князей, которого добивался отец все тридцать семь лет своего правления?
После горького урока, полученного на Липице, Юрий Всеволодович при всех обстоятельствах старался следовать примеру отца, как мог поддерживал благосостояние отчей земли и не допустил вплоть до прихода татарских завоевателей никаких внутренних неурядиц. Ну и браки своих сыновей и племянников подчинял той задаче, которую завещал ему отец.
Уходили из Владимира на Сить морозной ночью. Сберегая силы коней для долгого пути, не гнали их и старались, чтоб ступали они по укатанному ветрами хрусткому насту след в след. Взошла багровая луна, сбоку лошадей заскользили по снегу длинные ломкие тени.
Близ Владимира лежало круглое, с плоскими низкими берегами озеро Пловучее. Страшные рассказы, связанные с ним, помнились еще с детства. Будто бы отец, завершая начатую братом Михаилом месть, казнил всех убийц Андрея Боголюбского, а главных злодеев Кучковичей велел зашить в рогожные короба и бросить в озеро. И еще сказывали боязливым шепотом, будто короба те с мертвыми телами и доныне лежат на дне, а в непогоду, при большом волнении всплывают и носит их ветром от берега К берегу.
Ни разу не посмел Юрий спросить об этом отца. Приступил к дядьке Ерофею, но тот, всегда спокойный и согласный, вдруг вспылил:
– Это кто тебе наплел? Языки б отсохли у этаких брехунов! Брешут чего ни попадя!
– А Костя наш сам видал!
– Чего он видал? Чего? – вовсе раскипятился дядька.
– Короба… – почему-то оробел Юрий. – Они в бурю всплыли из водяного нутра…
– Всплыли-и… Короба… Это он тебя пугает понарошку. Никаки то не короба! Просто глыбы такие, мохом обросли.
Сомнительны показались горячие разуверения Ерофея: оно, может, и глыбы, только почему плавают? Может ли глыба плавать? Поделился размышлением со старшим братом. Тот сказал уверенно:
– Да он сам, твой дядька, короба те лыком зашивал и в воду спихивал. А молчит, потому что так велено ему. Как преданному слуге, ему это дело доверил отец.
И никто больше не захотел говорить об этом с княжичем: и мать, и бояре, даже конюший со стольником, ключник с постельничим, – все уклонялись. Юрий догадался, что его умышленно держат в неведении, скрывают от него какую-то важную тайну. С досадой и обидой стал он думать, что сам раскопает истину, сам все распознает. Но раскрыть тайну коробов так и не смог. Главное, что понял: тут переплелись сокровенным и опасным образом судьбы отца, деда Юрия Долгорукого, двух братьев – Андрея и Михаила. И не только их…
Отец умер пятнадцатого апреля 1212 года… Вся многочисленная семья, бояре и челядь Всеволода Юрьевича, облаченные в черные одежды, в черных шапках и таких же сапогах, шли за санями, на которых везли гроб. Впереди вели коня покойного великого князя, несли его боевое копье и красный стяг. Положен был Всеволод Большое Гнездо в соборе Успенья Богородицы. Роздана была богатая милостыня, в монастыри посланы большие помины.
На девятый день во Владимире собрались князья ближних городов, а на большие поминки-сороковины съехались и иноземные государи и вельможи, посланники и купцы. Многие похвалы отцу услышал в этот день Юрий, новые подтверждения, что наследует он государю, который был храбрым на рати, щедрым с духовенством и с бедными, верным клятве, непримиримым ко злым людям, бесстрашным перед сильными, не обижавшим слабых.
Но вдруг странные речи коснулись его слуха.
– Если уж уродился он содомитом, таким и умрет, – произнес армянский купец, одетый в полосатые штаны и атласную безрукавку, отороченную черным соболем.
– Да уж, такой навряд ли в рай попадет, – согласился генуэзский гость в шляпе из бархата и перьями наподобие петушиного хвоста.
Юрий мигнул толмачу. Тот быстро вполголоса перевел.
– Про кого это вы? – угрожающим голосом спросил Юрий. Уже получивший по воле отца великое княжение и готовящийся к посажению на престол после владимирского веча, он сидел в красном углу на правах хозяина, и отношение к нему гостей было соответствующее.
– Да про брата твоего, про Георгия, – спокойно ответил генуэзец, обнаруживая хорошее знание русского языка. – Приехал вон вельможа тифлисский, именем Абдуласан, сказывает, что преставилась царица Тамара за три месяца до кончины твоего батюшки. Вот и вспомнили мы про бывшего супруга ее, про Георгия-то…
Юрий почувствовал, что краснеет, отвернулся от купцов, не желая выдать своего смятения. С двоюродником Георгием была связана столь постыдная тайна, что в семье о ней избегали даже говорить.
Андрей Боголюбский посадил своего младшего сына Георгия княжить в Новгороде. Но жители вольного города невзлюбили юного князя и, как только умер его отец, изгнали. Он прибежал в Суздаль к дяде, отцу Юрия, однако и тот не только выгнал его из своего дворца, но и заточил в Савалту, из которой Георгий бежал к половецкому хану.
Юрий пытал отца, почему такая суровость, и услышал в ответ:
– Сказать срамно. Подрастешь, скажу.
Вылезла, конечно, сия тайна наружу. Дети ведь все узнают. В дальних краях Георгий, кичась знатностью рода, прославился еще умом и храбростью и сочетался браком с юной грузинской царицей Тамарой, но постепенно сделался известен такой его порок, такой позор, что Георгия с гневом и бранью изгнали по требованию совета вельмож. Причина изгнания называлась, стыд вымолвить! – содомский грех. Известие про это дошло до Владимира, но все в семье делали вид, будто не слышали ничего и даже имя такого родственника никогда не поминали, Юрий и сейчас не смог выговорить его.
– А может, он и не виновен вовсе?
Очень хотелось, чтоб был невиновен и все оказалось наветами. Но пришлось в наследство не только отцову честь принять, а и такие смутные сказки, о которых друг другу передают, рот ладонью прикрывая. А тут въяве! А тут прилюдно! Да еще на поминках!
– Может, сама царица Тамара что неправое сотворила? – через силу переспросил Юрий.
Гость негодующе помотал головой, так что петушиный хвост на шляпе зашатался, будто на ветру:
– Тамара из знатного рода Багратионов! Она была столь умна, красива и благочестива, что ее казначей, именем Шота Руставели, великий стихотворец, посвятил ей свое сочинение «Витязь в барсовой шкуре».
– Но может быть, все-таки навет? Зачем она так жестоко поступила с моим родственником?
– Нет, княже, не столь жестоко. Она щедро одарила бывшего супруга и отправила его жить в Грецию. А он с оружием пришел в Тифлис, стал воевать. Тамара победила его, но не тронула, не заточила в темницу, а снова проводила с честию, еще раз доказав свое благородство.
– А куда проводила?
– Никому то не ведомо.
Так и осталось неизвестно, жив ли Георгий или сложил где-то голову. И знал ли что о нем отец его Андрей Боголюбский, и если знал, отчего молчал? Какую тайну любви или презрения унес с собой?
Правдивые монастырские летописцы заносили в Свод все самое главное, чему являлись свидетелями. В княжеской семье бережно передавались из поколения в поколение важные подробности из жизни рода, однако же остались все-таки многие непросветленные места. И они затемнялись пуще, когда доводилось Юрию Всеволодовичу слушать рассказы и предания от князей рязанских, черниговских, галицких, с которыми встречался не только на ратных полях, но и в пиршеских застольях. И неизменно произносилось то с обличением, то с загадочным намеком, то с суеверным страхом слово – Кучковичи.
Юрий Долгорукий основал Москву на месте сел: Воробьеве, Симоново, Кудрине, Кулишки, Сущево и деревень на Вшивой Горке. Все они принадлежали богатому купцу Стефану Ивановичу Кучке. Юрий Владимирович Долгорукий в 1147 году дал на Москве обед силен союзному князю Владимиру Северскому, а через одиннадцать лет повелел поставить деревянный город – огородить Боровицкий мыс стеной, назвать этот город Москвой по имени реки, текущей под мысом. Поначалу город носил двойное название: Москва-Кучково. Это все доподлинно верно. Но затем…
Черниговские и рязанские князья в один голос уверяли, что села и деревни по обе стороны реки Москвы и впадавшей в нее Неглинной принадлежали их пращуру Изяславу и всем другим Ольговичам. Юрий же, сын Мономахов, не всуе прозванный Долгоруким, насильственно захватил эти понравившиеся ему места. И будто бы Долгорукого прежний владелец Кучка не только не почтил подобающей великого князя честью, но стал поносить его, за что был предан смерти. Добавляли рязанцы уж и вовсе нечто несообразное, будто бы Юрий Долгорукий еще и любился с женою Кучки, прежде чем умертвил его.
Злостные наветы продолжались, и когда великим князем стал Андрей Боголюбский. Отец сочетал его браком с дочерью боярина Кучки Улитой и заповедал город Москву расстроить и населить людьми.
Сколь помнил себя Юрий Всеволодович в детстве, о дяде Андрее в семье говорили слова только самые достохвальные. Правда, в начале своего правления он неожиданно для всех допустил грубый произвол: выпроводил из Ростово-Суздальской земли всех своих братьев, в том числе и восьмилетнего Всеволода, который вместе со своей матерью, греческой царевной, отправился в Грецию на несколько лет. Но – удивительное дело – отец, когда уже стал великим князем Всеволодом Большое Гнездо, совсем не держал зла на старшего брата, напротив, внушал своим сыновьям:
– Зело мудро поступил Андрей, не допустил междоусобной вражды, единодержавно правил. Так только и надо. А мы той порой у императора Мануила гостили. Я по-гречески читать научился.
В Вознесенском монастыре, основанном Андреем Боголюбским, коротал свои последние дни старый воин Михно, раньше служивший мечником у великого князя, участвуя с ним во многих битвах. Гюрги и его братья после занятий в монастырской школе любили расспрашивать Михна о его ратном прошлом, а один особенно полюбившийся рассказ слушали затаив дыхание несколько раз, И было отчего замереть, было чем восхититься!
Еще при жизни своего отца великого князя Юрия Долгорукого пришлось Андрею участвовать в междоусобной брани, в которую ввязались почти все ветви княжеского рода, а кроме того, подключились еще иноземцы – половцы, угры, поляки. Так случилось, что под стенами Луцка во время битвы Андрей излишне увлекся погоней и оказался на мосту через городской ров. Он думал, что братья его следуют за ним, но те остались далеко позади. Андрей и с ним два дружинника попали в окружение. С городских стен сыпались камни, с обоих концов моста летели стрелы. Один дружинник погиб, а другой прикрывал князя до последнего. Андрей был сильным и умелым витязем, уклонялся от стрел и сулиц, но конь его получил сильные язвы от вражеской острой рогатины, которая пронзила даже седельную луку.
Андрей, обороняясь, изломал свое копье, вынул меч, готовясь умереть с честью. И уже один немец – так называли венгров и поляков, потому что они не знали по-русски, были как бы немыми, – изготовился просунуть рогатиной Андрея, но сам пал от его руки. А верный конь, истекая кровью, вынес своего седока из гущи боя и тут же свалился бездыханно. Отец, братья, дружина со слезами радости славили храброго Андрея, а он плакал от горя над трупом коня. Там же, на берегу реки Стырь, он повелел мечнику Михну раскопать землю и вставить сруб. Мертвого коня в сбруе и доспехах поместили в могилу, насыпали курган, на котором Андрей собственноручно водрузил деревянный памятник с благодарной надписью.
Много было и других славных рассказов об Андрее, часто вспоминали его в великокняжеской семье, и уж непременно делали это первого августа. В этот день устраивалось празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, а установил это торжество на Руси именно Андрей.
Существовало на Волге, где впадает в нее приток, царство Булгарское, племена которого приняли магометанство и искони жили немирно с соседними русскими землями, Биться с булгарами считалось делом правым и богоугодным. Андрей первый раз пошел воевать с ними в 1164 году. Взял с собой любимую икону Пресвятой Богородицы, перед походом все воины причащались Святых Тайн. Поход получился победным, князь булгарский бежал, взяли русские большой город Бряхимов и еще три поменьше. Видя в этой победе чудотворную помощь иконы Богородицы, которую стали звать Владимирской, Андрей и установил с одобрения царьградского патриарха празднество с водоосвящением.