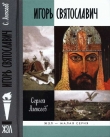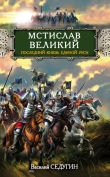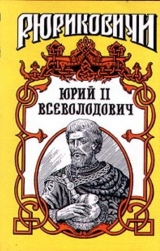
Текст книги "Юрий II Всеволодович"
Автор книги: Ольга Гладышева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
– Конечно, вы с ним одного отца дети… Как он, так и вы, по его заветам…
– Отец-то наш чем перед тобой виноват?
– Передо мною – ничем. Рази я что говорю. А вот перед Южной Русью грешен, и не простится ему на Страшном суде и не надейся, Гюрги! Сколь жестоко терзали и грабили ее степняки-половцы! Я среди них два десятка лет прожил и от многих ханов наслышан: кабы русские князья исполчились хоть один раз все вместе, не только Тмутаракань, а всю степь до лукоморья и Хвалисского моря могли бы себе вернуть. А когда Игорь Северский пошел на них походом, твой отец, что, поддержал? И не подумал? Сидел тут, среди своих лесов и болот. Мне князь Владимир Игоревич, который в плену у Кончака на его дочери женился, сказывал…
– Он помер в двенадцатом году, – прервал Юрий Всеволодович.
– Знаю! – отмахнулся Глеб. – Я с ним видался во втором году на похоронах отца его, князя Игоря. Так вот, говорил мне Владимир тогда, что вы, Мономаховичи, погубите раздорами своими Русь. Так и вышло. Не тогда, так нынче.
Юрий Всеволодович строго глядел в одну точку. Понятно, почему Глеб Рязанский слова эти напомнил: родственные они души с Владимиром, может быть, и друзья даже – сын Игорев тоже ведь был проклят и сгинул где-то на чужбине. Он затеял войну с Галицкими боярами, лишил жизни почти полтысячи человек, в войне той в 1211 году были умерщвлены и его родные братья, трое Игоревичей. Их смерть на совести одного только Владимира. Так что было о чем поговорить двум братоубийцам.
– Гюрги, Святославле, что вы на меня волками глядите? Какой взыск у вас ко мне? Что вам за дело до наших рязанских распрей? Про Исады вспоминаете? Тот пир кровав? Ну, пьян я был, помутился разумом. Да, положили шестерых… Им уготовили Царство Небесное, а себе муку вечную. – Глеб усмехнулся беззубым неопрятным ртом. – Думаете, я опять по чью-то душу пришел и на престол хочу? He-а, князи. Это вы ошибаетесь, так думавши… А пошто пришел я с татарами? Тоска гнала меня в родные края, на Русь. Вам не понять изгнанника и грешника нераскаянного. Дайте выпить еще маленько… Не дадите? Жадные вы, Всеволодовичи! Весь ваш род мономаховский жадный! А у меня ничего нет, и ничего мне не жалко! Не верите? Побожусь! Святославле, ты подобрее, прикажи еще налить старенькому. Я ведь никому не нужный… И не вредный. Я же вам дела старой памяти не поминаю!
– Каки таки дела? – вырвалось у Святослава.
– А дяденьку вашего мужеблудника? Стыдоба на всю Иверию. Только благородство царицы Тамары покойной потушило эту историю.
– Ты уж и там побывал? – удивился Святослав.
– А как же? Говорю этому Георгию: подлец ты, подлец, жеребец ореватый. Позоришь русских среди наших единоверцев картвелов. Он и не знает, куда глаза девать, чего отвечать.
Братья засмеялись.
– Во-первых, Георгий нам не дяденька, а брат-двоюродник, – сказал Юрий Всеволодович. – Во-вторых, царица Тамара когда померла? Выходит, врешь ты!
– Царица Тамара померла, верно! – со слезой воскликнул Глеб. – Красоты и ума непостижимого. Рази я говорил, что она жива? Она после вашего жеребца еще замуж выходила. Не отрицаю. Но и вам бы, князи, не лаять меня, а приветить, как родного. Почему?.. Ладно уж. Долго я хранил молчание. Но теперь делаю признание. Поскольку это далекое прошлое и поступок мой в Исадах тайна великая. Почему братьев моих поубивали? Зверь я, что ли? Кровь пью? – Глеб поднял палец, призывая ко вниманию. – Тяжко говорить сие. Но братья мои заговор составили противу батюшки вашего Всеволода. – С пьяной важностью Глеб оглядел братьев. – Я дознался и пресек. И вот благодарность! Всю жизнь провел с чужаками. Легко ли?
– В тое лето, как ты убивство учинил, и батюшка-то наш помер. А я на престол взошел, – перебил Юрий Всеволодович. – Может, ты меня спасал от заговора рязанского?
– Вот всегда оно так! – горюнился Глеб. – Такова благодарность человеческая. Спасителя своего, избавителя поношению предаете и милостынею попрекаете. И кто меня пожалеет? Даже Бог не пожалеет. Потому – виноват! Сам знаю, сколь страшен я. Все равно душа погибла. Одно облегчение – медку. А, Гюрги?
– Плесни! – велел отроку Юрий Всеволодович.
– Вот и добро, и славно! – расцвел Глеб. – А я вам, князи, баечку скажу. Под медок пойдет баечка не пьяная, а поучительная. Хотите?
– Монголу в подвале расскажешь, – поднялся со своего места Юрий Всеволодович.
– Э-э нет, князь владимирский, ты послушай-ка, что было во городе Рязани, всего невдалеке. А татарашка моя и так знает. Мы там вместях обретались и все видамши.
– Пускай врет, я посплю пока, – разрешил Святослав.
– А вот и не совру. Сам врешь! В тебе кровь злая играет. А я со слезами повесть оповествую. Князя-то Федора младого помните? Сына Юрия Рязанского?
– А что Федор? – привскочил Святослав. Братья переглянулись.
– Церковь Николы Корсунского у нас в городе помните? Бывали ведь у нас. Теперь Никола не Корсунский уже, а Заразский. Так во плаче и воплех речем храм сей.
– Ты не вития, Глеб, и языком не завивай. По-простому вещай.
– Вилицу бы хоть подали мне, – поморщился рязанский, уже поняв, что баечку ему разрешают и слушать будут.
– Обойдешься. Не во что вилицей у нас тыкать.
– Я и говорю, жадные вы. Могли бы рыбку поспособствовать старцу. Ведь пост! А я пощусь…
– Не поможет, – сказал Святослав.
– Ну, на всякий такой случай. А вдруг зачтется? Вот убивец, скажут, а пост соблюдает… Так я про пост?.. К чему это?.. Да, родился этим постом младенец у нас в Рязани. Княжич. Иван Федорович. Смекаете? Федору – сын, Юрию – внук. Прозвищем Иван Постник, потому что родился постом у княгинюшки Евпраксии нашей. Еще и на ножки не встал, слова единого молвить не выучился, как оборвалась его жизнь при обстоятельствах горестных и ужасных. Я не хочу тебя, Гюрги, расчувствовать, но ведь и у тебя внуки есть?
– Говори, проклятый!
– Молвлю то, чему сам свидетель и что душу мою смрадную перекрошило и перемяло и переломало. Страстей моих играние молитвами покорив, теперь лишь взываю и вопию: пошто погубление невинным насылается? О, пророческие и страшные таинства!.. А ты, отрок ленивый, не видишь, чаша моя пуста?
Отрок, поймав взгляд великого князя, плеснул еще.
– Через три года после сражения на Калке священник Евстафий принес в Рязань из Корсуни чудотворную икону Николы, которая потому и называлась Никола Корсунский. И присутствовал в ней непостижимо образ и дух Святого Угодника.
Она стояла ранее посреди града Корсуни, близ церкви апостола Якова, брата Иоанна Богослова. Церковь эта была тем славна, что в ней в 988 году крестился самодержавный и великий князь Владимир Святославич Киевский и всея Руси. И тем еще была известна церковь, что позади ее алтаря была такая обширная и красивая палата, в которой пировали греческие императоры Василий Болгаробоец и Константин Порфирородный.
И был в церкви апостола Якова скромный священнослужитель именем Евстафий, муж лет уже зрелых, помыслов благочестивых, сердца сокрушенного. Ему-то ночью девятого мая 1224 года от Рождества Христова было явление чудное. Некий старец благоуветливый, с большими яркими глазами, с густой волнистой бородкой позвал Евстафия по имени и сказал:
– Возьми мой чудотворный образ Корсунский, супругу свою Феодосию и сына своего и иди в землю Рязанскую. Там хочу пребывать и чудеса творить и место то прославить.
Евстафий пробудился в холодном поту, но скоро успокоился, подумав: нынче на литургии я громко возглашал тропарь святого Николая и прокимен в честь его же, а еще и кондак, вот и примстился он мне.
В следующую ночь опять явился Чудотворец, повторил свои слова голосом теплосердечным, но настойчивым. Затрепетал Евстафий, стал думать: о, великий Чудотворец Никола, куда велишь идти? Я, раб твой, ни земли Рязанской не знаю, ни в сердце своем не помышляю. Не знаю я той земли, на востоке ли, или на западе, или на юге, или на севере. И опять нашел успокоение, решив, что снова ему помстился Никола из-за того, что вчера он дольше обычного простоял перед образом в церкви. Икона писана i гладью – краски боголюбивый изограф клал ровно, мягко, без супротивности и противня, образ Николы излучал доброту и сердечность, но Евстафий после первого ночного видения все равно трепетал, долго клал поклоны земные и умолял не отсылать его в какую-то Рязанскую землю.
На третью ночь в тот же точно час Евстафий пробудился оттого, что кто-то толкал его под ребра. Евстафий поднялся со своей жесткой постели и увидел в красном углу при свете лампады Николу Корсунского. Он взирал на священника огромно открытыми глазами вопрошающе и терпеливо. Евстафий невольно взнял руку творить знамение, возопил:
– О великий Чудотворец Никола, возвеличенный Господом на небесах и прославленный на земле чудесами! Да будет воля твоя, как изволил.
Икона начала смещаться к выходу. Евстафий подумал, что высокий, во весь рост Никола с благословляющей десницей и Евангелием не пройдет через низкий дверной проем, но Чудотворный ушел за порог и растворился в предутренней жемчужно-серой дымке. Евстафий поторопился выйти следом за Чудотворцем, увидел лишь розовую полоску зари и подумал: нешто туда мне, на восток надобно идти?
А утром пришел в церковь иподьякон Херсонесского епископата и велел Евстафию следовать немедля за ним в епархию. Евстафий шел и терялся в догадках, вспоминая за собой прегрешения, за которые мог бы получить порицание владыки, но только зря беспокоился, епископ объявил ему:
– Царевна греческая Евпраксия сосватана за рязанского юного князя Федора и отбывает на Русь. Осведомлена она о тех чудотворениях, какие явил святитель Никола на земле и на море, и потому пожелала взять с собой образ Николы Корсунского как покровителя в путешествии. Тебе надобно быть при святой иконе безотлучно.
Евстафий начал собираться в дорогу. В городе Корсуни, расположенном на мысу Херсонеса, со времен Владимира Святого проживало много русских людей. Евстафий расспросил их, кака така Рязань, где находится и как до нее добраться. Нашелся человек, знавший ответы на все вопросы в точности, сказал, что путь в Рязань лежит через лукоморье, половецкие степи и дикие, населенные зверьем леса. Услышанное вселило в его душу страх, даже ночью его не отпускало беспокойство. И вот снова в тонком сне явился к нему Никола и сказал:
– Поедешь не через земли язычников-половцев, а старым путем из греков в варяги.
А наутро и епископ подтвердил:
– Опасно ехать по степи. Недавно являлись туда дикие орды татаро-монголов, была страшная сеча, и все там нынче в неспокойном движении. Пойдете в устье Днепра в Понтийском море, которое называется еще Веским, доплывете до моря Варяжского в немецкой области. Из города Риги пойдете уж сухим путем до Великого Новгорода и дальше в Рязанскую область не только беспрепятственно, но и с почетом.
Евстафий взял чудотворный образ Николы Корсунского, жену свою Феодосию и сына Евстафия-второго, а еще одного из клириков церкви апостола Якова и навсегда покинул Херсонес на корабле греческой царевны Евпраксии.
Путешествие длилось два с лишком года, безопасно, но не без приключений. В Великом Новгороде торжественно встретили греческую царевну князь Ярослав Всеволодович и сын его Александр. Жена Евстафия Феодосия так возлюбила Великий Новгород, что захотела остаться в нем и не сопровождать дальше царевну и чудотворный образ. А чтобы Евстафий силой не заставил, скрылась от него неведомо куда. И как потом написал Евстафий-второй, «абие расслабе все уды и телеси ея, и быша, яко мертва, и недвижима, – едино дыхание вперсях ея бяше». Евстафий, узнав, что жена его при смерти, припал к чудотворному образу и говорил со слезами:
– Великий Чудотворец Никола, прости рабу свою, согрешившую перед тобой, как одна из безумных жен.
И тотчас была исцелена Феодосия, все отправились в путь дальше. А скоро встретили их с великой радостью и с хлебом-солью епископ Ефим Святогорец и великий князь Юрий Игоревич, которые сопровождали затем гостей до Рязани.
Вскоре и свадьбу царской дочери Евпраксии и князя Федора Юрьевича Рязанского сыграли, а образ Николы Корсунского поместили в храм, специально воздвигнутый во имя великого святого в вотчине князя Федора, что на речке Осетр близ стольного города. Епископ Евфросин освятил ее с большой торжественностью и празднеством, а батюшка Евстафий стал в ней править службы.
В ту осень Ока встала очень рано. За несколько дней покрылась льдом. Он был еще тонок, но уже выдерживал всадника с конем, хотя при этом слегка прогибался и пугающе потрескивал. Сторожа с крепостной стены заметила в двух верстах от Рязани трех верхоконных. Растянувшись цепью, они пересекли неторопливым опасливым шагом реку, приблизились к городу и снова той же цепью вернулись по льду на правый берег Оки. Постояли, видно посовещавшись о чем-то, а затем припустили через реку рысью столь резвой, что сторожа толком и рассмотреть их не успела. Поняла только, что люди чужеземные, однако не половцы и не булгары.
Всадники удержали коней у ворот.
– Менду! – крикнул стражникам один.
Второй повторил приветствие по-русски:
– Здравствуй! – И добавил: – Мы посланы к вам великим Батут-ханом, покорителем вселенной. Ведите нас к своему князю.
Дружинники сообщили о послах великому князю Юрию Игоревичу. Тот велел вести их в думскую палату.
Когда послы спешились, рязанцы с удивлением увидели, что среди них – баба, старая и по-чудному наряженная… На послах были шубняки – на одном овчинный, на втором козлиный – и меховые с наушниками шапки. У бабы лежала на плечах шкура бурого медведя и лисьи хвосты, на голове – колпак с нашитыми на нем клювами птиц – похоже, сапсана, утки, клеста. На шее у нее висела пронизь из сухих лягушек.
Рязанцы, не скрывая изумления, раздумывали, можно ли такое чудище допустить до великого князя.
Толмач успокоил их:
– Это наша чародейка Удоган. Она знается с облаками, оберегает нас и предсказывает судьбу.
Стражники продолжали сомневаться: долго ли православного человека изурочить, злую болесть на него наколдовать?
– А пошто вы Оку пересекали туда-сюда?
– Пробовали, крепок ли лед. Ведь наше войско больше, чем триста тысяч. Как все выйдут – а ну как треснет лед?
Стражников это лишь рассмешило: вот врет, триста тысяч!
– А пока нас только трое, – продолжал толмач. – Иди зови своего князя.
Но стражники скрестили перед ним свои копья. Юрий Игоревич сам вышел из ворот в окружении дружинников.
– Менду! – почтительно приветствовал его посланник, а толмач переложил на русский.
Оба посла оказались на одно лицо. Юрий Игоревич рассматривал их, пытаясь найти отличия, но только усмотрел, что у одного грязные, видно, отроду не мытые руки, а у другого воспаленные глаза с опухшими красными веками.
– Турсун батыр, – сказал Грязные Руки, а Воспаленные Веки перевел, что посол желает князю быть живым.
После этого Грязные Руки говорил на своем языке очень долго. Толмач переложил:
– Хан Батый требует от вас десятины от всего – от князей, простых людей и коней, десятины от коней белых, десятины от вороных, бурых, рыжих, пегих. А если вы не желаете добром отдать, то мы силой все возьмем.
Тотчас чародейка закружилась волчком на одном месте, так что взвились ее седые, заплетенные в косички волосы, и лисьи хвосты, и сухие лягушки, издававшие глухое бряканье. Одновременно она произносила какие-то заклинания, подвывала, несколько раз ударила в бубен и наконец умолкла, вперив глаза в проходящую тучку. Наглядевшись на тучку, чародейка объявила что-то своим спутникам.
Толмач с важностью перевел:
– Духи сказали, что никто не смеет противиться великому хану Батыю, ему покорна вселенная, не то что какая-то Е-ли-цзань.
Юрий Игоревич был не столько даже рассержен, сколь удивлен: еще никто не смел приходить на Русь с таким запросом.
– Возьмете не десятину, а все, но только если завоюете нас. Но скорее пегий конь станет саврасым, чем это случится. Пошли вон, откуда явились!
– Дзе, деренчи? – зло выговорил посол Грязные Руки.
– Ладно, разбойники! – перевел Воспаленные Веки.
– Глянь-ка, еще и обзываются! – осерчал великий князь Рязанский.
Послы неторопливо усаживались на коней. Старуха-чародейка оказалась проворнее всех, прямо-таки запрыгнула в седло.
Они развернулись. Перед ними лежал свеженаметенный сугроб. Их мохнатые низкорослые лошадки преодолевали его осторожно, погружали ноги в снег опасливо, а как выбрались на едва заснеженную равнину, взяли сразу в полную скачь, так что на рязанцев полетели грязные ошметки ископыти.
Юрий Игоревич собрал большой совет. В гриднице – самой поместительной палате великокняжеского дворца – не хватило на всех пристенных лавок, накрытых коврами и шкурами. Пришлось принести из других покоев трехногие ременные стольцы, на которые обычно нарочитые люди не садились. Ныне было не до вожеватости. Весть о пришельцах встревожила не только рязанских князей, но и всех ближних соседей – князей пронского, коломенского, муромского. Все они спешно прибыли со своими верхоконными дружинами, с боярами и воеводами с оружием и с броней.
Великий князь Юрий Игоревич был и по чину, и по возрасту старше всех собравшихся. Он сидел в красном углу на резном седалище с подлокотниками, как обычно, грузно, усадисто, но не мог скрыть беспокойства и нетерпения. Ближе всех сидевшие к нему племянники Ингваровичи Олег и Роман ворохнулись на лавке, понимающе переглянулись.
– Ведомо вам всем, – начал Юрий Игоревич, – что в диком поле объявился наглый враг. Но никто из вас по молодости лет не знает, сколь силен он: это те самые неведомо откуда и незнаемо зачем приходившие четырнадцать лет назад татары. Они убили на Калке шесть русских князей и девять из десяти дружинников. Сам непобедимый Мстислав Удатный, сын Мстислава Храброго, бежал с поля боя…
Юрий Игоревич умолк. Безмолвно сидели и все собравшиеся на совет: не знали, как рассудить, на что решиться.
– Неужто так прямо и требуют: покориться им? – подал голос князь муромский…
Ответом ему был дружный гул, и не понятно стало, кто что хочет сказать.
– Не бывало такого!
– Николи не бывало. Деды и отцы наши никому дани не платили.
– И в рабстве ни у кого не бывали.
– А если приходил враг, то за свою честь и отечество умирали в бою.
– Так и мы должны честь свою оружием или смертью сохранить. Решительные слова о готовности сохранить свою честь оружием или смертью произнес сын великого князя Федор. Юрий Игоревич повернулся к нему с отцовской гордостью и одобрением, потом обвел взглядом всех сидевших вдоль стен князей и бояр: мол, каков орел мой сын!
Полное согласие было ему ответом:
– Федор за всех за нас молвил!
– Надо, надо собирать силы и проучить татарву как следует! И не отсиживаться за крепостными стенами, а выйти в открытое поле!
– Все, как один, выйдем!
– Умрем, но не покоримся.
– Труби сбор, государь! Мы все одним сердцем с твоим Федором.
Юрий Игоревич слушал, слегка покачивая седой головой, соглашаясь, но и о чем-то потайном еще прикидывая. Когда все выговорились, сказал:
– Будем собирать полки, братья. Я уже послал гонцов к великому князю владимирскому Юрию Всеволодовичу, в Чернигов к князю Михаилу. Все силы надобно собрать, чтоб не сталось, как на проклятой Калке. А покуда надо потянуть время. Сын мой Федор пойдет к Батыю, даст ему дары богатые, скажет, что хотим миром поладить. Мы ведь и правда так думаем?
– Вестимо, худой мир лучше крепкой брани.
– А что же, Федор твой без оружия пойдет и без охраны?
– Какое оружие? Какая охрана? Он и его бояре будут посланниками добра и мира.
Наступила тишина в палате – согласие было полным, князья уж прикидывали про себя, сколько могут они собрать в своих вотчинах ополченцев: конников и пешцев, копейщиков и лучников.
Ехали неспешно, коней не погоняли, чувствовали себя безбоязненно, да и как же иначе – на своей-то родной земле? Время коротали в разговорах.
– Что-то рано нынче заколодело?
– Растает.
– Знамо, растает. В апреле.
– И сейчас растает.
– Да не надолго, потому как зима на носу.
– И на Рождество случается дождь.
– Ну, это редко.
– Но случается все же.
У сельца Добрый Сот приостановились поговорить с крестьянами, которые молотили цепами овес. Удивились, что столь рано решили они выбивать зерно из колосьев: делалось это обычно поздней осенью или зимой, чтобы подольше сохранить солому для корма скота.
– Что не молочено, то и цело, а-а, хрестьяне? Забыли нешто? – крикнул с седла Апоница, дядька князя Федора, пестовавший его с четырехлетнего возраста и с той поры всюду его сопровождавший.
Крестьяне, увидев князя Федора, работу не бросили, цепов из рук не выпустили, только покачнулись в его сторону в знак приветствия и почтения. Один из молотильщиков, стоявший ближе всех к всадникам, посетовал:
– Беда, день короче стал, больше трех кресцов не успеешь обмолотить.
– Куда же торопиться-то? Морозы только-только затрещали, и снегу мало.
Молотильщик помолчал, видно раздумывая, следует, нет ли говорить правду, подошел к Федору:
– Княже, за лесом, на речке Воронеже пришлых людей скопилось видимо-невидимо, прямо тьма. И конные и пешие, и даже бабы при них… Лошади, овцы, велблуды. Шалаши огромадные поставили. Пугаемся, вот-вот на нас налетят, заберут хлебушко.
После этой встречи с крестьянами ехали молча, каждый таил в себе сомнение и опаску. Благо, путь оказался недолгим: за лесом и впрямь – людей и скота глазом не окинешь.
Дорогу перекрыли вооруженные люди.
– До хана Батыя нам надобно, – сказал им Климета Кожух, стольничий князя Федора.
На удивление, татарские воины поняли Климету без толмача, жадными раскосыми глазами обшарили всадников, заглянули и в сани, подняв кожаный полог над сундуком и коробами. Окончательно все уразумев, показали руками, чтоб следовать дальше вместе.
Речка Воронеж мелка и узка, но, видно, воды в ней все же хватало и на все бесчисленное множество воинов, и на еще большее количество скота. По обоим берегам стояли равноудаленные друг от друга в строгом порядке черные юрты. Одна из них была золотисто-желтая, и возле нее на длинном ярко раскрашенном древке вздымалось пятиугольное знамя из белого шелка, на полотнище которого был очень искусно изображен серый кречет с черным вороном в когтях. Увенчивали знамя девять конских хвостов.
– Золотая изба и стяг Батыя, – понял Климета Кожух.
– Слезайте с коней и стойте здесь, – велел старший нукер русским послам и направился к юрте, стоящей рядом с ханской.
Там сразу стало шумно, забегали охранники, отпахнули полог, закрывавший вход в юрту, из которой вышли несколько человек. Донеслись голоса:
– Урусы…
– Долгобородые…
– Оросы…
В окружении телохранителей к русским послам приближался свирепого вида старик.
– Субудай, – определил Климета.
– Неужто? – не сдержался князь Федор, наслышавшийся об этом полководце много всяких ужасов. – Тот самый, который на Калке?..
Так вот он какой, жестокий убийца русских князей!.. Ноги ухватом – оттого, знать, что всю жизнь верхом на коне. Глаз только один, и то левый – как же он из лука целится?.. Рука правая скрючена. На лице косой шрам… Видно, неплохо оттитловали его в рукопашных схватках! Может, и мы добавим ему титлов, если полезет…
Субудай подошел, глядя на послов единственным глазом искоса, по-птичьи.
– Уруситы?
– К Бату-хану мы. С князем Федором Юрьевичем, – ответил сокольничий.
– Коназ? – Субудай перевел свой темный зрак на Федора. Повернулся в сторону золотой юрты.
От нее шел сам хан с девятью телохранителями – три ряда по три нукера. Был он молод, легок на ногу. Солнце светило ему прямо в глаза. Они были совсем как щелочки. Ярко посверкивали рубиновые пуговицы его желтого длинного чапана. Подойдя к послам, хан встал так, чтобы солнце не слепило его. Веселая улыбка играла на его плоском желтом лице – и в складках прищуренных глаз, и в вислых усиках видел ее князь Федор.
– Мы пришли к тебе с миром, – сказал он хмуро. Потом, помолчав, прибавил: – Подарки наши прими в знак… дружбы.
Батый улыбнулся понимающе и покровительственно:
– Видно, князь, тебе жалко своих даров? – Не ожидая ответа, все с той же усмешкой сказал нукеру: – Ясанчей и каланчей сюда. Пусть примут дары, если… если князь не раздумал. Ты ведь не раздумал, а?
Федор вспыхнул, хотел ответить что-нибудь дерзкое и обидное, но дядька Апоница, стоявший позади, незаметно ткнул его кулаком в спину, шепнул:
– Не задирайся, Бога ради.
Батый, как бы не замечая гнева русского князя, снисходительно разглядывал крытую повозку с подарками.
Подошли ясанчи и каланчи – русские поняли, что это, наверное, сборщики податей, – начали по-хозяйски потрошить коробья.
Улыбка на лице Батыя стала брезгливой: нашли, дескать, чем удивить – монетки серебряные, бисер арабский, жемчуг гурмыжский… Аксамиты, парчу, порфиру, камку и другие полотна он небрежным движением руки велел отложить в сторону, словно бы отбросить как ненужные ему, но шубами остался доволен: все десять, подбитые куньим, собольим, горностаевым, лисьим мехами, перебрал собственными руками.
– Субудай-багатур, – обернулся он к своему одноглазому полководцу, а что сказал ему, толмач Воспаленные Веки не перевел.
Субудай достал пергамент, с хрустом развернул его перед князем Федором.
– Видишь вот, коназ, реки ваши, дороги ваши и ваши же города. К Итилю, к Волге значит, тридцать три наших тумена шли широким строем, таким широким, что крылья его, левое и правое, разделяли три дня пути. – Субудай уставился немигающим оком на Федора, ожидая увидеть недоверие или страх. Не разглядев ни того ни другого, продолжал уже зло: – По твоей проклятой Руси, где то речки, то болота, то леса страшнущие, непролазные развернуть такой строй нельзя. Так укажи, где нам будет легче пройти после твоей Е-ли-цзани к Ику, значит, Коломне по-вашему, потом к Ульдемиру – к Владимиру? Через Мушкаф?
– Какой еще Мушкаф? – спросил Федор, не сразу понявший издевательскую изнанку разговора.
– Через Москву, если по-уруситски.
Федор побледнел. Еле сдерживая бешенство, произнес медленно и с угрозой:
– Коли пойдете, то хватит одной дороги – на тот свет!
Едва Воспаленные Веки закончил перевод, как Батый сверкнул глазами, словно лезвием сабли, воскликнул даже как бы весело:
– Дзе ит!
– Вот собака! – с явной радостью перевел Воспаленные Веки.
А Батый продолжал игриво, даже ласково:
– А скажи-ка, князь рязанский, твоя хатуня, жена значит, – Юлдуз?
Федор не понял.
– Зовут ее Юлдуз?
– Нет, Евпраксеюшка.
– Да-а?.. А мне сказали, что она прекрасна, как Юлдуз – утренняя звезда на небе.
Апоница сзади жарко выдохнул князю своему в ухо:
– Терпи.
– Да-а… – продолжал все с тем же веселым блеском черных узких глаз Батый. – Когда я отправлялся в этот поход, моя мудрая мать Ори-Фуджинь сказала, что в каждой стране покоренный народ будет присылать мне в дар самую прекрасную женщину. Так что вели своим рабам мчаться за Евпраксеюшкой. У меня на ложе еще не было царской дочери и княжеской жены. – И Батый показал свои крупные белые зубы. – Может, сам хочешь привести ее?
Если бы был у Федора хотя бы укладной нож, он бы выхватил его не задумываясь. Но послам, идущим с миром, не должно иметь с собой ни самого легкого оружия. Только единственное оружие было у него – слово. Федор заставил себя ответить хану с такой же улыбкой, с какой говорил тот:
– Недостойно нам, христианам, тебе, нечестивому псу, водить на блуд не токмо жен своих, но и волочаек подзаборных.
Какой знак подал хан своим нукерам, Федор не видел – только блеснули перед его глазами сразу два ножа. Он уже не видел, как на окольничего накинули укрюк – ременную петлю на длинном шесте, как пал на колени дядька Апоница, умоляя басурман пощадить его юного князя.
Апоница один остался в живых. Всех убиенных по велению хана выбросили в степь на расхищение шакалам и воронам. Апоница укрыл в зарослях сухого приречного камыша тело Федора, а когда пала ночь, пробрался в село Добрый Сот, выпросил у мужиков, молотивших овес, лошадь с санями.
Наутро следующего дня на кречеле – погребальной повозке явился князь Федор в Рязань.
Со времен Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского в церковном строительстве Северо-Восточной Руси широко распространялось каменное зодчество. Кроме пришлых, греческих и итальянских, мастеров стало много и своих каменных здателей. Но и умельцев рубить храмы было еще много, наиболее искусных и сведущих в этом ответственном занятии назвали древоделями. Как раз такой древодель по имени Мирошка Бирюч со своей дружиной рубленников поставил церковь Николы Корсунского в вотчине князя Федора. Строили не обыденкой, обстоятельно, неторопливо. Запаслись кондовыми бревнами для клети, но княгиня Евпраксия, сама вникавшая в строительство, захотела, чтобы был восьмерик – сруб с восемью гранями. Из-за этого строительство затянулось еще на год, но зато уж получилась церковь знатная. Полюбоваться на нее тянулись христиане из тех даже сел, где имелись собственные приходы. Верх у восьмерика шатровый, увенчан деревянной маковкой с крестом, который вознесся даже выше княжеского трехжильного дворца. Оба прируба – алтарь с восточной стороны и трапезный притвор с запада – с резными кокошниками. В оконца и по нижнему ряду, и под самой кровлей вставлена разноцветная слюда, которую Евпраксия велела привезти из Царьграда. Попил в церкви тот самый Евстафий, который привез из Корсуни образ Николы, а дьяконил с ним его сын, тоже Евстафий.
Возвели церковь на всеобщую радость, да обернулась эта радость горестью.
Апоница рассказал, как принял князь Федор мученическую смерть, все без утаю и щадения поведал, глаза в глаза отцу покойного и юной безмолвной вдове.
Был Апоница сам не в себе, как в бреду и трясавице.
– Все равно умерли, – говорил, – никто не повернул назад, все вместе полегли мертвые. Быть сече лютой. На Рязань идут.
Среди общего плача и воя великая княгиня, мать Федора, лежала без памяти, а Юрий Игоревич без слов, страшен лицом, все ласкал пальцами острие меча и улыбался.
Евпраксия не вскрикнула, не оцепенела, не лишилась чувств – подхватила младенца своего Ивана и рванулась в церковь, где шла в это время заутреня. Проскочила притвор, протиснулась сквозь плотно стоявших в церкви прихожан и начала взбираться по лестнице на хоры. Увидев ее, певчие даже оторопели, а княгиня взбежала еще выше, куда поднимались изредка по хозяйственным надобностям пономарь или староста.
Она распахнула окно, перекрестилась и, не выпуская из рук сына, ринулась вниз, на окаменевшую мерзлую землю.
– Заразилась! – закричали в городе. Вместо утрени в церкви стали моления об упокоении душ новопреставленных.
На ветвях еловых воздвиглись три гроба. В них – одетые в белые саваны князь Федор, княгиня Евпраксия, княжич Иван.