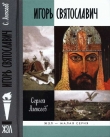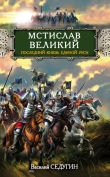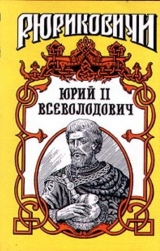
Текст книги "Юрий II Всеволодович"
Автор книги: Ольга Гладышева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Целыми днями сидела Агафья Всеволодовна у окна, и девка Беляна чесала ей длинные златые власы самшитовым гребнем. Это успокаивало, великая княгиня впала в легкое забытье, а мысли текли своим чередом. Никому не говорила, как скучает о муже, чтоб голову ему на плечо положить, запах его родной вдыхая. Стыдно в таком признаваться: старуха ведь, но вот не разлюбила за все года супружества, не забыла их тайные радости, не надоели они.
Желтоватые киевские стекла в оконницах – четыре круглых да треугольных малых три – от времени покрылись тонкой сетью трещин, но все равно хорошо было видать двор, выстланный деревянными плашками, сквозь которые летом прорастала трава, заборы из широких досок. От ворот к дому вели деревянные вымостки, разметенные от снега.
Темнело рано. Беляна зажигала бронзовый иранский светильник, очень старинный, в виде лика большеглазой женщины с коротко подобранными непокрытыми волосами. Великая княгиня особенно любила его, потому что второй, точно такой же, взял с собою в поход Юрий Всеволодович. В колеблющемся свете живее становились фрески, которыми были расписаны стены терема. От колебания воздуха тени ложились на них, перемещались, и казалось, апостолы двигаются встречь друг другу среди цветов и белый барашек поворачивает голову.
Наряжено нутро палат было столь изящно, измечтанно, что все гости диву давались:
– Столь богатства престранно видети!
Низкие лучи зимнего заката дотлевали на куполах Успенского и Дмитриевского соборов. Тишина стояла за белокаменными стенами детинца.
Жилые горницы были внизу терема, выше – сени для пиров, опоясанные гульбищем, и княжеская просторная палата, где столы уставлялись на сто человек. Там сейчас не топили, ветер свистал по гульбищу и выл, наметая снег.
А тут, внизу, было тепло, дремотно, иногда отдаленно доносились голоса внучат. Приходили воспоминания о собственном детстве, отрывочные, полустершиеся: нарядная, как девица в праздник, церковь Параскевы Пятницы, там же, в Чернигове, столетний Спасский собор, где окна с ресницами, прорись такая на каменной кладке. Виделся детинец на мысу, где Стрижень впадает в Десну, где стояла маленькая Агаша в рубахе до пят и хотела быть птицей, чтоб ветер подхватил ее под крылья и перенес в Святую рощу на песчаном берегу. Грузная печальная княгиня вызывала в памяти родные улицы, где стены домов выложены поливными плитками, а на плитках львы держат во рту багряные маки. Ей нравилось опять чувствовать холодный сухой запах погреба – медуши, где хранятся корчаги с маслом и винами, куда княжна лазила тайком с братом Михаилом. Она хотела вспомнить лицо матери и не могла, только виделись золотые витые наручи со змеиными головками на ее сложенных крестом руках и то, что в день похорон шел снег. Была весна и очень холодно: уже цвели вовсю сады, а хлопья снега сыпались прямо на цветущие яблони.
Ожерелье из двухслойного стекла с золотыми прокладками, вывезенное из Александрии, давило грудь, и царьградская серебряная чаша с чернью опустела. Задрожавшей рукой княгиня опять наполнила ее.
…Брат Михаил вытирал ей слезы теплой ладонью и говорил:
– Умирающие весной призываются к воскресению и жизни, уходящие летом – к полноте покоя, осенью же и зимой – к долгому небытию.
Странно, что в том возрасте она могла это понять и запомнить. Лицо матери потускнело и стерлось во времени, а вот что брат был одет в темно-синюю рубаху из мягкого шелка, рукава расшиты золотою сеткой, – это и сейчас стояло перед глазами.
Агафья Всеволодовна вздохнула, перекинула тяжелые распущенные волосы со спины на плечо. Даже и волосы от печали полиняли, потускнели. Вчера внук прибежал:
– Бабушка, а правда, ты власы красишь луковой шелухой, чтоб золотисты были?
– Кто тебе сказал, птичик мой?
– Тетя Дорочка маменьке передавала.
Впервые за долгое время улыбка тронула ее бледные губы:
– Шутят они, мой птиц гораздый. Дай поцелую головку-то.
Топот его ножек в сбитых набок сафьяновых сапожках один нарушал безмолвие большого терема. Внук все время что-нибудь возил: то коня на колесах, то свой низкий стулец, то двигал кованую материну укладку иль крутил пяльцы на веретене.
Великий князь Юрий Всеволодович пристроил к старому своему дворцу три двухжильных терема – всем сыновьям. Покои соединялись переходами, сенями, вислыми лестницами; чтобы попасть из одного терема в другой, не нужно и выходить на волю.
Теперь здесь с Агафьей Всеволодовной оставались дочь Феодора, она же Дорочка, средний сын Мстислав с дитятей и женой Марией да старшая сноха Христина с малой дочерью Дунечкой. С тех пор как великий князь ушел собирать войско, а старшего сына Всеволода отправил на защиту Коломны, а младшего Владимира – в Москву, все жили одной мыслью: что дальше будет, чем нашествие татарское кончится? Конечно, надеялись на лучшее: крепости русские устоят, не сдадутся, а врагов разобьют или отгонят. Но толком ничего не знали. Кроме тех ужасов, какие рассказывали беженцы из Рязани. Жили в напряжении, но и к нему привыкли. Может, одной Рязанью и обойдется? Снохи щапливы, в бархатах да серьгах, все с Дорочкой пересмеивались, за вышиванием сидя, с детьми играли, а Мстислав, тяжеловатый да медлительный, все с воеводой Петром Ослядюковичем о чем-то наедине совет держал.
Понастроили много новых всходов на городские стены, а по-вдоль стен вкопали большие медные котлы для вара кипятка и смолы. И дров возле них запасли. В вежах – башнях настенных сложили оружие, какое еще осталось во Владимире. Всем хозяевам велели хлебов напечь, насушить, бочки водою заполнить на случай, если где загорится. Словом, как умели, к осаде все-таки готовились. Никогда ведь ещё иноплеменники города русские не осаждали.
Но поскольку время шло, а враг не появлялся, хлебы поели, а бочки с водой от морозов расперло, и они расселись. Не подумавши сделали.
Владимирский детинец занимал возвышенный выступ берега почти в самой середине города. Княжеский дворец был рядом с Успенским и Дмитриевским соборами. Тут же помещался епископский двор. Ворота из детинца вели в Срединный город, где было торжище, а в юго-восточном углу – Рождественский монастырь, который по-простому звали Рождествено. Торговые ворота вели в Новый город, а Ивановские – в Ветчаный, то есть старый город, ветхий. Он же именовался Посадом. Кроме Торговых ворот, в валах Нового города имелись еще четыре проезда. Почти посередине западной стены находились главные Золотые ворота, к северу – Иринины, а в северо-восточном углу – Медные. Волжские ворота выходили к Клязьме. Главная улица шла сквозь Торговые и Ивановские ворота к Серебряным, замыкавшим восточную вершину Ветчаного города. Все это обустройство было хорошо и удобно для проживания, но не для обороны. Но кто бы знал-то!
Мужчин в городе стало заметно меньше. Они, как было – принято в опале и горе, перестали стричься и волос не чесали. Молодые, которые брили бороды, делать это тоже перестали и сделались брадаты. Все ходили всклокочены и угрюмы видом. И жадно слушали рязанцев.
Все это раздражало Агафью Всеволодовну, но она ни во что не вмешивалась, раз муж поручил все дела Мстиславу. Ей казалось, что тревоги и печали в городе больше, чем решимости и мужества.
Первого января появившиеся во Владимире беженцы из рязанских весей сообщили, что Батый повел свои рати по льду Оки к Коломне. Значит, Всеволоду там не миновать биться. Душа у княгини окаменела, но привычные распоряжения Агафья Всеволодовна сделала: на всякий случай велела попрятать в каменные клети шубы горностаевы зимнего меха, а летнего меха, похуже, так называемую подпаль, оставили. На этом во дворце приготовления к осаде закончились.
Гневливый кручиною сам себя увечит. Теперь все помыслы сходились на Всеволоде: был бы жив-невредим. Первенец, он самый крепкий из братьев. В ристалищах нет ему равных: в борьбе ли на поясах, метании копий или кулачном бою. А вот прыгал в длину и через костер лучше всех младший Владимир. Только кудри взметнутся, как сиганет. Никому он не уступит ни в беге наперегонки, ни в плавании, ни в скачке на тридцать верст. Княжеские дети во всем должны быть первыми. Так их мать наставляла. А отец старался как можно чаще устраивать состязания: и на масленой, и на новогодье, по случаю крестин, свадеб, сбора урожая. Это называлось тризницы. Попировали недолго, и нечего засиживаться за столами, черева ростить. Ну-ка, кто скорее в гору взбежит, иль кто ловчее с коня на коня скочит, иль с коня на землю и обратно. Тут всегда первенствовали Григорий Слеза и Федор Змей. Слугам тоже дозволялось удаль показывать. Лучших в дружинники отбирали. Змей и Слеза очень хотели с Юрием Всеволодовичем идти, но он решил их пока оставить во Владимире: еще тут вас проверить надо.
Ну, а средний, Мстислав, только стреляет лучше всех. От костров стрелы зажигали и стреляли – кто выше. На мечах он тоже хорошо бьется. И еще поет. Но не на гуляньях, а в церкви. Голос у него густой, мягкий. «Нашему князю дьяконом бы», – говаривали те, кто слышал его. Это тоже сердило Агафью Всеволодовну. По правде сказать, все ее во Мстиславе сердило, хотя виду не показывала. А ведь он, надо признать, самый сердечный из сыновей, самый почтительный.
Невольно втайне сравнивала она своих детей с приемными, с Константиновичами. И все казалось, они умнее, они даровитее, более боярами ласкаемы. Они, конечно, сироты, но все равно княжат баловать ни к чему. Вот княжну – девку, другое дело. Ее не грех лелеять и нежностями умягчать дни девичества ея. Но, как на грех, уродилась Феодора ярма – мужеватая, рослая, бойкая. Ей бы не в тереме сидеть, из окна глядеть, а наравне с братьями упражняться. Они на лыжах – и она с ними, они – в мяч играть, и ей туда надобно. Еле отвадила. Даже бивала маленько. А что еще с такой юровихой резвой поделаешь? Юношей задумана, а родилась девицей, посмеивался Юрий Всеволодович.
Играли обычно на выгонах или на очищенном льду Клязьмы. Кожаный тяжелый мяч величиной с добрый каравай пинали ногами, стараясь загнать на свою сторону. Начинаясь с толчков и подзатыльников, нередко возникали драки до крови. Проигравших дразнили киловниками: богат Тимошка – кила с лукошко? И это занятие для княжны! Даже имя-то ей досталось какое-то неблагозвучное, ревущее – Феодора! Для приятности мать ее называла Дорочкой. При этом ловкостью Дорочка как раз не отличалась: греческие сосуды синего стекла с золотой росписью все побила. И великоразумием не отличалась: жене братниной жужжала, что Всеволод на ней женился лишь сладострастия ради и на имения всякие он-де падок. Христина от этого в слезы и великой княгине жалуется.
– Бог родил молчание, – сказала Дорочке Агафья Всеволодовна. – А из молчания родил Слово. Вот ты на молчании остановись. А если язык свой не уймешь, отдам тебя замуж за Семена Ушатого.
Это у них такой стольник был, пожилой вдовец, вислоносый и вислоухий. Но Дорочка не испугалась некоторых обстоятельств его вида и сообщила, что очень согласна за Ушатого, он ей вполне сносен и даже люб. Но, может быть, она еще к сестрице Евфросинии в монастырь уйдет, послушницей станет.
Пришлось Феодоре внушение сделать, что пока у ней косы не выдраны, надлежит девице в покорности и скромности пребывать, ибо добрая жена руки свои простирает на полезное, локти свои утверждает на веретено, ладони свои отверзает убогим, а рот свой не разевает для произнесения пустошных и зряшных словес.
Дурочку Христину Агафья Всеволодовна утешила, объяснив ей, что сладострастие, столь ее оскорбившее, суть сопутствие любови супружеской, радость рождающее и согласие, а на имения Всеволод вовсе не падок: что ему отец определил, с тем и согласен, чужого не оспаривает.
– У тебя есть муж, а у Феодорки нету, вот она и бесится. А твой муж самый лучший, потому что он твой. Запомни это.
Христина смеялась сквозь слезы и обнимала свекровь. Агафья Всеволодовна удивлялась, как такие глупости могут молодых волновать.
Другая сноха, жена Мстислава Мария, была всегда спокойна и как бы туповата. Она мужу наследника родила и тем предназначение своего бытия исполнила. Остальное ее не касалось. Кушала, с детьми играла, спала много и утомчиво, будто дело делала.
Грех сказать, но больше всех любила великая княгиня сноху ростовскую, жену Василька. Когда встречались с ней, вели беседы долгие, во взаимном понимании, потому что была эта Мария начитана, умом сметлива, вздорами не тешилась, девиц малолетних в училище грамоте учила и сама в скрытности занималась хронографией, а что писала, никому не показывала.
– Да зачем тебе это? – спрашивала свекровь. – Али монахов грамотных не хватает в Ростове? Не бывало у нас, чтобы женщина летописи составляла. Сумнительно мне.
– А лучше ли по светлицам хохотати? – возражала с улыбкой Мария, не опуская перед княгиней длинных своих ресниц.
Агафья Всеволодовна сама не раз задумывалась о степени свободы в жизни княжеской. Вроде бы утеснения многие, но так по обычаю. Если не хочешь трудиться, а по светлицам хохотати, кто тебе что скажет? Так что в известных пределах жили женщины теремные как хотели, без особого принуждения. Несмотря на строгие правила, заповеданные пращуром Владимиром Мономахом, князья жен и дочерей особо не утесняли, некогда было, у них своих забот хватало, да и не понимали они в тонкостях женского жизнеустроения. Откровенных предерзостей не случалось, ибо их сразу гасила, то есть утолакивала, старшая в роду, и перед хозяином дома все являлось в равновесии и благопристойности.
Угощала Агафья Всеволодовна сноху у себя в горнице более чем скудно: капуста солона без масла, да груши мочены, да смоквы сливовые. Но гостья и сама на сладенькое не падка была – все беседами душевными услаждались. И то, родство у них тесное: они не только свекровь со снохой, но и тетка с племянницей, обе из одного города, из одной семьи. Агафья Всеволодовна часто рассказывала Маше, как жила до замужества у брата Михаила, как он был ласков и заботлив, как долго не было у них детей. Много они с женой молились о том, наконец троекратно явилась им Богородица, благословив рождение первой дочери, которая теперь прозывается инокиней Евфросинией и проживает в Суздале, в Ризоположенском монастыре. А потом рождаются у Михаила с женой еще четверо сыновей и дочка Машенька, увозят ее во далекий град Ростов и отдают за мужа грозного именем Василько…
Княгиня Мария вспыхивала и смеялась и признавалась, что очень счастлива в браке с грозным мужем, красавцем, ласкавцем и добродетельным, говорила, как рада, что сестра поблизости, в Суздале, и тетя неподалеку, во Владимире. И еще повторяла Мария, как гордится всею своею роднею по мужу и своим родом в особенности.
– А мне чем гордиться? – вздыхала великая княгиня. – Как увез меня Юрий Всеволодович почти тридцать лет назад, так и живу в трудах и беспокойствах: то у него с Константином битва, то он в походах, а у меня семеро детей на руках, из них шестеро мужеска пола да Феодора, норовом тоже как бы мужеска. То они все сразу заболеют, то передерутся, то учатся плохо, дьяки жалуются. И все я, и все я! Вам хорошо с Евфросиньей, вас боярин Федор учил, а у меня вся наука – терем. Даже свекрови не было. Ясыня-то померла еще до нашей свадьбы, не дождалась женитьбы любимца своего, – всплакивала Агафья Всеволодовна о свекрови, которую и не видывала никогда. – Указать, подсказать некому было. Никто меня не утеснял, сразу стала полной хозяйкой. А когда тебя не утесняют, ты и сама не научишься других утеснять и от них требовать. Вот меня и не слушается никто в семье.
– Да полно тебе! – утешала ее Мария. – Это тебе просто пожаловаться хочется. У каждого человека юность в родительском доме – лучшее время. А наша с Евфросиньей удача, что рядом был такой человек, как боярин Федор. Она теперь его в письмах называет философом из философов. Только печалится, что судьба его вместе с нашим батюшкой Михаилом тяжела будет.
– Рази? – всполошилась Агафья Всеволодовна. – А мне пошто не говорите? Ведь он брат мой!
– Не сказывает Евфросиния, что будет и сколько ей ведомо. Только печалится. Но говорит, венда будут удостоены небесного.
– О Господи! – заплакала Агафья Всеволодовна.
– Оно лучше, конца своего не знать, – убеждала ее Мария. – Это божеское милосердие к нам, неведение наше. Не тужи, голубочка тетя!
Она ее по детской памяти тетей звала, а не матушкой.
Часто в эту зиму Агафья Всеволодовна разговоры с племянницей вспоминала… Может, самой поехать к Евфросинии? Пускай предскажет чего-нибудь. Терпения больше нет жить в такой разрывности. Чего напророчит, к тому и готовиться будем.
Но владимирские снохи и дочь взвыли, чтоб не уезжала. Им-де страшно без матушки, хотя и при Мстиславе они с воеводою. И внуки завопили, что бабушка уезжать куда-то хочет:
– А кто нам без тебя пирога с калиною даст?
Ну, обмиловались так, и осталась она сидеть у окошка. Одна отрада – внук, который коня возит, да внучка Дунечка. У ней ангел веснушками носик обкапал, косы красна золота до коленчиков, пригоженька растет.
После трех суток, проведенных в седле, Всеволод должен был бы свалиться с ног, но он, сам на себя удивляясь, не мог долго оставаться на одном месте, все куда-то его стремило. В горячечном возбуждении он то поднимался в горницу, где сидели всплакнувшие от радости свидания с ним мать и сестра, то заглядывал в гридницу, где отдыхали спасшиеся и вернувшиеся с ним дружинники, а затем возвращался в изложницу к супруге Христине и четырехлетней дочке Дунечке, обнимал и целовал их снова и снова, восклицая:
– Неужто я дома? И мы все трое опять вместе?
– Знаешь… – неуверенно произнесла Христина, поднялась со скамьи и будто внезапно замерла в движении, в порыве к мужу. Только простертая вперед рука вздрагивала еле приметно.
Всеволод тоже замер ожидающе. Так стояли они друг перед другом, будто зачарованные.
– Знаешь, Сева… – Христина опустила глаза, на склоненном лице ее проступил румянец. – Нас теперь не трое… Нас уже четверо. – Она положила его тяжелую обветренную руку на свой живот.
– Сын? – вскинулся Всеволод. – Как же я тебя люблю!
Христина укоризненно улыбнулась:
– Что уж ты… Разве можно знать заране-то?..
– Татуля, татуля, – ревниво тянула отца за полу Дунечка. – Пока ты ездил, я два обиняка узнала. Хошь, загану?
– Ну-ка?
– Стару бабу за пуп тянут. Что есть толк?
Супруги переглянулись, громко рассмеявшись.
– Не знаю, что и подумать… Кака така стара баба?
– Эх ты! Дверь это! – торжествуя, вскричала Дунечка, румянясь от удовольствия. – Ее тяну-ут! Понял? А вот еще Бога не боится, а песья гласа боится. Какой тут толк, скажи?
– Опять не ведаю, как растолковать, – притворялся отец растерянным.
– Это татия…
– Татия?
– Ну да, вор, значит. Он Бога не боится и грешит, а собачку боится, она его загрызть может и хозяина позвать.
– А я-то думал, татарове, – устало сказал Всеволод, и улыбка пропала с его лица. – Знаешь, Христина, мы ведь без заводных лошадей через лесные дебри пробирались. А снег-то лошадям по брюхо! Я все время боялся – падет конь, пешком до Владимира, может, и добредешь, да успеешь ли? Вдруг татары уже там?
Только здесь, в родных стенах, в окружении близких, он, такой тяжелый и сильный, мог выговорить, впрямую осознавая то, что горючим сплавом застревало в горле: разбиты, но спаслись, опозорены, но живы, испуганы, придавлены, но еще надеемся. Горька была радость его встречи с владимирцами, которым он и всей правды открыть не мог: как же была проиграна битва под Коломною. Он не хотел взваливать на них давящее бремя своего знания, с каким врагом пришлось схватиться, чтобы не растаяли остатки их мужества.
Пробираясь голодный и полуживой через лесные завалы, он, как в бреду, мечтал, что сейчас встретит во Владимире отца, большое готовое войско, крепкие отдохнувшие полки – и рванутся они на ненавистных пришельцев, вминая, вколачивая с хрустом их черепа в мерзлую землю, дымящуюся от крови. Он въяве слышал крики и мольбы о пощаде еще вчера надменных и всевластных врагов, бешенство затопляло его, жажда мстить попалила, сожгла, истерзала более, чем позор и отчаяние.
Те, кто качались, плыли в снегах рядом с ним, молчали. Они не обсуждали происшедшее и виденное, они были связаны этим смертным обетом молчания, хотя не договаривались хранить тайну своего поражения. С ним сумели уйти ратники испытанные, немало трупов уложившие, как туши на торгу, по нескольку мечей иступившие, все потерявшие. Не чувствуя холода, в одних кольчугах и мятых железных шеломах они возвышались на седлах, как мрачные духи возмездия. Их насупленные сосредоточенные лица были одинаковы своим выражением озлобленной решимости. Они стали потусторонними существами, которым уже безразлична жизнь, которым осталось исполнить одно и всего себя до конца, без остатка вложить в исполнение. Беспощадные слуги возмездия, немилостивые и свирепые, они, подобно теням, текли сквозь леса неотступно, бесчувственно и безмолвно.
Никогда, ни после какой схватки не видел Всеволод своих соотечественников такими. Некоторых он совсем не узнавал, в первый раз рассмотрел поблизости. Наклонившись с седла, чтобы схватить горсть снега, он встретился взглядом с высоким негнущимся всадником, у которого мерзлые усы, как броней, закрывали рот. Одной рукой он держал поводья, другая была всунута за пазуху, там, где кольчуга была рассечена и висела надвое.
– Ты ранен? – спросил Всеволод. – Как тебя зовут?
– Меня зовут Иван Спячей, – ровно ответил всадник и вытащил руку, разжал ладонь. Там лежало коромыслице детских весов и чашечка от них.
Сам не зная почему, Всеволод почувствовал нечто похожее на ужас.
– Это я на пепелище… я коломенский… – продолжал Спячей, с трудом разлепляя губы. – У сынка своего отнял окоченелого, безголового.
– Ты… ты похоронил его?
– Нет, – усмехнулся Иван. – Я его оставил… я его бросил и ушел. Что пользы было бы лечь рядом с ним!.. А теперь я еще потружусь, поработаю на ниве смертной, пожну урожай изобильный, сколь сил достанет. – Он опять спрятал руку с игрушкой на грудь и скрылся в снеговой поволоке.
Потом во Владимире Всеволод все пытался углядеть его и не нашел.
Город, куда он так стремился, поразил его своей беззащитной доверчивостью, неготовностью и полной неосведомленностью о предстоящем. Просто ударом было узнать, что отец неизвестно где и оборону надо будет держать собственными силами. А что придется ее держать, может быть, у одного лишь Всеволода и не было сомнения. И может быть, он один понимал, сколь неравны здесь расчеты, сколь ничтожна могута русская, сколь велика будет расплата.
Первое, что спросил Всеволод, не о жене, не о матери, не о братьях. Он спросил, где рать отцовская, которую он обещал собрать, отправляя его под Коломну.
Мстислав растерянно сказал:
– Ни слуха от него, и не было ничего. Да я и не жду. Он ведь за Волгу ушел али и в сам Новгород. Пока-то воинство соберется! Зима ведь. Не пройдешь, не пролезешь. Сын дяди Святослава здесь.
– Ну, с Митькой не пропадем! Воин знатный, – с досадой отозвался Всеволод. – Это ль не подмога? Вид волчиный, только хвост псиный.
– Все-таки поддержка, – помялся Мстислав.
Митька, конечно, не виноват, что в излишней отваге не замечен. Нраву он покладистого, простого, не занозлив. Похожи они этим с Мстиславом, потому и ладят.
Всеволод подавил в себе бесполезную злость. Второе, чего он спросил, про Москву. Мстислав и об этом тоже ничего не знал. Третье, что спросил Всеволод, где дядя Ярослав с новгородскими полками. Мстислав только рукой махнул и ругнулся.
У Всеволода ослабели колени. Чувство бессилия и неотвратимости пронизало его. Не с кем идти на татар, некого вести в сражение, не на кого даже возверзнуть оборону. Он видел, сколь мало в городе способных биться, как подобает воинам. Испуганные купцы сидели в своих лавках, несчастные рязанцы метались в улицах, горожане толпились по церквам, дети катались с горок и лепили снежные крепости в неведении близкой своей судьбы.
По распоряжению епископа Митрофана ежедневно велись церковные службы и молебное пение ко Господу, певаемое во время брани против супостатов, идущих на нас. Службы шли то попеременно, то сразу во всех главных храмах: Успенском и Дмитриевском соборах, в Спасской, Георгиевской и Воздвиженской на Торгу церквах, в Успенском и Рождественском монастырях. Молились неустанно. Мстислав полагал, что это тоже подготовка к возможной осаде.
Первое, что сделал князь Всеволод, постарался скрыть свое состояние, притворился, что он спокоен и даже радостен от встречи с родными, шутил с ними, играл с племянником, требовал от Христины непременно сына и как можно быстрее.
Второе, что он сделал, осторожно, но твердо потребовал вывезти княжеское семейство в Белоозеро как отдаленное и безопасное место.
Матушка Агафья Всеволодовна в ответ запыхала одышкой, вспухла слезами и объявила, что будет дожидаться мужа там, где он ее оставил, и иного повеления от него не приходило, а при живом муже дети ее судьбою распоряжаться не властны, она великая княгиня и пока в своей воле, и не станет где-то в Белоозере пням поклоны класть, а зверей диких просить о даровании жизни супругу и детям ее. Так она сильно осерчала на старшего сына, что к ней и подступу не было. Взяла внука с его конем и закрылась в своей светлице.
Христина мягко сказала, что ей как беременной женщине опасно пускаться в столь далекое путешествие, к тому ж она слишком долго была в разлуке с мужем и, переступая приличия, при всех повисла на шее у Всеволода, отчего он застыдился и замолк.
А Дорочка радостно сообщила, что сама желает воевать и жаждает появления татар у стен Владимира, она их, татар, раскидает одной рукой десяток и показала, сколь сильна, напрягши мышцы в рукавах рубахи. Матушка Агафья Всеволодовна сочла это неподобающим девице и княжеской дочери и разбранила Феодору.
Только Мария, жена Мстислава, согласна была уехать, но ее как-то забыли спросить, что она мнит и думает.
Все были необыкновенно воодушевлены собственной отвагой и пребывали по-прежнему в беспечности, что еще больше удручало князя Всеволода.
Третье, что он сделал, и тут уж никто ему не перечил, начал действительно готовить город к обороне, не полагаясь только на крепость стен, ворот и вежей.
Мстислав напомнил было, что воевода Петр Ослядюкович свое дело знает, но брат так на него глянул, что Мстислав поспешно добавил:
– Ты старший, ты и решай, а мы уж все по твоему приказанию будем.
Но потом наедине с Петром Ослядюковичем они обсудили, что отдали главенство в таком ответственном деле князю, только что проигравшему битву с татарами и теперь смертельно их боящемуся. Это их обоих сильно окручинило, но было уж поздно, Всеволод их и слушать бы не стал, так был решителен и в распоряжениях непреклонен.
– А может, оно и лучше, – сказала ночью Мстиславу жена Мария. – Он татар видывал и знает, как надо. Ему и ответ держать перед батюшкой, когда он вернется.
Был этот шепот из уст в ухо столь прост и убедителен, что Мстислав совершенно успокоился и во всем положился на брата.
Утром Всеволод зашел в гридницу, послал мечника за Петром Ослядюковичем.
Петр-воевода был высок ростом и чреват. Когда вошел, показалось, что в гриднице стало сразу тесно. Всеволод уважительно пошутил:
– Мстислав велик, но до тебя, великий воевода, не дорасти ему и через сто лет.
Петр Ослядкжович смущенно хмыкнул в пышную, прошитую первыми белыми нитями бороду:
– Один воевода тысячу водит, а Бог и тысячи, и самого воеводу водит… И Он один ведает, сколь нам жить-расти.
– Это да, все под Богом ходим.
– Карает Господь за грехи наши. – Воевода прошел в красный угол, перекрестился на образа, вернулся к порогу и сел возле дружинников. – Из Москвы, слышь, сбеги объявились. Сказывают, что татарове уж там.
– Взяли Москву? – вскочил Всеволод.
– Взяли, нет ли, не вем. Но подошли. А может, уж и взяли.
Воевода был покоен, будто это его никак не касалось.
– Отец, уходя, сказал, что брат Владимир с Филиппом Нянькой могут выдержать осаду до весны. Ты тоже так мыслишь, воевода?
– Я наинак думать не могу, – уклончиво отвечал тот. – Но вот иные бояре надвое начали рядить: увязывают на сани добро да кто в Галич, кто в Кострому, кто в Белоозеро утекают.
– Ну, там где-то и отец наш. Так что нетрог их… У нас сил от этого не убудет, – понадеялся беспечно Мстислав.
– Силы-то у нас, напротив, прибывает. Сбеги из сел и деревень за нашими стенами хотят спастись, – доложил воевода.
– Вот и кстати. Надо только всех к оружию приохотить, – важно посоветовал Мстислав.
– Уже делаем это, княже. В кузнях горны не затухают. Впрок будет и стрел и мечей. Однако, пока не поздно, не отослать ли куда на север великую княгиню со снохами и внуками? Я уж окольно давал ей знать, но матушка ваша ни в какую не желает, одно твердит: великий князь велел город оборонять.
– А ты что, в сумлении, Петр Ослядюкович? – настороженно перебил Всеволод.
Воевода помолчал сокрушенно, щуря большие печальные глаза.
– Береженого Бог бережет, – произнес неохотно. – Но, может, тебя Агафья Всеволодовна послушает? Лучше бы отослать их все-таки. Мало ли как оно повернется. Если и вправду татар ожидаем, я бы всех жителей вывел из города, только воинов оставил.
После таковой беседы еще тяжельше сделалось Всеволоду. Казалось ему, будто все в сонности пребывают: эта уклончивость, безразличие, непонимание того, что ожидается. Да и откуда им знать, какая у татар сила несметная и чем ее пересилить? Разве видали они, как все наше воинство под Коломной полегло? Разве это они пробирались по морозу лесами как затравленные? Чем их убедить и в чем убеждать? Всеволод и сам толком не предполагал, что делать. Полки нужны, рати свежие! А где взять?.. Приказал кликнуть в гридницу тысяцких. Все трое сразу явились. Но и они думали с Петром-воеводою заодно: всех, кто не может держать в руках оружие и нуждается в защите, лучше вывезти из города хоть бы и в глухие веси на север, хоть бы прямо в леса. Всеволод понял, что после его чудесного спасения в Коломне они недооценивают опасность, почитая ее минувшей безвозвратно, и теперь думают лишь о предосторожности, не более.
– А владыка что? – спросил с последней надеждой.
– Владыка молится, – был ответ.
Больше ничего спрашивать не стал. Вспомнил свой прощальный разговор с отцом, который сказал, что оставляет за себя Мстислава, а не старшего сына, потому что все надежды на безопасность стольного города возлагает на епископа Митрофана. А он, вишь ты, все молится… Да и можно ли что иное от владыки духовного требовать? Но показаться епископу по возвращении следовало непременно, получить благословение и наставление.