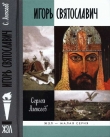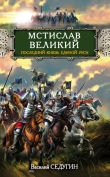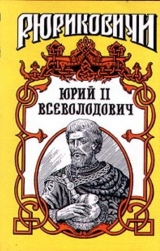
Текст книги "Юрий II Всеволодович"
Автор книги: Ольга Гладышева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
Глава шестая. Страсти
В Коломне правил рязанский князь Роман Ингварович, дружина у него была невелика – в две сотни копий, это верно сообщили лазутчики хану Кулькану. Но не смогли они узнать того, что в последнюю ночь прибыли тайно большие подкрепления: владимирский великий князь Юрий Всеволодович прислал со своим старшим сыном Всеволодом и воеводой Еремеем Глебовичем значительные силы верхоконных воинов – суздальцев, москвичей, отряд из Торжка. Князья и воеводы находились на стенах, рассматривали сквозь бойницы врагов, окружавших крепость осадным кольцом, прикидывали, как вести сражение.
Отдельные татарские всадники на мохнатых лошадках метались вдоль стен, иногда приближались опасно близко, но тут же разворачивались, скакали в обратную сторону.
– И чего мыкаются? – удивлялся Роман Ингварович.
– Дразнят как бы нас, – сказал Всеволод Юрьевич. – Давай-ка и мы их подзудим!
– Счас! – с готовностью вызвался десятский отряда лучников. – Счас я их! – Он вытащил из кожаного саадака свой боевой лук, проверил, крепко ли напряжена жильная тетива. Стрелу выбирал придирчиво: были у него туго набиты в колчане стрелы тростяные, камышовые, березовые, яблоневые – все одинаково пряменькие и округлые, с острыми наконечниками, с переным комлем. – Погоди, погоди, – приговаривал десятский. – Вот эту возьму, с перьем кречетьим. – Потрогав пальцем жало, он довольно улыбнулся: – Остро копьецо! Счас мы их! – Старательно наложил стрелу зарубочкой на тетиву, сжал сильными пальцами правой руки, а левой стал отводить от себя упругую деревянную луку. В таком положении он резко поднялся над зубчатою стеной и, не целясь, выпустил стрелу в ближнего всадника.
В тот же миг раздалось какое-то странное, непонятно откуда взявшееся верезжание, и сразу же десятский опустился на корточки, словно прячась за частоколом, и вдруг опрокинулся навзничь, так что соратники едва успели подхватить его. Стрела вонзилась ему в левый глаз – железная, кованая, с подвешенной на охвостье свистулькой, которая и издавала в полете пугающий звук. Десятский выстрелил тоже не в воздух – не попал в татарина, но поразил его лошадь. Стрела попала ей в горло, видно, рана была смертельной, лошадь билась в судорогах, а всадник ее громко причитал, грозил кулаком в сторону крепостной стены и снова горестно вскрикивал, валялся на снегу возле своей поверженной лошади.
– Притворяется, опять хочет нас исполошить, – сказал Роман Ингварович.
Воевода Еремей Глебович обнажил седую голову, перекрестился, склонившись над мертвым десятским.
– Нет, князь, татарин не лукавит. Для степняка потерять в походе коня – подобно собственной смерти.
Великий князь Юрий Всеволодович не случайно послал со своим старшим сыном именно Еремея Глебовича. Это был самый опытный во Владимире воевода, не раз он уже успешно полевал – сражался с половцами в Диком поле, ходил походом в глубь степи на берендеев, Черных Клобуков, даже и язык тюркский научился понимать и перетолмачивать. С монголами и татарами и он столкнулся впервые и сразу понял, что новый пришлый враг силен, коварен и жесток. Поэтому Еремей Глебович не спешил принимать решение. Молодые же князья призывали немедля кинуться на татар и одним ударом опрокинуть их.
– У нас копий не меньше, чем у них, – подсчитывал Всеволод.
– А в рукопашной-то сече нечто мы уступим? – поддерживал Роман.
Еремей Глебович колебался. Ему никогда не приходилось сидеть в осаде, в глухой обороне. Всегда он встречался с неприятелем лишь в открытом бою. И сейчас он не допускал другой возможности. Видя, как татары все плотнее и туже сжимают вокруг Коломны кольцо, воевода сказал наконец:
– Если будем ждать в крепости, они просто сожгут нас, подпалят стены со всех сторон. Да вон, вишь, уж и горшки с какой-то горящей гадостью перекидывают. Выйдем в полe на рассвете. Сразу ворота распахнем и… Ударим сообща по правому крылу татар, что ближе к лесу, там, думается мне, снег глубже, татарам не по нутру, а мы привычные.
Ежели одолеем их тут, проскочим на Москву-реку и оттоль по льду обрушимся на их левое крыло сзади.
Крещенские морозы трещали уж несколько дней, но в то утро холод был особенно жесток. Князь Всеволод, поднявшись в седло своей покрытой изморозью лошади, заметил у стены мертвых воробьев.
– Мороз птицу влет бьет, – сказал Еремей Глебович. – Хоть бы татар треклятых ознобил до костей.
А они всю ночь жгли костры и словно ждали выхода русских из крепости. Едва первые княжеские дружинники выскочили из ворот, как сразу же столкнулись с дозорным отрядом. Послышались крики:
– Урусы!
– Кху, кху!
– Уррагх!
Неожиданная и быстрая сшибка кончалась тем, что татары, потеряв несколько человек, развернули и пришпорили коней.
– Не гнаться за ними! – велел воевода. – Они нас завлечь хотят.
– Не-е, нас не надуешь! – победно выкрикнул Роман Игнварович, и тут татарская стрела просвистела над его головой.
Еремей Глебович дождался, пока подтянутся из крепости все воины, начал расставлять полки: впереди лучников, за ними копейщиков и тех, кто хорошо владел мечом и боевым топором.
Двинулись вперед шагом, зорко всматриваясь в утреннюю сутемь.
– Лес нешто? – указал Всеволод на обозначившуюся впереди извилистую темную линию, но тут же понял, что не может лес двигаться.
Еремей Глебович дал знак идущим сзади воинам остановиться.
Кони не слушались, переступали ногами, фыркали – от мороза ли, от тревожного ли предчувствия.
Впереди слышался неясный, все нарастающий гул.
– Конница… На нас идет.
Теперь уже явственным стал топот множества лошадей.
– Они же по сугробам идут, а? Отчего же земля дрожит?
Из-за бугра брызнули первые лучи солнца, и сразу же замерцало пред русскими воинами множество ярких звездочек – это блестели концы копий.
Конница шла столь напористой лавиной, что снег вздымался клубами и оседал пылью уже позади лошадей на оголившуюся землю.
– Как много-то их! – оробел Роман Ингварович.
– Князья! – крикнул Еремей Глебович. – У нас нет выбора, принимаем бой!
Он выбросил вперед копье, дал резкий посыл лошади.
Тут же его обогнали с обеих сторон молодые и горячие суздальские дружинники вместе со своим князем Всеволодом Юрьевичем.
Тогда и Роман Ингварович взмахом руки послал вперед свою рязанскую дружину.
Русские всадники первыми успели выскочить на гребень берегового откоса. Кони под ними еще не притомились, тогда как татарские лошади шли уже не с такой прытью, уже не сметали ногами сугробы, но вязли в них, спотыкались. Однако вражеская лавина оставалась все такой же стройной, в бой вступила решительно и сильно. Не снижая скачи, татары обрушили на русских сплошной ливень стрел. Заслоняясь от них щитом, Всеволод Юрьевич подумал с досадой, что наши лучники не умеют стрелять на скачи столь прицельно и непрерывно.
Вдруг один татарин, мчавшийся впереди с блестящим кривым мечом на плече, опрокинулся навзничь, а лошадь его поднялась на дыбы и увалялась на бок под ноги следом скакавших всадников.
Суздальские дружинники врезались в ряды татар. Сверкали в воздухе топоры, мечи, секиры. Всеволод увидел, как татарин поднял легкую сулицу, метя в князя Романа. Короткое копье, умело посланное, взвилось и, описав дугу, ткнулось то ли в щит Романа, то ли застряло в его кольчуге.
– Держись рядом, княже, – слышал Всеволод голоса Еремея Глебовича, рубившего мечом с левой руки. Всеволод наносил удары вправо. Так прорубили они себе дорогу, не замечая, как падают в снег с предсмертными хрипами свои и чужие, как расседаются с хрустом железные шлемы, как окрашивается кровью снег.
В какое-то мгновение Всеволод почувствовал, что он – совершенно один. Опамятовавшись, натянул поводья, опустил меч. Нет, это показалось, что один. Просто вокруг все только свои.
– Одолели мы их?
– Нет, княже. – Еремей Глебович остановил рядом свою тяжело всхрапывающую лошадь, окутанную паром. – Нет, княже, их тьма-тьмущая… Бери свою дружину, пересекай не медля реку Москву – и в лес. Только по льду не вздумай идти, заметят тебя. Сразу в лес, сразу. Понял?
– А ты куда?
– Я поведу оставшихся дружинников по льду Оки… Так мы разделим татар. Кому-нито повезет. А может, обоим…
Возле Коломны Ока делала резкий, почти прямой поворот в степи, и татарам не имело смысла идти туда. Так рассудил Еремей Глебович, и рассудил верно. Степняки неохотно суются в леса. Поэтому воевода и направил в дебри князя Всеволода. Проследив, пока тот с тремя десятками дружинников скроется из виду, Еремей Глебович повел коня не быстро, с оглядкой, вдоль крутого берега Оки.
Наверное, повезло бы обоим, как он и надеялся, если бы до его слуха не долетел шум боя: ржание лошадей, людские отчаянные крики, звон мечей – уж не Роман ли Ингварович с рязанцами своими бьется против татар?
Воевода развернул коня, дружинники последовали за ним. Одним махом выскочили на крутой взлобок. Выскочили – и замерли ошеломленно. И было отчего замереть: веред ними, шагах в ста, не больше, располагалась ставка знатного монгола, – очевидно, главного военачальника.
Возле желтого шатра с золотым навершием на тонком древке бунчак – золотой дракон с покрытыми густым инеем конскими хвостами. На тонконогом высоком коне светло-гнедой масти с желтизной восседал сам хозяин шатра. Солнце играло на его начищенном шлеме. Золотой в битве не годится, потому как тяжел металл и непрочен, некстати мелькнуло в голове Еремея Глебовича. И еще охватил он летучим взглядом: как сам военачальник, так и все его телохранители и воеводы – необычно для монголов рослые и здоровенные – внимательно вглядывались в даль, где шла битва, и не замечали, что произошло у них за спиной, с подветренной стороны.
Еремей Глебович чутьем старого воина оценил выдавшееся мгновение для броска вперед. И никому из дружинников не пришло в голову развернуться обратно. Лошади рванулись с места так резко, что подняли вихрь снежной пыли.
Еремей Глебович видел, как удивленно дернулись пухлые губы на медно-желтом лице монгола, как вскинулась вдруг вверх его нога в желтом замшевом сапоге, как с треском разлетелась на нем горностаевая шуба под ударом меча.
– Кху, кху! – орали нукеры.
– Хан Кулькан! Хан Кулькан!
«Неужто я самого хана укокошил?» – последнее, что мелькнуло в сознании владимирского воеводы.
Неравный бой, который вел Роман Ингварович, был скоротечен – погиб и князь, и вся его дружина. Но не было радости и ликования в стане врага: весть о гибели хана Кулькана быстро разнеслась по всему монголо-татарскому воинству. Немедленно собрались в Коломне все оставшиеся девять ханов. Для них это было не просто горе, но событие такое, о котором следовало немедленно сообщить в Каракорум верховному хуралу. Иранский ученый и путешественник, а затем визирь двух ханов Рашид-ад-Дин, описывая историю монгольских завоеваний, особо выделил то обстоятельство, что среди многочисленных высокородных ханов почти не было потерь в сражениях, за двумя лишь исключениями: в Хорезме был смертельно ранен стрелой внук Чингисхана Мутуген да вот в Коломне – родной сын Священного Правителя.
Овладев Коломной, монголо-татары устроили погребальные торжества.
По законам Ясы Чингисхана каждый нукер и вообще каждый воин, участвовавший в сражении, должен был поделиться одной пятой своей добычи со своим ханом. Нынче предводитель их Кулькан был мертв, лежал на носилках. Но все равно воины поочередно подходили к нему, как к живому, опускались на правое колено и почтительно клали самые ценные награбленные вещи – тут была и церковная утварь из золота и серебра, и женские украшения, и меха, и посуда. В сторонке откладывали ценную пушнину для отправки в Монголию великому кагану. Ее повезут те вестники, которые должны сообщить хуралу о страшном бедствии – гибели чингисида – царевича Кулькана.
На городской площади стояли рядом две церкви – Воскресения Господня и Иоанна Предтечи. По приказу Батыя татары разобрали обе церкви до трех нижних венцов, а снятые бревна и доски навалили для костров. На одном уложили всех погибших в бою воинов, второе кострище предназначалось для одного лишь хана Кулькана.
Намечали возжечь сразу оба погребения, но вышла заминка. Рядовых воинов клали беспорядочной кучей и сжигали, ровно поленья, но сына Чингисхана полагалось проводить в заоблачный мир достойно его высокородности. Вместе с ним положили его умерщвленного саврасого коня в золотой сбруе, оружие, личные вещи, победную добычу. А еще полагалось отправить вместе с ханом в его новую жизнь сорок красивых девушек. Такого количества в маленькой Коломне не смогли сыскать, пришлось послать в степь, где находились обозы, за ясырками – пленными рабынями.
Воинов построили в девять рядов, перед ними – трубачи с рожками, с котлами, обтянутыми бычьей кожей. По мановению Батыя стоявший рядом с ним щитобоец ударял в круглый медный щит. Вспыхнул огонь, под гулкие удары в котлы и тоскливый рев рожков взметнулись вверх черные клубы дыма.
Три дня над Коломной летали в воздухе пепел и сажа, и все три дня монголо-татары веселились и пировали, затем двинулись вверх по Москве-реке.
Если князь Всеволод привел для защиты Коломны несколько полков дружинников и ополченцев, то его девятнадцатилетнего брата Владимира отец послал в Москву лишь с дворцовыми оруженосцами – мечниками да детьми боярскими, как называли молодых воинов и слуг.
Великий князь Юрий Всеволодович считал, что татары не дойдут до Москвы, и послал сына лишь для порядка. Да и никто не ждал беды для Москвы, даже гости – купцы заморские не думали отъезжать. Но, правда, гости все же что-то, видно, чуяли, потому что привезли продавать на Русь в этот раз не соль, не ткани шелковые и не пряные коренья, а булатные мечи, кольчуги, щиты – довольно, чтобы насторожить опасливого человека.
Вместе с младшим Владимиром великий князь послал воеводу Филиппа Няньку – мужа умудренного, даже, можно сказать, ветхого деньми.
– Небось не забыл, Филипп, как мы с тобой боронили ту Москву? – спросил Юрий Всеволодович при прощании во Владимире.
Нянька не забыл, воспоминания о событии тридцатилетней давности были ему, как видно, усладительны, голубые, чуть выцветшие глаза его залучились молодым задором:
– Забыл, когда крестился, а как родился, и вовсе не помню! – Филипп любил сводить разговор на шутку.
Юрий Всеволодович знал это, но говорить смеха ради был нынче не склонен:
– Разбалагурились старички, а рать крепка опасеньем.
– Вестимо так: опасенье – половина спасенья, – продолжал веселиться Нянька.
– Будет! С Богом! – Юрий Всеволодович крепко обнял Владимира, тот поцеловал его в плечо. – Берегись, сынок!
– Как в тот раз, и нынче будет! – заверил старый воевода. – Тогда с тобой, ныне с князем Владимиром.
Тот раз – это 1208 год, когда на Москву напало войско рязанского князя Изяслава и стало грабить пригороды. Юрий Всеволодович был тогда как раз в возрасте Владимира, и отец Всеволод Большое Гнездо послал его во главе сводных дружин на войну с рязанцами. Это был первый самостоятельный поход будущего великого князя, и был он победным. Филипп Нянька участвовал в нем рядовым кметем, нынче же шел на рать главным воеводой и верил, что опять возвратится с почетом и славой.
Шли верхоконным отрядом с обозом саней, на которых везли съестные припасы, оружие, броню. Остановки делали в селах, принадлежащих великому князю: отдыхали, пополняли запасы еды для себя, ячменя и сена для лошадей.
– Мне эта дорога привычна, – говорил Владимиру словоохотливый Нянька. – Окромя того похода на Изяслава, мы с твоим отцом боронили Москву еще и в тринадцатом годе. Я ее, Москву-то, как свою родную избу знаю, кажный ее уголок.
Старый воевода не бахвалился. Еще при подходе к городу он начал перечислять названия встречных сел и деревень: Подсосенки, Елохово, Ольховец, Лосиный Остров. Сама Москва лежала на высоком холме, а вокруг поля и всполья, плотно укрытые снегом, – ни дорог, ни речек, но Нянька крутил головой, уверенно тыкал рукавицей по сторонам:
– Вон, глянь, там за сугробом, справа от горы, речка Руза течет, в нее вливаются ручьи Золотой Рожок, Черногрязка, Чечерня… А по левую сторону, глянь-ка, река Неглинная да ручей Черторий.
Владимир, чтобы не перечить старику, согласно кивал, поддакивал:
– Ага, а это, знать, сама Москва-река?
– Она как раз делает переверт в том месте, где в нее втекает Неглинная, так что получается мыс. Он весь дремучий, вишь, бором зарос, оттого и мыс сам называется Боровицким.
В кремле Нянька повел себя по-хозяйски, как и подобало великокняжескому воеводе. Князь Владимир не претендовал на главенство, тем более что Нянька ничего и не делал без совета с ним, без обсуждения с боярами.
Прежде всего обошли крепостные стены. Имели они пять въездных ворот, из которых шли дороги на Владимир, на Смоленск, на Рязань, на Тверь, а еще к слободке на Вшивой горке. Воротами Нянька остался доволен: толсты да широки они и не обветшали еще. И стены добротны, но он велел их еще лучше укрепить, сказал одобрительно:
– Дед твой Всеволод Большое Гнездо кремль этот срубил, а еще и церковь Спаса на Бору.
– Отчего же – на Бору?
– Тут сплошь сосновый бор рос, прямо в нем и поставил самую первую церковь.
Москва – город молодой, еще ста лет не исполнилось с той поры, как заложил его Юрий Долгорукий. При нем это был город, обнесенный земляным валом и отыненный деревянными кольями. Через десять лет его сын Андрей Боголюбский, женившийся на дочери местного боярина Кучки, срубил крепкий дубовый кремль. В 1177 году свирепый рязанский князь Глеб превратил кремль и все посады в пепел. И еще не раз наведывались зорители – из Рязани, из Южной Руси, но все это были как-никак свои, а вот теперь надо ждать пришлых врагов – неведомо откуда-то взявшихся, неведомо зачем явившихся татаров.
Со стороны рек Москвы и Неглинной кремль неприступен из-за высоких и отвесных, будто стены, круч. С тверской и ростовской сторон за Варварской горой кремль опоясан рвом. Измерив его, Нянька остался недоволен: шириной чуть больше двух саженей, глубиной же и того меньше. Долбить мерзлую землю тяжело, и воевода велел натыкать под снегом во рву побольше чеснока – острых шипов, а вал облить несколько раз водой, покрыть скользкой наледью. Москвичи исполнили его повеления, но про себя ворчали: де, зачем это, де, только зря спины гнем, потому как не видать нигде никаких татаров.
И торговища проходили, как всегда, в строго определенные дни и многолюдно, а привоз товара на них не становился беднее. Так было и в тот морозный день.
Торговище, по обыкновению, велось на открытом воздухе почти повсеместно, но строго по виду товаров. В одном месте, прямо в кремле ремесленники предлагали свой товар – скобяной да гончарный. Там же располагались и заморские гости, продававшие или менявшие на пушнину привезенные из Царьграда и Кафы ковры, кружева, шелка, вина, мыло, губку. Приезжавшие из ближних сел крестьяне становились со своим добром на Подоле. На время торопливо распрягали лошадей, ставили их у прясел с торбами или перед охапкой сена, а сани, груженные хлебом, мороженой рыбой, кадями, кадками, вязками лыка, гонта, оставляли на берегу. Ободранные и замороженные свиные и телячьи туши ставили прямо на лед реки. Продавали или обменивали обычно сразу тушами, возами, кулями, кадями, а тем, кто был победнее или поскупее, отвешивали пуды и фунты – соли, меда, воска, пряностей, овощей.
Как всегда, не было недостатка в нищих, в убогих и в тех людях, что продавали воздух. Все было, как всегда, но вдруг ударил полошный, вестовой колокол: по звуку все поняли, что именно он, а не благовестный.
На торгу и так-то шумно, а тут началось столпотворение и бестолковщина. Заполошно кричали бабы и дети, терявшие друг друга в людской сутолоке. Матерились мужики, торопившиеся запрячь в сани лошадей, чтобы утечь восвояси, да только мало кто успел…
Незнакомые крики неслись над Москвой-рекой:
– Кху! Кху? Кху?
– Ур-рага-ах!
Десятка два всадников на мохнатых коротконогих лошадях, грозно крича, размахивая короткими кривыми мечами, ворвались на плечах убегавших с торговища людей через Боровицкие ворота в кремль.
В полошный колокол ударил стражник, заметивший со стены приближение чужих людей. Филипп Нянька велел закрыть все ворота, а кметям и детям боярским вооружиться.
Татары, не встречая сопротивления и не видя опасности, сразу же принялись за грабеж. Хватали все подряд, жадно и бестолково. Что приглянулось, совали в притороченные к седлам баксаны, а вещи, на их взгляд зряшные, презрительно отбрасывали. Били глиняные горшки и тарели, топтали деревянные ложки и солоницы, рвали в клочья разное бабье узорочье. Из-за каждой железки, будь то ножик или свайка, начинали ссориться меж собой чуть не до драки, рвали друг у друга из рук оловянные чашки, кованые светцы – треножники с рассошкой для лучины. Охотились и на людей, высматривали, какая девка помоложе да поядренее, хватали их прямо за волосья, а если они вырывались и убегали, накидывали аркан и подтягивали на ремне к седлу.
Филипп Нянька и Владимир, а с ними все воины находились в засаде – иные на стенах, кое-кто забрался на крыши домов, а один из кметей вскарабкался на высокое дерево и, удобно устроившись на толстом суку, первым натянул тетиву лука. Его стрела ударила увлеченного разбоем татарина в спину под лопатку и прошла насквозь. Увидев это, соплеменники пораженного татарина опамятовались, снова выхватили из ножен мечи, завертелись на лошадях. Но теперь стрелы посыпались на них, словно дождь из тучи. Осмелели и торговавшие крестьяне, начали катить под ноги татарским всадникам кадки и даже деревянные пустые и с пивом бочки.
Избивали хищных пришельцев жестоко, беспощадно, лишь двоих тяжелораненых всадников оставили в живых для расспроса с пристращиванием.
Возобновлять торговлю охоты ни у кого уж не было, да и вечер наступил. Ремесленники, крестьяне, купцы подсчитывали потраву, а воины, вышедшие из своих укрытий, ликовали:
– Ай да мы!
– Как воробьев их перещелкали!
– А то!..
– Ну, а татары – это, хвать, просто обыкновенные разбойники, и только!
– Тьфу на них, и все тут!
Уже хотели было распахнуть ворота, чтобы вытащить оставшееся на Подоле добро, как вдруг снова раздался сполох. Дозорный закричал:
– Татаре! Тучами!
Вылезли на стены – верно: уж не малый отряд, а столь огромное воинство, что задние ряды его, растворявшиеся в вечерних сумереках, невозможно было ни разглядеть, ни сосчитать.
Новые всадники не мчались сломя голову, вели лошадей шагом, сторожко, высматривая то ли возможную опасность для себя, то ли ушедших вперед лазутчиков. Увидев стоящие на льду реки замороженные туши, подняли веселое галдение. Объезжали вокруг, разглядывали, свиные туши брезгливо валили на бок, а телячьи да бараньи сволакивали в одну кучу.
Непрерывно прибывавшие и прибывавшие татары – все на конях и при полном вооружении – не подходили близко к кремлю, но неторопливо объезжали Москву, брали ее в кольцо. Выбрав удобное место – в заветрии, на с взгорке или возле проруби – обустраивались для ночлега: – ставили на треногах небольшие медные котлы, разжигали костры.
– Будто у себя дома, – обиженно сказал князь Владимир.
– Да-a, не торопятся… Дескать, куда она, Москва-то, денется. Однако нам с тобой пошевелиться надо. – Филипп Нянька, всегда спокойный и невозмутимый, сейчас был явно встревожен. – Маловато силенок у нас, надо поголовно всех горожан подымать на защиту города.
Как стемнело, воевода с князем снова поднялись на мостки, обошли стены по всему пятиугольнику кремля. И в какую сторону ни обращали взоры, всюду – костры, костры, костры, будто звезд на небе – не счесть!
– Нянька, – оробел князь Владимир, – ведь если возле каждого костра хотя бы три татарина, то ведь и тогда их будет множество тысяч!
– Вот я и говорю, что горожан надо поднимать. Всех, всех поголовно!
– Неужто и баб тоже?
– Баб приневоливать не будем, однако же и они могут сгодиться – подать что-нито на мостки, ну там кипяток, смолу горячую, стрелы и пики, то да се, мало ли где они могут пригодиться. Однако, конечно, приневоливать не станем.
– А мужиков что же – приневоливать?
– Соберем вече, ты слово им скажи княжеское.
– Како тако слово? Я не знаю…
– Вспомни, как батюшка твой говорит. – И Нянька велел ударять в набат.
Медноволновый гул беды и тревоги разлился по Кремлю. Со всех подворий потянулся на площадь, где стояла звонница, мирный московский люд.
Филипп Нянька поднялся по ступенькам на верхнюю степень, вместе с ним князь Владимир и батюшка из церкви Спаса на Бору.
– Князь Владимир Юрьевич слово молвит! – крикнул на всю площадь воевода.
Владимир подошел к краю степени. Полыхали смоляные факелы, и в их колеблющемся блескучем свете видел молодой князь обращенные на него сотни глаз. Что в них? Испуг? Недоверие? Растерянность? Владимир вдохнул морозного воздуха, но не решился нарушить напряженную тишину.
– Господи, спаси любящих Тебя! – произнес за спиной батюшка, осеняя напрестольным медным крестом собравшихся на площади людей.
Владимир снова окинул взглядом плотную толпу: мертвая тишина, и у всех на лицах – напряженное ожидание. Он вспомнил наконец нужное слово:
– Государи мои, братия и воинство, горожане Москвы! Нечестивые враги пришли, чтобы сжечь наши дома и Божии храмы, забрать наше добро, убить смертью мучительной всех мужей, а женок и детей увести в позорный плен. Неужели дадимся ворогу? Неужто не постоим за свою волю, за веру христианскую? – Владимир умолк, прислушался: ни голоса, ни вздоха из толпы, только колышется морозный воздух да потрескивают факелы. Продолжил отчего-то осевшим голосом: – Так что? Откроем ворота? Или сядем в осаду и будем биться?
– Биться! – Не один кто-то отозвался, словно все враз это слово выдохнули.
– Не отдадим Москвы!
– Лучше смерть, чем полон.
– Говори, князь, что делать?
Владимир ответил окрепшим от родившейся уверенности голосом:
– Что делать, лучше моего знает воевода Филипп Нянька. Исполняйте все, что он повелит.
Среди бондарей, гончаров, плотников, суконников немало нашлось мужей, умевших управляться не только с ремесленным сручьем, но и с ратным оружием. Оказалось, что в подклети дворца свалены послужившие в давних боях мечи, копья, сулицы, секиры. Иные иступились и проржавели, но в кузнях завздыхали меха, раздувая огонь, забухали по наковальням молоты.
Воевода Нянька всех ополченцев разделил на десятки, назначил в каждом своего десятского и всем указал место на городских стенах.
Возле каждой бойницы складывали впрок вороха лучных стрел и легких, метательных копий – сулиц. На всю длину пристенных мостков натаскали камней, иные из которых были по пуду и более. Повсюду возле лестничных подъемов разложили и не гасили всю ночь костры: на них в котлах растапливали смолу, готовили крутой кипяток. Чистильщик печей, которыми отапливались избы и бани по-черному, принес углей и сажи, а уборщик отхожих мест предложил поливать татар со стен свежим дерьмом, но Филипп Нянька их строго обругал за то, что они не ко времени надумали бражничать и спьяну несут невесть что. Но только эти двое и оказались баламутами, остальные московляне, даже женки и отроки, вели себя самоотреченно, жертвовали для укрепления города всем, что имели.
Князь Владимир радовался, видя, с каким рвением ратники и жители города готовятся к обороне, но сердце точило сомнение: неужто можно такой несметной силе противостоять? Хотелось спросить об этом воеводу Няньку, но отчего-то язык не повиновался. А сам Филипп Нянька сомнений своих не выказывал, однако если бы ему сказали, что крохотная Москва продержится целых пять дней, не поверил бы, назвал бы это чудом. Надежды на то мало было, что придут на подмогу со своими дружинниками великий князь Юрий Всеволодович и его сыновья Всеволод да Мстислав.
Четыре дня татары не могли даже приблизиться к стенам, а если кто и прорывался, скользя и падая на отвесной круче или на обледенелом валу, то находил скорую смерть. Ночью татары стаскивали мертвых, а с утра возобновляли приступ. Еще неизвестно, сколько дней продержались бы московляне под водительством Няньки и князя Владимира, если бы не началась кромешная вьюга.
На исходе дня сначала слегка заненастило, а ночью повалил густо снег. Под утро усилился ветер, снег стал завиваться резче и резче, так что в двух шагах ничего было не разобрать. Еще только-только забрезжил рассвет, пурга не кончилась, но татары умудрились каким-то образом подтащить к воротам окованное железом бревно и начали им таранить ворота. Удары были столь сокрушительными, что дрожали стены. Дубовые полотнища ворот не выдержали. Татары, конные и пешие, ворвались в кремль.
В миг город наполнился шумом и топотом. Татары вскрикивали то победно, то настороженно. Защитники, прятавшиеся на стенах и в укрытиях, молча прислушивались к происходящему.
К обеду ветер стал залегать, развиднелось, и сразу установилась звонкая, опасная тишина.
Татары не стали стаскивать затаившихся защитников, а просто начали поджигать все строения подряд, предварительно, конечно, забрав в них все, что им казалось ценным. Начали с княжеского трехжильного дворца – огонь взметнулся столбом, а затем с устрашающим гулом и треском заметался по кровлям соседних домов, начал облизывать крепостные стены.
– Сгорим заживо, – каким-то чужим, отстраненным голосом произнес Филипп Нянька.
– Как это? – сам не свой вскрикнул молодой князь Владимир. – Да мне и двадцати еще нет, не жил еще, и чтоб – заживо?! Я не дамся! До последнего буду биться! Нет, нет, Нянька! Давай скорей спустимся!
– Давай, – согласился воевода с совершенным безразличием. – Держись за спиной у меня.
Лестницу, по которой они с вечера поднимались на стену, замело снегом, ступеньки даже и не нащупывались. Нянька просто скатился вниз и встал с обнаженным мечом. Владимир тоже съехал, встал за спиной воеводы, тоже попытался вывернуть из ножен меч, но сил недостало ему. Увидел, как рухнул, окрашивая кровью свежий сугроб снега, Нянька, почувствовал, как сильные руки обхватили его самого сзади.
Все эти месяцы безвестия и ожиданий великая княгиня владимирская Агафья Всеволодовна провела, затворившись в тереме, и на общие семейные трапезы редко выходила. Молилась много, но в домашней молельне, а выстаивать службы в церкви мочи не было. Водяная болезнь ее заметно усилилась последнее время. Холодная опухоль от ног добралась до чрева, а нажатие пальца оставляло глубокую вмятину, как в крутом тесте. Стопы ныли, подошвы были как подушки, и в подглазьях темные отечные круги. Травы, какие назначал лекарь, помогали плохо. Лекарь велел: не пей, – а жажда мучила непрестанная и нестерпимая. В изголовье у постели всегда помещался запотелый жбанчик с квасом. От всякого малого усилия начинала великая княгиня задыхаться. Но главное, разрывало ей душу беспокойство за сыновей и за мужа. Когда он уезжал, в упрос просила слать ей гонцов. Он обещал, но не послал ни одного. От мысли, что, может быть, он уже мертв, обмирало сердце. Снохи и дочь утешали, что, если погибнет, о том известят непременно и тело доставят. А если ничего нет, значит, обмирать рано.