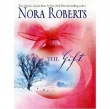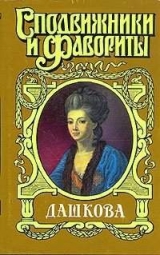
Текст книги "Княгиня Екатерина Дашкова"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц)
– Хотел с тобой, братец Роман Ларионыч, потолковать.
– Дело какое спешное?
– Дело и есть. О дочке твоей Катерине Романовне.
– А чего о ней толковать: живет в деревне и живет. Аль полагаешь, о судьбе ее пора с императрицей поговорить?
– Нет, Роман, разговору с государыней сейчас не выйдет. Сам видишь, не ищет она моей службы.
– Неужто так и гневается? Сколько лет мы ей правдой и верой служили. Ничем себя не опорочили.
– О том мы с тобой знаем. У ее императорского величества счет иной. Вон сколько лет с Лестоком ссорится. За картами намедни так и сказать изволила: мол, дай Лестоку волю, он всех моих подданных зараз отравит. Видно, конец графу наступил.
– Не иначе старая бестия Бестужев-Рюмин своего добился. Благодари, брат, Бога, что за тебя еще не взялся.
– Не соперник я ему, вот пока и не добрался. А Лестока так обнес, что и ареста добился, и до допросов в Тайной канцелярии дошло. Сказывали мне в великой тайне, что и без пыток не обошлось.
– Господи, помилуй и спаси! Да в чем пытать-то графа?
– На дыбу подымут, что дадут подписать, то и подпишешь, на бумагу не глянешь. Разбирайся потом, в чем сам себя оговорил.
– Не враг же он государыне.
– Теперь такого вслух не скажешь. Тайный сыск политическим преступником признал – будто на державу Российскую покушался, против нее злоумышлял. К казни приговорили, да государыня милосердие проявила – разрешила навечно в Углич сослать под караулом.
– А верно ли, что преображенцу тому, что с вами правительницу арестовывать ездил, тоже досталось?
– Верно, Грюнштейну. Только Грюнштейн сам виноват. На Украине старшую сестрицу Алексея Григорьевича Разумовского встретил – накинулся. Стал корить, что, мол, заслуги его перед государыней выше заслуг ее брата. Мол, он, Грюнштейн, во дворец государыню сопровождал, жизни не жалел, а граф Разумовский со страху под лавкой дома отсиживался. Вот теперь все Разумовские в чести, а ему с семьей и жить не на что.
– Батюшки светы, так и сказал? Отчаянный!
– Отчаянный и оказался: с места под арест и по приговору вместе с женой и сыном в Сибирь на вечное поселение. Доехал ли, нет ли, кто узнает.
– Тебя, братец, послушай, сон вперед на год отобьет. Лучше скажи, что о Катерине моей Романовне толковать хотел?
– Хотел. Отдай ты ее нам с Анной Карловной. Во фрейлины ей по летам рано, да и не время Воронцовым о себе вести подавать. А Аннет наша Катюше ровесница. Будут как сестры родные расти, ни в чем для нас разниться не будут. Сам знаешь, как Анна Карловна моя деток твоих, почитай как родных, любит. Без Катюши скучает. Толкует, что пора, мол, за учение ее браться. Что мы для одной Аннет, что для них обеих гувернеров да учителей нанимать будем самых лучших. А у Сурминых, не гневайся, какая наука!
– Не ждал я такой пропозиции, братец, никак не ждал. Огорошил ты меня, ничего, не скажешь. Пожалуй, я бы и не прочь. Только с людьми как быть? Обнесут ведь, света белого невзвидишь: при живом-то отце крестницу императрицы вроде в приемыши отдавать.
– О том не тужи. Анна Карловна сама все государыне доложит, согласием крестной заручится. Может, государыня и слово какое в собрании скажет оправдательное, мол, сама тебе такое подсказала, чтобы обе крестницы вместе росли у нее на глазах. Обрадуй нас с графиней, а уж Анна Карловна сумеет тебя от наветов защитить. Государыня ее очень любит.
– А коли Катерина сама не захочет? Убиваться начнет?
– По ком убиваться, братец? Марфы Ивановны не вернешь, да и забыла она мать, поди. Совсем еще несмышленышем к бабке уезжала. Что ей в пустом доме-то делать? Положим, пока Александр Романович твой в нем живет, так досуг ли молодому человеку с дитятей возиться. Для начала ты и власть родительскую показать можешь, а там Катюша сама к нам привыкнет, ни о чем спрашивать не станет.
– Ну, коли так…
– Так что, братец, по рукам?
– Стало быть, так. По рукам, и помогай вам Бог, Михайла.
В связи с неожиданной болезнью императрицы Елизаветы целую ночь были собрания и переговоры, на которых между прочим решено было главными министрами и военными властями, что, как скоро государыня скончается, великого князя и великую княгиню возьмут под стражу и императором провозгласят Ивана Антоновича. Число лиц, замешанных в это дело, очень велико, но до сих пор никто друг друга не выдавал… Я подозреваю многих в том, что они принимали участие в этом заговоре, особенно из имеющих причины опасаться великого князя и вполне естественно ожидающих более милостей от принца, который всем им будет обязан.
Из тайной депеши датского посланника Линара, 1748 г.
…Все от припадка государыниного переполошилось. Кто постарше, государя Петра Алексеевича, батюшку царицы, вспомнил – у него под самый конец его дней такие припадки случались. Кто помоложе – о годах стал говорить. Кому сорок годков пустяком кажутся, кому припомнится, сколько лет государыня Екатерина Алексеевна прожила. Может дочка матушку и не пережить.
По мне, не того опаситься надо. Никак, Мавра Егоровна права – на то и поговорка: сорок лет – бабий век, сорок пять – баба ягодка опять. Больно ласкова государыня с графом Разумовским стала, а в разговорах былой откровенности нету. Если кто с Алексеем Григорьевичем не согласится, тут же вскинется: ее мысли он высказал, она сама иначе бы никогда не сказала. Другое дело в беседах с Маврой Егоровной или Анной Карловной. Примечать графские промашки стала. Не худо бы, мол, книжек почитать, ученых людей послушать. Иной раз и при нем досады не сдержит – все скажет.
Оно и верно, чему Алексей Григорьевич учиться мог? Да не поздно ли теперь за голову хвататься? Французский диалект – сколько лет при государыне – не перенял. О немецком и итальянском и не мечтай. Государыня, может, не так чисто, да на всех трех языках изъясняется. О крестницах так и сказала, чтоб Аннет и Катерина на всех трех обучались. Не худо бы к тому английский присовокупить, да и русский не помешает. На нем сама больше всего ошибок делает, так пусть крестницы сильнее ее будут. Графиня Мавра Егоровна вмешалась, не много ли девочкам? Отмахнулась, только то и запомнишь, что в младенческие лета, играючи, услышишь.
Четырем языкам учителя девиц наших учат. Аннет порой и поленится. Катюша только бы над тетрадками да книжками сидела. Аннет более танцам прилежит, танцовщика на урок еле дождется. Катюша к музыке более расположена – отличной клавесинисткой станет. Анна Карловна с великим удовольствием садится слушать, как Катюша экзерсисы свои исполняет. Есть у нее грех. Как не быть! Во всем первой быть хочет. Никому нипочем не уступит. Чтоб толковали кругом, что лучше всех, хвалили. За похвалу живот положить может. Нелегко ей с таким нравом, ох нелегко.
Вот толкуют, государыня театральным действам привержена. Что оперу италианскую, что пиесу французскую комическую – все до конца досматривает, от души веселится. В театр на репетиции машинерии непременно ездит – посмотреть, как машина чудеса всякие на сцене представляет. День за днем на спектакли ходит. И стихосложение не забывает. С нами, оно правда, о виршах своих новых более не толкует, а пиитам суд чинит. Тредьяковского, придворного сочинителя Анны Иоанновны, на дух не принимает. Да и как принять – больно много императрице покойной од слагал, перед правительницей тоже у ног расстилался. Такое не забывается. Но государыня чаще о скуке толкует: мол, длинно и замысловато Василий пишет, читать скучно, безрадостно.
Тут уж без Теплова Григория Николаевича дело не обошлось. Не без его суждения. Хоть и молод, а при цесаревне еще давно был. В школе Феофана Прокоповича на Черной речке в Санкт-Петербурге учился. В Германии пару лет провел. Толки-то разные о нем ходят. Будто не чужой он преосвященному Феодосию человек, а даже самый родной. Потому, дескать, Феофан на него одного денег не жалеет. Может, и впрямь сынок: кто Богу не грешен, царю не виноват? Перед восшествием нашей государыни на престол адъюнктом в Академии наук стал, а по восшествии в доме Алексея Григорьевича – свой человек. Ученость графу заменяет. На все руки мастер: письмецо ли какое написать, слово сочинить, господам министрам ответ придумать. Сейчас с младшим братом графа Кирилой Григорьевичем за границу отправился. А вместо секретаря у графа человек тоже предостойнейший – Ададуров Василий Евдокимович, из первых воспитанников академической гимназии. Господин профессор Бернулли Ададурова адъюнктом при кафедре математической оставил. Только Василий Евдокимович и переводами занимается, и русскую грамматику составил. Не случайно государыня его для обучения языку российскому к великой княгине назначила. Слово единого по-российски супруга наследника не знала, а теперь, поди ж ты, как чисто говорит, редко-редко слова подбирает или от волнения по-свойски выговаривает.
Василий Евдокимович и мне всех учителей для наших девиц присоветовал. Катюша о российском просила, Ададуров господина Бехтеева назвал. Слог, мол, у него преотличный. Аннет господина Бехтеева и видеть не желает, а Катюшу от него не оторвешь – часами заслушивается.
– Спасибо тебе, Михайла, за дочку. Ей бы парнем родиться, а девке чего над книжками корпеть – не в коня корм. Все едино: замуж пойдет, все науки перезабудет – до них ли?
– Не скажи, братец, по нынешним временам во французской ли державе, в английской ли дамы свои салоны имеют. Светские люди, господа министры в салонах собираются для приятного времяпрепровождения, о делах толкуют, новостями обмениваются. Не слыхал разве? К ним и послы с поклонами едут дела государственные решать.
– Коли так, из Катерины прок выйдет, супруга бы ей достойного сыскать. С прощелыгой бы да щелкопером не связалась.
– До того еще время есть. Пока похвали дочку лучше – она страсть это любит. Вон братцу Александру за похвалу одну что ни день письма пишет.
– Александру письма? В одном-то городе? Шутишь, поди, братец.
– Какие шутки. Слог свой, дескать, полировать хочет. Обо всем, что на дню было, Александру нашему Романычу описывает.
– И что Александр – неужто глупости такие читает?
– Читает да поправки свои делает, с Катюшей обсуждает.
– Гляди, что деется!
– Дочки своей не знаешь, Роман Ларионыч. Тебе дивиться ей да дивиться, а ты часу не найдешь с Катюшей потолковать.
– Ну уж, уволь, Михайла Ларионыч! По делам дипломатическим ты у нас прокурат, вот и майся с девкой, коли охота.
…А перемены грядут – что глаза закрывать? Все едино готовиться надо. Недолго графу Разумовскому во дворце жить-поживать: надоел государыне – на новое потянуло. С Никитой Бекетовым графиня Мавра Егоровна по старой памяти быстро справилась. Увидела государыня мальчишку за кулисами театра – заснул ненароком, – сердечушко-то и подтаяло. Пошли подарки да посулы. Камер-паж закичился, голову потерял. Только Мавра Егоровна притирания ему присоветовала – чтоб румянец ярче стал. Со свинцом. Ну и стал – все лицо сыпью обметало. День ото дня хуже да хуже. Императрица и так заразы каждой, как огня, боится, а тут ненароком кто и шепнул: не от дурной ли, мол, болезни. Дело молодое, девок кругом много. Государыня на глаза больше к себе камер-пажа не пустила. Наградила щедро, но прочь отослала. Графиня Мавра Егоровна вне себя от радости за Шуваловых да за графа Алексея Григорьевича. Ан, выходит, поспешила с радостью наша графинюшка.
После припадка тяжкого в 748-м государыня чаще на богомолье выезжать стала, обедные да всенощные отстаивать. Известно, коли смерть увидишь, к Богу потянешься. И потянулась. В июле 748-го решила ее императорское величество Саввино-Сторожевский монастырь навестить, а оттуда в Новый Иерусалим отправиться. Вместе с Алексеем Григорьевичем. Честь честью, посемейному. По пути остановилась у Алексея Григорьевича в имении его графском на берегу Москвы-реки. Его будет Знаменское-Денисьево, а через речку Петровское Николая Федоровича Голицына. Время летнее, жаркое. Ночи короткие, душные. Государыня решила поразвлечься – за реку съездить. У князя Голицына скоро свадьба – на Прасковье Ивановне Шуваловой жениться собрался. Государыня любит свадьбы играть. А в Петровском брат невесты – Шувалов Иван Иванович, другой камер-паж.
Известно, государыне он с малолетства представлен. Сама его при короновании в камер-пажи производила, только ко двору являться не требовала. А тут ужин отличный. Музыка в парке. Танцы. Апраксин с Бестужевым-Рюминым подоспели, о производстве в камер-юнкеры Ивана Ивановича попросили. Государыня просьбу сановников тотчас уважила. Больно поторопилась. Граф Алексей Григорьевич на глазах с лица спал. Двор как-никак – чего тут только не бывает.
…Любовь <императрицы составляют> самые безделицы, услаждение туалета, четырежды или пятью на день повторенное, и увеселение в своих внутренних покоях всяким подлым сбродом, лакеями себя окруженною видеть, все ее упражнение составляют. А зло, которое от того происходит, весьма велико есть, ибо она, будучи погружена в таком состоянии, думает, когда она себя тем забавляет, что ее подданные к ней более адорации иметь будут и что потому она меньше их опасаться имеет. Всякая персона высшего ранга, нежели те, с которыми она фамильярно обходится, ей в то время неприятна. Мнение о малейших делах ее ужасает и в страх приводит…
Маркиз Шатарди – Амелоту. Москва, 1744 г.
– Ваше императорское величество, к вам граф Петр Иванович Шувалов с докладом.
– Пусть войдет. Здравствуй, здравствуй, граф. Сделал ли, как просила? Все вызнал?
– Государыня матушка, что успел за один день, вызнал. Коли мало тебе покажется, еще искать буду.
– Ищи, Петр Иванович, только чтоб ни одна живая душа не знала. Ни брату, ни Мавре Егоровне не проговорись. Ни к чему мне любопытство это. А Воронцова Михайлу Ларионыча иной раз и проверить не грех. Лишь бы не догадался, обиды не затаил.
– Понимаю, государыня, как не понять. Вера проверке не враг.
– Не тяни, граф. И без того дел множество. Какие там амурные интрижки у брата нашего, французского короля? Чай, не первую метреску завел – сколько там у него перебывало, а по докладу Бестужева-Рюмина выходит, будто теперь не монарх, а метреска всем в державе ихней заправлять стала. Без нее ни войны, ни мира, ни союза, ни законов. Как такое быть может?
– То-то и оно, государыня, что может – конфиденты наши парижские подтверждают. Да и у министров иностранных здесь тоже окольными путями повыведал: Помпадурша теперь королевой, и весь сказ. К ней подходов ищут, аудиенции просят, подарки везут.
– Помнится, сказывал Михайла Ларионыч, была у короля в метресах одна госпожа. Из знатного семейства. Незамужняя.
– Надо полагать, госпожа де Мэйи.
– Ишь, запомнил.
– Для докладу, врать, государыня, не стану, записал, а так нешто имена их иноземные в памяти удержишь?
– И то верно. Так к ней в Версаль младшая сестра поселилась, вдовушка, а король на нее тут же глаз и положил, на вдовушку-то.
– Господин министр назвал – маркиза де ла Турнелль.
– Может, и так. Король-то глаз положил, а маркиза условия его королевскому величеству поставила: сколько ей на содержание в год давать, чтоб детей, коли родятся, узаконить, а перво-наперво сестру с глаз долой.
– Король на все согласился и титул ей герцогини де Шатору дать изволил.
– Титул-то недорого королю стоит. Откупился, поди, и в доме тишина. Развлекайся, когда охота придет.
– Оно только на вид так, государыня, а на поверку его величество и без герцогини шагу ступить не мог. Дело-то недавнее – герцогиня Шатору, никто другой, его королевское величество к союзу с Пруссией против Венского двора склонила. Она же со своим государем на поля сражений отправилась – король перед ней молодцом показаться хотел. Захворал в лагере, герцогиня его и отхаживала.
– Ни от кого не скрывалась?
– Скрываться-то они, может, и скрывались, да от людских глаз нешто убережешься. Куда ни приедут, королю и герцогине два дома рядом готовили и через стенку потайной ход на время их пребывания пробивали, а там и снова закладывали, чтоб следов не оставалось.
– Хитро, ничего не скажешь. А как же все кончилось? Откуда Помпадурша появилась?
– Разное толкуют, государыня. Кто ее, правду о коронованных особах, до конца, узнает? Будто дал король обет, коли выздоровеет, с метреской расстанется. Пошел на поправку и впрямь герцогиню от себя отослал. А как совсем выздоровел, снова ее к себе затребовал.
– Любил, значит.
– Может, и любил, аль каприз свой тешил. Только герцогиня в день своего приезда в Версаль захворала да через две недели Богу душу и отдала. Слухи ходили, не от яду ли.
– Что ж, поди, многим поперек дороги встала.
– Да прок-то какой? Герцогини не стало, другая навернулась. Как король ни убивался, свято место пустым не осталось: добрые люди Помпадуршу подсунули.
– Это кто ж такие?
– Не скажу, государыня, не знаю. Про то лучше Михайлу Ларионыча спросить вели – он дока, каждый секрет знает.
– Гляди-ка, кто пожаловал. Легок ты на помине, Михайла Ларионыч. Только что мы с Петром Иванычем тебя поминали, говорил он мне, какой ты в своем деле дипломатий разных прокурат, а я графу про новые порядки версальские рассказать хотела, да все, никак, перепутала. Ты теперь ступай, Петр Иваныч, кланяйся Мавре Егоровне. Услуги твои мне более не надобны. У меня с Михайлой Ларионычем разговор будет.
– Я весь к вашим услугам, государыня.
– Сказывал ты, будто теперь во французском королевстве новая метреска всем заправляет. Выходит, через нее можно и к королю подход иметь?
– Трудно сказать, ваше величество. Мадам де Помпадур такие деньги от короля получает, что ей уже и льститься-то не на что.
– Не скажи, крадут-то люди от двух причин – кто от бедности, а кто от богатства. Бедные по мелочи, богатые по-большому. Чем богатства больше, тем руки жаднее. Сколько ж Помпадурша королю стоит?
– Судите сами, ваше величество. На наряды полтора миллиона ливров в год, на притирания, румяны да всякие женские хитрости – три с половиной, на придворных ювелиров – два. Да к тому прибавить надо на лошадей – три миллиона, на прислугу – полтора да на театр – четыре. Оно все вместе на шестнадцать миллионов ливров и потянет. На что такая метресса позарится?
– Батюшки, в глазах потемнело. Российской императрице впору, и все это лакейской дочке, под забором выращенной.
– Лакейская-то дочка она на словах, а на деле что-то иначе получается. Сызмальства ею синдик Ленорман де Турнем занимался. Лучших учителей нанимал, что рисовать, что на клавесинах да арфе играть, что танцевать, что на сцене представлять или стихи читать. А в возраст вошла, за собственного племянника Ленормана Д’Этиоля выдал. Синдик через друзей ее вовремя и королю показал. Ахнуть не успели, а уж она на месте герцогини Шатору всем заправлять стала, министров снимать да назначать, о политике судить.
– Дорогонько королю любовь-то его обходится. Глядишь, казна ради одной девки опустеет.
– Да любви-то уж и в помине нет.
– Нет? Чего ж тогда о ней толковать, о Помпадурше?
– А то, ваше величество, что хоть король повсюду на холодность мадам де Помпадур сетует, ледяной статуей обзывает, из рук его маркиза нипочем не выпустит. Слово, видно, такое знает.
– Надолго ли слова-то приворотного хватит?
– Так ведь госпожа де Помпадур все в новом обличье государю своему является. Раз спектакль разыграет лучше всех королевских актеров, другой концерт музыкальный устроит, третий портрет его величества лучше придворного художника напишет. Королю и занятно и лестно: найди попробуй другую такую. С расчетом куда дольше удержаться можно. А коли король с какой красавицей при дворе и начнет махаться, маркиза и то дозволит, лишь бы дело далеко не зашло, лишь бы она могла себя еще лучше показать.
– А персоны Помпадурши, Михайла Ларионыч, у нас ни у кого нет? Поглядеть хочу.
– Непременно найдется, ваше величество. Не в Петербурге, так из Парижа привезем. Художнику, коли понадобится, закажем.
– Только чтоб не знал никто, а прежде всех Бестужев.
– Не извольте сумневаться, ваше величество.
– Да, еще забыть спросила, партия какая у Помпадурши есть? Дворянство за нее стоит ли?
– Маркиза куда хитрее, государыня. Она сама знатных молодых людей ко двору рекомендует. Король оглянуться не успел, а вокруг все ее люди. За примером ходить недалеко – Пьер Франсуа Иоахим де Берни. Нынче квартиру в самом Тюильри имеет, пенсию от короля, членом французской академии недавно стал. Сказывали, не ждал он, не гадал при дворе оказаться. С детства о духовном звании помышлял. Семинарию Сен Сульпис окончил. А маркиза осемнадцатилетнего аббата королю представила. Собой хорош.
– В осемнадцать-то лет некрасивых поискать.
– А этот будто и впрямь красавчик. Обхождения самого изысканного, характера ровного, мягкого. Стихи тоже слагать умеет. Дамам при случае угодить. Наш конфидент парижский за ним сразу присматривать стал – дипломатией больно интересуется, а Помпадурша тому потакает. Того гляди, министра нового иметь будем.
– Неужто в Петербурге?
– Нет, государыня, того выше – в самом Париже. Умные дамы там великая сила, французы сами признают.
…Батюшки не стало. Большого ума был человек. Слов нет, пожил. Государя покойного Петра Алексеевича всего двумя годками моложе был, а нынче 750-й на дворе. И стольником был, и графом, как государыня Елисавет Петровна на престол взошла, стать успел. Деньгам цену знал – вон состояние какое собрал: на всех сыновей хватит. Дом московский Роману отойдет. Будет с утра благовест крестовоздвиженский слушать, от обедни из стен монастырских возвращаться. По весне в саду монастырском соловьи поют. От березы дух легкий, вольный. Словно и города окрест нет. Тишина.
Надо бы и самому домком московским обзавестись. На всякий случай. Что ни случись, есть где голову приклонить. Анна Карловна слышать не хочет. Сестрице-императрице верит: никогда, мол, доверия не лишит, расстаться не пожелает. А как же с родным племянником быть, с великим князем Петром Федоровичем? Плох ли, хорош, угоден, неугоден, а все родная кровь, да и наследник объявленный. Ан неделями государыня видеть его не желает, к столу своему не допускает, словом не обмолвится. Одно только и слышишь, как извернуться, чтоб наследования его лишить, чтоб державы Российской ему не оставлять. Родной, а тут всего-то и дел – сестрица двоюродная. Сегодня в чести, завтра в забвении.
Слыхал, Петр Алексеевич Соковнин двор свой московский торговать собрался. В Сретенской Большой улице, в приходе Спаса в Пушкарях. Высокий – в три апартамента. Просторный – всего восемнадцать палат. Сам в гостях бывал. Обои шелковые да лаковые. Коробки у окошек да дверей и панели золоченые. Хоть сию минуту балы давай – не стыдно. На дворе хозяйство целое – конюшня на семнадцать лошадей, баня, деревянных изб людских семь. Анне Карловне не понравилось – под палатами на улицу три лавки каменные. Так на то и улица торговая – каждая лавка доходу по сто рублев дает. Можно спесью-то и поступиться. Вроде и еще одна лавка есть, деревянная, а доход тот же. Четыреста рублей не шутки. Жить в Москве, пока Бог милует, и не надо, только денежки и будут идти. Еще каково при новом-то фаворите дела пойдут. Хоть обхождения Иван Иванович Шувалов пока и мягкого, да кого власть не портит. Слаб человек, ой слаб, а этому и вовсе едва за двадцать перевалило. Держится достойно – сызмальства таким был, а душой мальчик еще, несмышленыш.
– Никак, засиделся вчера долгонько, Иван Иваныч? Опять от писаний своих оторваться не можешь? Гляди, до времени постареешь – что за радость! Нет потанцевать аль за картами поразвлечься. Огорчаешь ты меня, мой друг, слов нет как огорчаешь!
– Прости, государыня, если гнев твой нехотя навлек. Только сама знаешь, до танцев я не охотник, а за картами скучать начинаю – такой уж нескладный выдался.
– Иной раз думаю, может, меня опасишься.
– Тебя, матушка? С какой такой стати? В толк не возьму.
– Себя не выдать, коли с какой дамой помахаться вздумаешь. Дело молодое, не без того ведь.
– Чем же обиду такую, государыня, от тебя заслужил?
– Какая обида! Грех да беда на кого не живет.
– Да тут ни греха, ни обиды. Рядом с тобой, государыня, ни на кого и глаз-то подымать охоты нет. Коль с лица смазливы, обхождения не знают. Коли обходительны, все равно для разговору не годятся: амуры одни на уме.
– Так-то мой двор, Иван Иваныч, тебе плох? С европейскими не сравнится?
– По мужеской части еще как сравнится, а вот по дамской – далеко нашим дамам до французского политесу. А ведь будут такие, государыня, право слово, будут, и скоро.
– О ком это ты?
– Да хоть о крестницах твоих Воронцовых, что Анна Карловна всегда в одинаковых туалетах водит: близняшки – не близняшки.
– А одногодки, это верно. Так разглядел ты их, Иван Иваныч?
– У Анны Карловны с визитом был. Она девиц пригласила.
– Аннушка-то куда как хороша, вторая мать будет. Катюша, та похуже – тоже в мать, да покойнице красотой хвалиться не приходилось. Ее сестрицы старшие, Лизавета да Марья Романовны, попригожей будут. Бойкие.
– Что ты, государыня, уж бойчее Катерины Романовны вроде и быть нельзя. Прямо в глаза смотрит, на каждый вопрос тотчас отвечает, от шуток не смущается. Я уж и то диву дался, сколько для своих лет книг прочитала. Кантемировы оды одну за другой наизусть читает. Над Тредьяковским посмеялась – придумщик, говорит, от него язык наш смысл теряет.
– Неужто сама так и сказала?
– Сама, государыня, сама. Графиня остановить Катерину Романовну решила: мол, не след в ее-то годы придворного пиита поносить. А Катерина Романовна как начнет его вирши читать, графиня сама смехом зашлась. Да еще добавила: государыня наша куда лучше сочинять умеет.
– Не иначе Анна Карловна порассказала. Да и то сказать, когда это было: все временем припорошило.
– Нет, государыня, истинную поэзию никакое время не припорошит. Нас всех давным-давно и в помине не будет, а здесь все твои песни распевать станут, как намедни графини молодые Анна Михайловна да Катерина Романовна на два голоса спели – только что в пляс не пошли: «Во селе, селе Покровском, середь улицы большой». Любо-дорого послушать.
– Вот разодолжил, Ванюша, вот разодолжил – ровно теплом весенним пахнуло. Что ж раньше-то молчал?
– Да к слову, государыня, не пришлось.
– А еще чему графинюшки наши обучились, чем порадовали?
– Не поверишь, государыня, как начала меня Катерина Романовна расспрашивать, уж и не вспомню, как ответ держал. Все про сочинителей французских – откуда толь о них наслышалась.
– Ты-то хоть не осрамил, Иван Иваныч? Это тебе, друг сердешный, не с Ломоносовым разговоры разговаривать. Девичий ум любопытный: захочет вызнать, все вызнает. Ай да Катюша.
– Осрамиться не осрамился, а попотеть пришлось – Анна Карловна подтвердит. Уж графинюшка Анна Михайловна позевывать начала, а Катерине Романовне все неймется. Только на том и спасся, что обещал графине новинки парижские присылать – здесь-то их найти негде.
– А Аннушка неужто ни о чем не попросила?
– О нотах, государыня, новомодных. Усиленно просила, раскраснелась даже вся – графиня ей выговор сделала. Да, поглядишь да позавидуешь.
– Чему это вдруг, Иван Иваныч?
– Образованности. Немало сил надобно приложить, чтобы таких барышень воспитать. Да и под родительским приглядом.
– Ах, вот ты о чем. Так ведь и тебе никто не мешает нашей принцессой заняться. Сам говорил, способная, только мала еще очень. Да вот и Катерина Романовна не у отца с матерью растет.
– То-то глаза у графинюшки грустные.
– Грустные. Замуж выйдет, домиком своим обзаведутся, грусть-то, глядишь, как в воду канет. Не дам я им обеим, невестам моим ненаглядным, в девках засидеться. С таким-то приданым да родством женихов сыскать куда как просто.
– А нашей принцессе?
– Неужто труднее? Дал бы Бог веку.
– Даст, государыня, непременно даст на радость нашу. На мое счастье несказанное.
– Графиня. Графиня-матушка. Горе-то какое. Катерина Романовна, Катерина Романовна наша…
– Господи. Да говори же ты, Дуняшка, толком говори.
– Уж и не знаю, как сказать, Анна Карловна, в жару вся мечется, ротик-то открыть не может, Господи.
– За дохтуром послать немедля.
– За которым прикажете?
– За Бургавом, как водится. За кем же еще? Да времени, времени не теряйте.
– Если разрешите сказать, графиня, может, с Бургавом следует повременить.
– Как это повременить? Почему?
– Лейб-медик он, у государыни что ни день.
– А как же иначе?
– Так вот, а болезнь, похоже, у фрейлен графини заразная. Помнится, ее императорское величество указ издали, чтоб не только что во дворец приезжать, а из города увозить больных немедля, дабы его высочество наследника, не приведи, не дай Господи, не заразить.
– У вас есть подозрение на оспу, фрау Ильзе? А как же, как Аннет? И я? Боже мой, Боже мой. И тогда мне нельзя являться ко двору, не говоря об опасности быть обезображенной. Лицо, побитое оспой, – это же чудовищно. Пошлите немедленно за графом.
– Но, может быть, все лучше решить до его прихода.
– Почему? И как решить? Я не знаю, просто не знаю.
– Да вот управляющий идет, он непременно подскажет.
– Степан Ефимович, ты слышал?
– Слыхал, графиня, Дуняшка все сказала. Так понимать надо, корь это. Болезнь тяжкая. Около больной день и ночь сидеть надоть. Жар держаться долго будет. И не простудить чтобы – двери, окна перво-наперво законопатить…
– Ты совсем с ума сошел, Степан. При чем здесь это? Что мне делать и Аннет? А Катерину Романовну в имение отправить сей же час. Вы, фрау Ильзе и фрау Эмма…
– Матушка барыня, как отправить? Больное дите за тридцать-то верст, по морозу? Да не довезем мы Катерину Романовну, нипочем не довезем.
– Герр Степан, вам не следует обсуждать решения госпожи графини. В конце концов, это не ее дитя, а в шубы можно хорошо закутать. Прислуги больше послать, наконец.
– Да, да, вот именно – больше прислуги. Чего же ты стоишь, Степан Ефимович? Чего еще ждешь?
– Слаба больно Катерина-то Романовна. Может, барыня, дом на две половинки разделить, чтоб к больной и от больной никто не переходил? Это мы мигом…
– Никаких половинок. Я хочу с чистым сердцем ездить к ее императорскому величеству и не брать на душу греха лжи. Ее императорское величество распорядилась вывозить больных из города, так оно и будет. Фрау Ильзе, вы всем распорядитесь сами. Я не могу видеть Катрин – это слишком большой риск. Поветрие так прилипчиво.
– Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, я за всем прослежу, и уверяю вас, через несколько дней благополучно вернемся в ваш дом.
– Никаких дней, фрау Ильзе. Через несколько недель или месяцев. Собирайтесь же, и счастливого пути.
…Оно, может, и к лучшему, что Анна Карловна сама распорядилась, меня ждать не стала. Откуда решимости набралась. Обычно ни о чем не распорядится, ничем не обеспокоится, а тут… Катеньку жалко. Одна-одинешенька. Дом большой, пустой. Степан Ефимыч сказал, две горницы только и затопили: ей да девушкам. Немки обе при кухне, в людской – там теплее. Как стемнеет, к себе уберутся – и до утра. Девушки под боком, да ведь разоспятся, поди, из пушек пали – не разбудишь. Каково оно, с лежанки-то по полу ледяному идти дверь к ним, в случае чего, отворять. Катенька и не выходит целыми днями от себя. Велит, чтоб дверь плотно прикрывали, а то и от себя скобой заложит. Слышат девушки, как сама с собой то ли разговаривает, то ли вслух читает. Две недели прошло – клавесин открыла. Нет-нет да и поиграет. Похоже, и домой ворочаться не спешит. Последний раз записку прислала – книжек все новых просит. Спасибо, Иван Иванович Шувалов заботится. Иной раз оторопь берет, а ну как глаз на Катеньку положит. Не приведи, не дай Господи несчастья такого. А так – диво невелико. Государыня фаворита-то двадцатью годами старше, а он Катеньки всего четырнадцатью. Тоже немало, только так-то по-божески выходит, мужу старше жены быть.