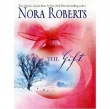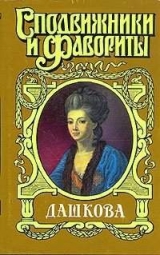
Текст книги "Княгиня Екатерина Дашкова"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц)
Тетушка, графиня Марья Артемьевна, до разговоров не охотница, а бумаги показала. Смотреть смотри, а от вопросов уволь. Одно письмо с ее дозволения списала. Ее батюшке покойному его брат двоюродный из Москвы писал, когда Анну Иоанновну на престол шляхетство выбирало. Мол, своими руками собственную свободу погребли. По «Кондициям» следовало императрице во всем со шляхтой советоваться, ее решениям послушной быть, а они просить стали «Кондиции» преступить и самодержавие принять. Тетушка Марья Артемьевна сказывала, не менее сорока тысяч недовольных в крепости сгноили, кого казнили, кого в Сибирь послали. Все новой императрице радовались – мол, Елизавета Петровна с милостью да правдой придет. Ан не вышло. Еще больше народу в Тайный сыск да на каторгу пошло. Тетушка Марья Артемьевна сказала, едва не вдвое больше. Да и казне досталось. Там Бирон да курляндцы до нее добирались, а тут семейство Разумовских, многолюдное да ненасытное. Имущества-то за душой у них никакого, а жить желают на императорской ноге. Граф Алексей Григорьевич не уставал за родню просить, и все побольше да получше. Иван Иванович Шувалов, тетушка сказала, всех в изумление приводит: ничего от императрицы не берет, от званий да титулов наотрез отказался. Тетушка слово непонятное бросила: ему, мол, и так вся Россия принадлежать может, и без императрицы Елизаветы Петровны. Спросить графиню – резона нет: говорит только по своей воле, когда захочет и о чем захочет. Иначе даже дядюшка Иван Ларионыч словечка от нее не добьется. Тяжело молчит, так что подступиться боязно.
Другой раз сказала: будто народ несправедливости не видит. Государыня всем Разумовского как мудреца да благодетеля представляла, а на деле новоиспеченный граф так пастухом и остался. Вон в Тайном сыске сколько дел – люди про него да императрицу толкуют. Сначала те, что ко дворцу ближе. Тут тебе и капитан-поручик Преображенского полка Тимирязев – тетушка его знавала, и дворецкий мундшенкский помощник, и бунчуковые товарищи из Малороссии, и солдаты, и однодворцы, и монахи. У одного – строителя Троицко-Волновского, близ Белгорода монастыря иеромонаха Пафнутия, тетушка на богомолье была. А с годами и попроще люди пошли – крестьяне, солдаты, дворовые. Купцов немало. Что ж, каждого в застенках пытать, кости ему перемалывать, на дыбе вытягивать, а потом еще и христианами называться? Тетушка в разговоре побледнела вся, губы дрожат, рук на коленях сплести не может. Все своими глазами видела, через все сама прошла: «Не может самодержец без законов править, не может!»
А иеромонах Пафнутий тем Тайный сыск прогневал, что подробности о венчании государыни с графом Разумовским знал. Не он один – тетушка называла: тут тебе и генерал-майорша Бредихина, и иеромонах Троице-Сергиевой лавры Тимофей Куракин, и строитель приписанного к Троице-Сергиевой лавре Троицкого Богоявленского монастыря в Кремле иеромонах Афанасий Дорошевич. Певчих много – на клиросе во время венчания пели. Венчал супругов в Петербурге, как только государыня на престол вступила, Кирилл Флоринский, которого за то произвели в архимандриты Троице-Сергиевой лавры и в члены Синода.
Тетушка Марья Артемьевна толковала, будто всем тот брак нужен был, чтоб места свои при императрице нововенчанной за собой оставить, ничего не менять. Дядюшка Михайла Ларионыч смолчал, а Иван Ларионыч мириться не стал, в Москву уехал. Только будто бы теперь, как фаворитом его сиятельство Шувалов, государыня доверенного человека к графу Разумовскому посылала, чтоб отдал венчальную грамоту и все ее письма. Граф посланного принял, за бумагами, слова не вымолвив, сходил, а вернуть не вернул – тут же в камине сжег. От себя добавил: в мыслях не держал свою благодетельницу чем обеспокоить, не то что огорчить. За то государыня его снова поместьями да крестьянами наградила. За послушание и безропотность. Он и вправду из дворца по первому намеку выехал. Из апартаментов своих нитки не взял. Похвально, заметил дядюшка Иван Ларионыч, только ему в них ничего не принадлежало, как не могут принадлежать и все многочисленные подаренные государыней поместья, раз ничем он, акромя фаворитизма, их не заслужил. Тут и следует подумать над словами персианина Узбека в письмах Монтескье: «Монархия есть полное насилия состояние, всегда извращающееся в деспотизм… Святилище чести, доброго имени и добродетели, по-видимому, нужно искать в республиках и в странах, где дозволено произносить имя Отечества». Вот и выходит, всему начало – нравственность человеческая.
Тетушка Марья Артемьевна с утра в будуар позвала, про Петербург спрашивала, про Ивана Ивановна Шувалова, какие беседы со мной имел, какие книжки посылает. Более других ей интересен был. Потом посоветовала мыслями своими ни с кем не делиться, ни с тетушкой Анной Карловной, ни с Аннет, тем паче с гостями дядюшкиными или, не дай Господь, с господином Шуваловым. Мол, так тебе здоровее выйдет: от мыслей горести одни, мне ли не знать. Обняла, перекрестила. До дверей дошла, обернулась, чтоб присесть, а она и вдогонку крестит мелко-мелко.
От жасмина в окно духом тянет легким, сладостным. Припозднившийся соловей в кустах щелкает. На Неглинной гребцы поют – катанье такое: к Кремлю, до былых Аптекарских садов. У кого ялики получше – и на Москву-реку. В воскресенье у дядюшки в саду огни штучные будут – день рождения кузена младшего. Народ смотреть со всего города собирается. Песельники петь непременно станут. И театр зеленый на острову. Зрители на берегу, а сцена на плотах, на каждое действие новый плот привозят. С декорациями, с актерами новыми. Живые картины с аллегориями.
– Друг мой, обеспокоена я очень. Совет твой нужен.
– Что случилось, Анна Карловна?
– Случилось, нет ли, большое опасение о Катеньке имею.
– О Катеньке? Да я ж ее за завтраком видел: жива-здорова. Правда что потолковать с ней часу не было…
– Может, и надо бы тебе с ней потолковать, да боюсь, проку все едино не будет. И я к ней с расспросами приступала, и Настю-кружевницу – она ей больше доверяет – подсылала, и Аннет разговоры заводила. На все допросы ответов не дает, а на деле после Москвы есть плохо стала, ночами подолгу не спит – то окошко встанет распахнет, то свечу зажжет, читать примется, то опять загасит да по комнате ходит. Прислуга обо всем докладывает.
– Не неможется ли ей, не приведи, не дай Господи?
– О том и речь, что отвечать не хочет.
– К дохтуру надо.
– Не ты первый, государыня давно примечать неладное стала, сегодня господина Бургава в полдень прислала.
– И что лейб-медик сказал?
– Да ничего не сказал. Болезнь у нее, мол, может быть только душевная. Развлечь графинюшку нашу надо, чтоб над книгами меньше сидела, развлекалась, танцевала, пустяками всякими отвлекалась. Иначе как бы в чахотку не впала.
– Час от часу не легче! Катеньке-то сказали ли?
– Сказали.
– А она что?
– Плечиками повела. Не извольте, мол, себя беспокоить. Вы, что надлежит добрым родственникам, и так сделали. Так что тревожить вам себя не след.
– Ну, вот видишь, Анна Карловна, а ты и в самом деле тревожишься попусту.
– Так я, друг мой, думала, тебе приятно будет.
– Слов нет, приятно, и сердце твое золотое я всегда ценил и ценю. Только есть у нас с тобой, Анна Карловна, дела и поважнее девичьих капризов. Скажи лучше, как государыня?
– Плохо, Михайла Ларионыч, день ото дня хуже.
– Как «хуже»? С чего ты взяла?
– А с того, что Ивана Иваныча к себе пускать перестала. Ночь вместе, три отдельно, это она-то!
– Погоди, погоди! А может, и Иван Иваныч свое отбыл, за графом Разумовским и его черед настал?
– То-то и оно, что нет. Голубит его, ласкает, день-деньской от себя на шаг не отпускает, а ввечеру всем апшид общий и двери на запор. Чулкова спросила, глаза отвел. Значит, правда.
– Так думаешь, от нездоровья все?
– От чего ж бы иного. Сам, граф, сочти, как часто припадки-то случаться стали. Двух месяцев не прошло – и снова.
– А Бургав что?
– Смеешься, Михайла Ларионыч, да нешто Бургав сам себе петлю на шею наденет? Проговорится кто, и конец ему на веки вечные.
– Но Лесток-то говорил – тоже ведь лейб-медиком состоял!
– Сравнил! Лесток французской короне служил – теперь-то кто о том не знает! Знал, что свое от Парижского двора в благодарность за службу усердную получит. Да и здесь у него цесаревна была. Рисковать ради чего было, не правда разве?
– Все правда. Значит, молчит Бургав. Ивану Ивановичу и тому ничего не говорит?
– Шувалову меньше всех. Сам посуди: чем его фаворит за правду, что земля у него из-под ног уходит, благодарить может?
– Смотри-ка, Анна Карловна, как ты у нас в дипломатии разбираться стала, хоть сейчас к какому двору полномочным послом посылай! Не ожидал от тебя, женушка, не ожидал.
– Ты еще и над тем, Михайла Ларионыч, голову поломай, что вечор государыня, фаворита отослав, графа Разумовского к себе на конфиденцию позвала. Чулков сказал, не менее часу при закрытых дверях в будуаре толковали. Алексей Григорьевич вышел весь в слезах, слова вымолвить не мог.
– Господи!
– На мой разум, о завещании речь пошла.
– Никогда не поверю! Елизавета Петровна – и завещание! Да она чужой смерти как огня боится, что уж о своей говорить.
– А кто говорит, конечно, боится, только престол кому-то оставлять надо.
– Да уж, загадка. Правительницы Анны Леопольдовны не стало, так после нее сыновей целый кошель, живы, нет ли, кто знает. Одно верно: тот, что императором Иоанном Шестым провозглашался, земной юдоли еще не покинул, иначе бы торжественного погребения в Петербурге не миновать.
– Так тут и дочери в счет.
– Ну, им до трона далека дорога! А вот наследник-то наш объявленный Петр Федорович, сынок его Павел Петрович.
– Да и великую княгиню со счетов не сбросишь. Она престола из рук не выпустит, и не мечтай, ни мужу, ни сыну. Недаром государыня ее видеть не может, на глаза к себе который месяц не пускает. Ни единому ее словечку не верит, все за притворство да лесть принимает.
– Знаю, Анна Карловна, не любишь ты великую княгиню. Сам ее не люблю, да что делать будешь. Екатерина Алексеевна скольких к себе молодых гвардейцев приманить сумела. Может, еще и то государыне не в удовольствие, что науки да ученые разговоры всем развлечениям дворцовым предпочитает. В танцах пройдется ровно нехотя, будто одолжение делает, а сама опять за разговоры.
– Ну, это-то что за печаль. С таким-то личиком в танцах не покрасуешься. Чистая лошадь!
– Полно, Анна Карловна, в последние годы великая княгиня повыровнялась, повадки набралась, по-российски почти что чисто говорить стала.
– А все для чего? Государыню позлить. Даже стихи слагать стала да гвардейцам почитывать.
– Не стихи, а прозаические сочинения.
– А хоть бы и так! К чему ей это? Государыню дразнить?
– Да Господь с тобой, Анна Карловна, уж это ты, матушка, перебрала. Ведь ей же, если что, на престоле быть придется. Российском престоле! Тут уж и языку научиться не грех, не то что наш Петр Федорович – выговор у него как есть немецкий. А так, как ты судишь, и вашим графинюшкам образованность свою при дворе оказывать не след.
– Не графинюшкам, а Катеньке. Если до сих пор не сообразил, Михаил Ларионыч, так впрост скажу: не нужна государыне ее ученость! Не нужна, и все тут! Хочешь добра племяннице, поменьше при дворе об успехах ее ученых толкуй, а уж тем паче с Иваном Ивановичем Шуваловым. Ты про одно думаешь, другие про другое подумают – государыне все равно донесут. Какой она вывод сделает, никто не поручится. А Катерине Романовне нашей жить надо, замуж выходить, детей рожать, хозяйство вести. Ученость, она чтоб жениха хорошего приманить, не боле. Ктой-то там? Никак, шум какой под дверью? Не девки ли подслушивать принялись? Строжайше наказать надо. Ишь, моду какую взяли, негодницы!
– Тише, Анна Карловна, тише. Это Катенька войти, видно, собиралась, да слова твои услыхала, раздумала. Нехорошо-то как вышло!
– Очень даже хорошо! Не дитя малое – своей головой пора думать. Узнала правду, пусть за ум берется. Сам знаешь, как я ее люблю, да иной раз и строгость не помешает. Это с Аннет так нельзя – Аннет тут же слезами зальется, а то и чувств лишится. Катенька – сильная.
…Не надо было к тетушке идти. Не надо. Сама знаю, девицам книги не к лицу. Да мне-то что! Не буду по-тетушкиному жить. И тайком от супруга из дому уходить не буду. Знать не хочу, что девки мелют, а и то верно, николи дядюшке тетушка об отлучках своих не говорит. Перед ним иной раз еле-еле воротиться успеет, непременно туалет выездной менять – в домашний оболокаться. Будто без него весь день проскучала. Ни о чем знать не хочу, а жить по-своему буду. Тетушка приневоливать начнет, к батюшке попрошусь, за хозяйку у него стану. Не все ему одному мыкаться. Того лучше замуж выйду. Своим домом жить стану. Все по-своему заведу. И мужа по сердцу найду. Не знаю какого, а найду.
За клавесин сесть? Душа не лежит. Лучше книга. Иван Иванович последним разом прислал. Нет, сначала Сумарокова наугад открою:
Суетен будешь
Ты, человек,
Если забудешь
Краткий свой век,
Время проходит,
Время летит,
Время проводит
Все, что ни льстит,
Счастье, забава,
Светлость корон,
Пышность и слава —
Все только сон.
Как ударяет
Колокол час,
Он повторяет
Звоном сей глас:
Смертный, будь ниже
В жизни ты сей;
Стал ты поближе
К смерти своей…
Оно и верно: предостережение. От злобы да счетов ничего доброго не случится. Бог с ней, с тетушкой. Как это Иван Иванович толковал, что господин Сумароков примеру следует Буало. Буало, Никола Буало-Депрео. На мой вкус, так лучше всего у него сатиры. Королевский историограф, а какой смелости набрался, и король Людовик XIV сердца на него не держал, одобрял! А «Искусство поэзии» – может, Александр Петрович и по его законам свои стихи слагает, мне в виршах не форма – смысл надобен. Разум! Пьер Бейль куда интересней. Его «Словарь» читать и читать. Постулаты церковные, а в комментариях рассуждения: ничего нельзя на веру принимать, все доказывать, подвергать суду разума. Поэзия никогда до таких высот не поднимется, разве что поразвлечь может, как экзерсис на клавесине: уху приятно, и только.
Что дядюшка с тетушкой о великой княгине говорили? Слыхала, что ученостью отличается, по всем вопросам дискутировать может. А в честолюбии какой же грех? Стала великой княгиней, должна и императрицей стать. Не век же государыне жить да править. Река времен и ее в положенный час унесет. Великого князя не люблю. Грубый. По паркету идет – башмаками, как ботфортами, грохочет. Дразнить всех любит. Дразнит, дразнит, а там смехом зайдется – сам себе радуется. На французском выговор плохой – немецкий. Да и по-русски не чисто говорит, в словах путается. Чуть что – на немецкий норовит перейти. Со мной всегда на немецком изъясняется. За локоть больно хватает. В танцах неловкий – того гляди, на ногу наступит, того хуже – волан оборвет. Извинения не скажет – опять захохочет. И с великой княгиней, тетушка Анна Карловна сказывала, груб. В опочивальне на постелю норовит в грязных ботфортах завалиться – бахвалится, что немец, что солдат и в лагере бы ему жить. Может, и верно, да в глаза-то ему не скажешь.
– Михайла Ларионыч, друг мой, я ждала тебя в великим нетерпением. Что так задержался? Уж полночь скоро.
– С господином Пецольдом конфиденцию имел. Веришь, господин канцлер его за нос водить собрался, так господин Пецольд…
– Погоди, друг мой, со своим Пецольдом. Новости у меня из дворца не лучше.
– Неужто припадок опять у государыня?
– Не припадок, другое тут. Знаешь, как ее величество о прошлом поминать не любит, покойников никогда не назовет, а тут целый вечер о матушке своей, блаженной памяти государыне Екатерине Алексеевне, толковать изволила.
– Скажи, Анна Карловна, о тетушке твоей родной.
– Конечно, о тетушке. Так вот, государыня с утра толковать начала, в каких туалетах императрица Екатерина Алексеевна хаживала, какие особливо любила. Зеленого колера не жаловала, всему малиновый предпочитала. Сказывала, как государя Петра Алексеевича не стало, тут же портрет свой в рост с арапчонком написать приказала – платье темно-красное, жемчугом расшитое, а мантия темно-зеленая, с горностаем. Все, мол, дивились, что скипетр на вытянутой руке держала – по силе государю Петру Алексеевичу под стать. А потом захотела, чтоб ее в золотом парчовом платье списали, с диадемой золотой и мантией алой, с горностаем. А при государе супруге, когда по Европе с ним ездила, в желтой робе, синими цветами расшитой, щеголяла, только не к лицу ей была. Петр Алексеевич хвалил. Да, забыла еще малиновое платье с белым кружевом да зеленой мантией на горностаевом подбое…
– Анна Карловна, матушка, смилуйся! Где мне в туалетах ваших разбираться, да и к чему вся опись эта?
– К тому, что никогда такого не бывало. Примета больно дурная. Не к добру.
– Что не к добру? Да толком-то, Анна Карловна, говори!
– А я и говорю. Потом стала епископа Любского поминать, как с ним в Петербурге танцевала, как ее в боскетах Летнего дворца обнимать осмелился, а она и противства ему никакого не оказала. И матушку великой княгини когда с дочкой увидела, сразу губы жаркие ее братца припомнила, так что озноб прохватил.
– Да кому ж государыня такое говорить могла?
– Кабы мне одной, а тут и Мавра Егоровна сидела, и Василий Чулков при туалете прислуживал, и куафер, и камер-юнгферы.
– А Иван Иванович?
– Который сряду день с утра на глаза не допускает, пока не причешется, румян да белил не наложит.
– Ну, а примета-то при чем?
– Погоди, граф, до конца послушай. Мы все как на иголках сидели, кто в пол утупился, глаз поднять не мог, кто уйти норовил. А государыня и Шубина Алексея Яковлича припомнила: где-то он там на Волге, в своих Работках, поминает ли ее добрым словом. Она, дескать, в мыслях никогда его не оставляла.
– Господи! Час от часу не легче.
– А я что говорю! Это ведь к кончине близкой человек памятью к молодым годам ворочаться начинает. К кончине, Михайла Ларионыч. И все руками свои руки гладит, как кожу разглядывает. Усмехается. Встала, ко мне подошла и говорит: Аннет и Катеньку, крестниц моих, замуж бы поскорее выдать, а то не порадоваться мне на их свадьбах. Не успеть. Слышишь, Михайла Ларионыч?!
Глава 6
Ея сиятельство княгиня
Тревога… Теперь и не вспомнишь, когда в доме угнездилась. Ночами ни дядюшке, ни тетушке Анне Карловне спать не дает. Все чудится, кони к крыльцу мчатся. Нарочный, того гляди, в двери стучаться станет, ботфортами по лестницам загремит. Из дворца. Дядюшка с тетушкой друг от друга кроются. За столом молчат, словом не перемолвятся. Анна Карловна одна в будуаре нет-нет слезу смахнет и скорей к туалету, за пудрой, чтоб следов не осталось. Тревога… Из дворца смурные приезжают. Ни новостей, ни толков дворцовых, пересудов. Плохо с императрицей. Прямой болезни вроде и нет, а гаснет Елизавета Петровна, как свеча оплывшая, то былым весельем вспыхнет, то на нет сходит. Мыслями недобрыми мучается. Ни с кем делиться не хочет. Тетушке Анне Карловне все про свадьбу Аннет твердит, будто пристроить торопится, женихов перебирает.
С пустяка будто и началось – кузины государыниной Марфы Симоновны, в замужестве сенаторши Сафоновой, в сентябре 757-го году не стало. Мало ли кругом смертей! И об этом промолчали, как повелось. Ничего государыне не сказали, а она прознала и в гнев – как посмели, откуда смелости такой набрались, чтоб ее сестрицу да без нее в последний путь проводили. Мавра Егоровна не сдержалась – окстись, матушка, не сама ли велела, твою же волю блюли! Слышать ничего не хочет, а там и в слезы. Мол, все в их семействе прибираются, все из жизни уходят. Еле успокоили, в чувство привели.
Мавра Егоровна к тетушке Анне Карловне заезжала, вспоминали, как слезные письма братец Марфы Симоновны Андрей Симонович Гендриков, граф нынешний, Алексею Григорьевичу Разумовскому писал, о милости да деньгах фаворита просил, чтоб перед царственной кузиной за него предстательствовал. Тем часом государыня на Разумовского осерчала: больно просителей много, мошна царская не бездонная, разуму терять не надо. Только дядюшка Михайла Ларионыч братцам Шуваловым, да и Мавре Егоровне большой веры не дает: больно много богатств получить успели да служб государственных. Куда ни кинь, какой-нибудь Шувалов да стоит. Сразу видно – не родня Ивану Ивановичу, бессребренику. Дело это темное, и говорить о нем никто не хочет. По фамилии родственники, а на деле родни Ивана Ивановича никто в глаза не видал. Между тем образование редкостное получил, в деньгах утеснения никогда не знал. Еще дитятей, при покойной царице Анне Иоанновне, во дворце на почетных местах, сказывали, сиживал. От правительницы Анны Леопольдовны, да и самого Бирона уважение имел. Государыня наша и вовсе в день восшествия своего счастливого на престол в камер-пажи без ходатаев да просьб возвела, а ко двору не требовала, словно и законы для него одного не писаны.
Опять не то! Иван Иванович первый нынче в тревоге. Дядюшка толковал, подчас с утра и лица на нем нет. Глаза запали. Вокруг глаз круги черные-пречерные. А о здоровье графинюшки осведомляться не перестает. С каждой оказией из Парижа книжки шлет. На той неделе ноты венские прислал.
На новый 758-й год во дворце еще разговор. Невесть откуда прознала государыня, что маркиза Шатарди не стало, а за ним графа Левенвольда. Будто и дела ее императорскому величеству до них нет. Ан не так все выходит.
– Слыхал новость, братец Роман Ларионыч? Маркиз да Шатарди в Турине скончался. До конца посланником французской короны там оставался.
– Не поверишь, Михайла, от самой государыни узнал.
– Быть не может!
– Еще как может. Недобрым словом его поминала.
– Это-то известно, венценосцы благодарить не любят. Им службу сослужил и с глаз долой, радуйся, что живым ушел.
– А немало тогда денежек маркиз передал, чтобы государыню на престоле российском увидеть, ой немало!
– Не своих же! Только что перед короной отчитаться. Ты-то не в пример больше, и не один раз, тратился. Спасибо, что хоть теперь государыня цену тебе узнала, что ни день во дворец зовет, о делах толкует.
– Лихо тогда Алексей Петрович Бестужев-Рюмин в доверие войти сумел. Все свои промашки враз отыграл.
– Что-что, а в лихости господину канцлеру не откажешь. Понтирует так, что у любого игрока в глазах темнеет.
– Тут и со стороны маркиза промашка была большая. Пришел к государыне на Бестужева-Рюмина жаловаться, что депеши дипломатические вскрывает, а того не подумал, что в тех депешах. Ладно бы дела дипломатические, а то осуждать государыню решил – и не так-то она одевается, и не с тем народом водится, и развлечениями подлыми себя в личных апартаментах тешит. Да и то бы не такая беда, внешности ее императорского величества коснуться осмелился. Шатарди к государыне с гневом, а Бестужев возьми депеши-то и выложи. Только и оставалось маркизу навсегда пределы Российской империи покинуть.
– Не все так просто, Роман. Со стороны оно, может, и гнев простой, на деле не нужен был больше здесь Шатарди. Зачем императрице всероссийской наставления да уроки, что цесаревна хотела, не хотела – принимать должна была? На мой разум, государыня сама предлогу обрадовалась, чтоб от французской опеки навсегда освободиться.
– А как со свадьбой Аннет, братец? Восемнадцатого февраля так и состоится?
– Сама государыня день выбирала, сама о всех мелочах заботиться изволит. Нам с Анной Карловной ее только за милость да ласку благодарить.
– Аннет женихом довольна?
– Ты ж ее знаешь, истинный ангел во плоти. На все вопросы родительские: как прикажете, так и будет.
– А сама, сама-то что? С графиней мыслями не делилась ли, с моей Катериной?
– При ее-то кротости да мягкости, чтоб никого не обидеть, не огорчить? А с Катенькой они давненько секретами делиться перестали. У каждой свое – не мешают друг дружке. Да и что о молодом Строганове поносного скажешь?
– Ну, батюшка, на наш взгляд одно, а на их, может, что совсем другое выйдет. Верно, что хорош молодец. Собой хорош, воспитания самого изысканного. Императрице всегда по сердцу был – старой любви к отцу его никогда не забывала.
– Да, было время, в фавориты Сергея Григорьевича прочили.
– И то верно, сам от своего счастья отказался. Достоверно знаю, не побоялся цесаревне сказать, мол, каждому случаю предел положен, одному ранний, другому попозже, а я вашего императорского высочества верным рабом и слугою покорным до гробовой доски быть хочу, не замай, цесаревна, отступись.
– Так ведь отступилась.
– Всплакнула и отступилась. Утешилась-то и впрямь быстро, зато Сергей Григорьевич от нее всю жизнь ни на шаг. А вот теперь сынка его для Аннет выбрала.
– Хорош-то молодец хорош, да больно учености всякой понабрался. С Иваном Ивановичем до первых петухов толковать готов. Годков девятнадцати батюшка по заграницам его уму-разуму набираться послал. Сергей Григорьевич, покойник, сказывал, и в Женеве лекции слушал, и по италианским землям путешествовал, в Париже химию, физику да металлургию изучал. А вернулся, батюшки в живых не застал – государыня сама о нем заботиться пообещала. Вот слово свое и держит.
– Прямо моей Катерине под стать.
– Не говори! Только Катерина Романовна наша больше филозофическими материями интересуется. А Строганов-младший и потанцевать не дурак, и в карты перекинуться игрок не из последних.
– В сентябре прошлого году сговор-то, помнится, был?
– А как же, только им государыня от мыслей о кончине Марфы Симоновны и развлеклась. Одно меня, братец, заботит.
– Теперь-то что? Больно ты, Михайла Ларионыч, хлопотлив стал, тормошишься все не судом.
– Да ты послушай, потом суди. Аннет вместе со старшими дочками твоими очень к наследнику благосклонна, а жених-то нет. Сколько его в Ораниенбаум великий князь зазывал – ни в какую. Сказывали по секрету, недоученной обезьяной его обозвал. Смелость не в меру показывает.
– Так ты сам ему растолкуй, нешто монархов от сердца кто любит? Не девки красные, не суженые-ряженые. Какие достались, к тем и прилаживаться приходится. Иной раз как на сердце закипит, терпишь, словечком не обмолвишься. А обмолвишься, до скончания веку каяться придется.
– В конфиденции с зятьком богоданным пускаться до свадьбы резона нет, а после свадьбы тем более. Не приведи Господь, в разговоре супружеском Аннету во все посвятит, а уж там через Анну Карловну дорога к государыне куда какая короткая. Тем и живы ведь, братец, что языков не распускаем.
– Твоя правда, Михайла Ларионыч. О Лизавете своей Романовне и говорить не хочу. Одно семье поношение, государыне в глаза глядеть не могу, а что поделаешь.
– Бог даст, молчание твое при новом царствовании всем нам на пользу выйдет.
– Сам знаю, не за горами то время. Государыня что ни день к себе зовет, о престолонаследии разговор заводит, а до конца довести не может. Все меня пытает.
– А ты что?
– А я? Покуда воли ее императорской не угадаю, словом не обмолвлюсь. Ее императорское величество передумает, а за старые-то мысли я в ответе окажусь? Увольте, милостивые государи, Роман Воронцов и так своего часу заждался. Жизнь целая как ночка летняя промелькнула, и теперь самому себя порешить?!
…Вот и нет с нами Аннет. Дружны мы не были, а все в доме пустота. Тетушка Анна Карловна, запершись на своей половине, глаз не кажет или со двора едет. Дядюшка в хлопотах. Брат Александр раз навестил, больше не едет. К тревоге тоска добавилась.
А свадьба распрекрасная была. Государыня сама крестницу к венцу убирала – в придворной церкви венчались, – сама бриллианты на невесту одела. Аннет не грустила, а так – невеселая была. То ли дома родительского, матушки жалко, то ли сердце не очень к жениху лежало. Спросила ее, рукой махнула: стерпится – слюбится, говорит. В церковь вступила – красивей ее ни дамы, ни девицы не было. Красавица писаная, взгляд прямой, гордый. «Да» свое жениху громко, явственно сказала – во всем храме отозвалось. А на коврик у налоя замешкалась первой ступить. И колечко обручальное едва не обронила – жених на лету подхватил. Тетушка Анна Карловна как плат побелела: быть беде. Еще в проходе у Аннет волан один оторвался – на ходу булавкой зацепили. Тетушка разобиделась, когда я пустяками все назвала. Неужто разум человеческий в плену суеверий таких существовать достойно может.
На лето дядюшка с тетушкой, как всегда, в Царское Село собрались. Тетушка без памяти рада: рядом с молодыми Строгановыми жить будут. Что ни день дочку видеть сможет. Июнь холодный стоит. Два раза снег идти принимался, а то и дождь со снегом. Ветер в оконницах гудит – еще на лето и не открывали. Вся надежда – удастся у тетушки с дядюшкой отпроситься в Петербурге задержаться. От головной боли, скажем, полечиться или еще какого недуга нервического. На все лето не удастся, а хоть неделя-другая проволочится, и то ладно.
Москва. Дом князей Дашковых. Старая княгиня, ее сестра, дворецкий.
– Барыня, карета княгини Гагариной к крыльцу подъехала. Никак, княгиня Анна Михайловна пожаловать изволили. И впрямь, ее сиятельство.
– Не диво, Петрович, сама же за ней посылала. Забыл, старый, письмо от князя Михайлы нарочный привез. Новостями поделиться надо. И ты не уходи, тут побудь, а сейчас встречать беги. Да за порог опять не запнись, экой неловкой стал!
– Сестрица-матушка, спешила к тебе без роздыху, всех девок загоняла, покуда собралась. Случилось что?
– Случилось, Аннушка, случилось! Князь Михайла письмо прислал.
– Здоров ли князюшка?
– Слава тебе Господи. Да не о том речь – в Москву собирается, днями здесь быть должен.
– Вот радость-то, вот радость! И надолго ли?
– А уж тут все, матушка, в наших руках. Жениться князь Михайла решил – за благословением едет.
– Да что ты! Неужто с амурами своими покончил? Давно пора – не к лицу князю Дашкову с замужними дамами махаться. И невеста наша заждалась – не солить же девку.
– Вот тут, Аннушка, и загвоздка: не о нашей девке речь. В Петербурге сыскал.
– Да чьих же будет-то?
– Воронцовых, сестрица, Воронцовых.
– Тех, что при дворе, что ли?
– Их самых, Аннушка, из дому вице-канцлерского.
– Да ты меня, мать, не путай. У Михайлы Воронцова одна дочка, да и ту нынешней зимой, сказывали, за Строганова замуж отдали, Сергея Григорьевича сынка, что из-за границ приехал.
– Так и есть, Аннушка, так и есть. Да Михайла Воронцов вместе с дочкой племянненку растил, Катерину Романовну.
– Вертопраха-то ихнего старшего дочку?
– Что уж ты так строго – вертопраха!
– А как его назовешь? Жена померла, всех детей по свету раскидал, дому родительского лишил.
– Опять же о Катерине Романовне сама государыня беспокоилась – крестница это ее любимая. Чем с отцом-бобылем жить, рассудила, чтоб у дядюшки вместе с его дитем росла. Как-никак графиня-то государыне кузиной приходится. Тут уж против царской воли не пойдешь.