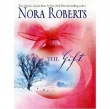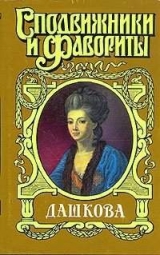
Текст книги "Княгиня Екатерина Дашкова"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц)
– Вот и кончается наше с тобой время, братец Роман!
– С чего это хоронить нас, Михайла Ларионыч, собрался?
– Худо, голубчик, с государыней. Который день из покоев не выходит, к себе никого не допускает. Все одна да все в потемках.
– Так окон и не раскрывает?
– Не велит, да и весь сказ. Только что на столе свечи горят, да и то счетом – чтобы лишнего свету не было.
– Что ж теперь делать. Значит, время его императорского высочества Петра Федоровича настает. Приготовиться надобно.
– Говоришь, Петра Федоровича…
– Кого же еще? Другие законные наследники мне неведомы.
– Господин Шувалов о завещании хлопочет.
– Его дело.
– Не скажи, братец, не скажи. Многие при дворе к его доводам склониться готовы.
– Покуда в фаворитах ходит.
– И да, и нет. Ведь коли его правда выйдет, все по-старому останется. Многим время нынешнее-то по сердцу.
– Стар я в игры такие играть. И против государя наследника интриговать не стану.
– О Лизавете Романовне думаешь?
– Да как ты, Михайла Ларионыч, сказать такое мог! Я в делах Лизаветы Романовны не указчик и не советчик. Сама не маленькая. Только государству большая польза будет, коли все неизменным пребудет: государыне наследник, ею же назначенный и избранный, наследовать должен. Иначе смута пойдет, раздоры.
– Государыней назначенный… Экой ты, Роман, неприступный. Тебе ли не знать, сколько раз государыня в выборе своем каялась, изменить его собиралась.
– Не собралась же!
– И то знаешь, почему не собралась: смерти благодетельница наша завсегда боялась, А тебе что говорила? Что с тобой в завещании обсуждала? Ни разу ведь, братец, со мной не поделился. Меня Иван Иванович как ни спрашивал, а мне, по твоей милости, и донести нечего. Кто поверит, братец родной правды не говорит.
– И хорошо, что донести было нечего. Престолу там для Ивана Ивановича не бывало.
– Да он бы и сам, голубчик, не согласился. Пуще грому небесного смуты да раздоров боится.
– То ли и впрямь боится, то ли в правах своих сомнений не имеет. Как дело ни повернись, ему в почете ни один государь не откажет.
– Бог с ним, с Иваном Ивановичем. Кабы все так ладно да складно было – об одном наследнике речь шла, чего ж что ни день толковали? Может, права его государыня ограничить желала, о Павле Петровиче думала?
– Опять же, братец, разговоры те давно были. Почем знать, как раздумалась с тех пор государыня, что для себя положила.
– Так по какой дорожке мысль-то ее догонять?
– По единственной – о законном наследнике. О регентстве Ивана Ивановича при великом князе Павле Петровиче толк, прямо скажу, был только в том смысле, что, мол, великий князь очень к Ивану Ивановичу большое доверие имеет, куда большее, чем к родному батюшке. А коли о великой княгине думаешь, Михайла Ларионыч, так не мне тебе говорить, сколь креатура ее государыне ненавистна. В наследнике каялась, а уж в ней и вовсе.
…Кабы не тягость моя, уговорила бы князь Михайлу в Петербург вернуться. На крыльях бы сама туда полетела. Князь Михайла, со слов матушки своей, опасается очень, что беременность первая, да и я молода, сложения некрепкого. Оно и верно, когда занеможется, все лучше, что свекровь, золовки или княгиня Анна Михайловна сами ухаживать за мной начинают. Каждую прихоть исполнить готовы, хотя утруждать их никак не хочу. Только поговорить не с кем. Свою Энциклопедию разве что прятать не приходится. Свекровь в голову взяла, будто от чтения головокружение начаться может, да и глазам вред. Боже, как скучно! Когда князь Михайлы нет, ввечеру да ночами читать приходится. Девушки мои молчат, знают – прогневаться могу. Чуть что – скажут.
Иван Иванович помог в дополнение к Энциклопедии приобрести преотличный труд господина Морери – «Большой исторический словарь». Вышел он без малого сто лет назад, а у нас никто и не знает, хоть в Европе сейчас двадцатое издание вышло. Оно-то ко мне и попало. И то интересно, как человеческая мысль на месте не стоит, все новых и новых дорог ищет. На труд господина Морери через двадцать с небольшим лет антидот вышел – труд господина Бейля под титлом «Словарь исторический и критический» с великим множеством поправок и споров с Морери. Автор где неточности заметил, где в прямой спор вступать стал, – цитат из разных трудов множество приводит. Как на диспуте публичном присутствуешь. Комментариев в десять раз больше, чем текста! За один раз разве что в одном примечании разберешься, да и то сразу не усвоишь. Кажется, все виды наук собраны; и география, и история, и филология, и литература, и филозофия, и теософия. Ее императорское высочество Екатерина Алексеевна говорила, что главное – человек все по своему разуму представлять начинает. Только французы в этом самых высоких вершин достигли, в подлинное царство разума войти смогли. Один издатель решил на французский язык знаменитую английскую «Энциклопедию и Универсальный словарь искусств и наук» Эфраима Чемберса перевести и с тем обратился к господину Дидро. Дидро же решил создать совсем новый труд – вместе собрать все, что человеческой мысли открылось. Потому и назвал свое издание «Энциклопедия, или Систематический словарь наук, искусств и ремесл», выбранный из лучших авторов и особенно из английских словарей обществом ученых и расположенных по порядку, Дидро – и в отделе математики – Д’Аламбером. Потщиться надо и Чемберсову энциклопедию сыскать – для сравнения.
– Ну, матушка сестрица, наконец-то опросталась молодая княгинюшка наша. Страх подумать, как намучилась.
– Не говори, Анна Михайловна, минута была – думала, простимся мы с ней. Слава Создателю, выдюжила! День да ночь целые промаялась.
– Так и ты, сестрица, от нее не отходила.
– А как прикажешь? Неужто повитухе доверишься?
– Назвать-то как новорожденную решили?
– Похвастать могу – по бабке: Анастасией.
– Сама захотела, сестрица?
– Не я сама, а Катерина Романовна. Князь Михайла и подумать не успел, как Катерина Романовна нас с ним просит.
– Вот и славно. Всех уважить молодая княгинюшка умеет.
– Только знаешь, сестрица, так что-то мне кажется, не больно она рада дочке. Все о сыночке толковала, радовалась, что Михайлой по отцу назовут.
– Э, матушка, дело молодое. Лиха беда начало, а там, Бог даст, и сыночков и дочек еще принесет.
– Да я ей так и сказала.
– А она?
– Что она! Молчит, головой кивает да вздыхает: тяжко больно первенец-то дался.
– А князюшка наш как?
– Рад без памяти. Мне, толкует, много наследников надобно, не угасать же дашковскому роду.
– Жены словом каким невольным не обидел?
– Веришь, сестрица, будто и не гвардеец, будто не штабс-капитан, да еще Преображенского полка – все так ласково да деликатно, с Катериной Романовной как с дитем малым.
– А дальше-то что – здесь жить станут аль в столицу ворочаться? Вон государыня какое поздравление да гостинцев крестнице на зубок прислала! Глянула на фермуар – глаза от блеску заболели. Бриллианты все прекрупные и воды чистейшей.
– Да уж своего счастья при дворе упускать никак не надобно. Только императрица отпуск князь Михайлы продолжила, чтоб при жене да при матери побыл.
– И то славно, нас всех порадует.
– Да князь Михайла положил в орловские поместья с Катериной Романовной поехать, супруге показать, может, и к хозяйству помаленьку приучать. Не век же во дворцах паркеты натирать. Коли дети пойдут, и в поместье посидеть не грех, делом заняться.
– Староста там у тебя добрый.
– Э, там! Добрый – не добрый. Все едино, свой глазок – смотрок, чужой – стеклышко. Пусть приучается.
…Снег. Снег кругом. Ровно саван все прикрывает – ни кустов, ни сада. На улице пока с утра дорожки проторятся, первые экипажи проедут. Розвальни так в пуху белом и грязнут. Дымки от труб вьются тоненькие-тоненькие. Столбом стоят. Будто жизнь еле-еле теплится, того гляди, замрет. Дворник покуда лопатой ворота откопает, с крыльца сугробы скинет. Лакеи в поварню за кушаньем побегут. Что ни день, все то же. Свекровь толкует, так бы до конца жизнь прожить – новостей поменьше да перемен. Может, старому человеку так и надо. А мне…
Сынок родился. Михайла. В семье радость. Родных пол-Москвы в моей спальне перебывало. С поздравлениями. С подарками. Говорить по-московски будто стала. Свекровь похваливает, что стараюсь. А привыкнуть сил нет. Все перед глазами покои петербургские, порядки наши, воронцовские. Верно, что здесь таких не заведешь – осмеют, за чудачку прослывешь. Князь Михайле стыду наделаешь. Как только он сам применяться может: во дворце один, в дашковском доме другой. Да и многие наши петербургские знакомцы в Москве меняются. Говорят, свободней себя чувствуют. А по мне, какая свобода – воспитание дурное да лень. Подумать только – после обеда и стар и млад на боковую заваливаются. Иные от сна пухнут, будто время убивают. Научилась: со свекровью не спорю, а только у себя в кабинетце, рядом с детской, запираюсь. Князь Михайла тоже в это время вздремнуть не прочь. Как времени не жалко!
Сама себе не верю: неужто скука? Ничто не радует, ничто не дивит. И князь Михайлу хочу прежним видеть. Петербургским. Он иной раз спросит: что пригорюнилась? Да разве правду скажешь! Лучше к шутке свести. Скучно! Господи, как скучно! Неужто в другой раз на лето в поместье ехать? Батюшке бы знак какой подать, чтоб князь Михайлу в Петербург позвали, в полк явиться обязали. Да кому доверишься? О великой княгине здесь и разговоров нет. Немка, и весь сказ. О наследнике лучше говорят, потому что законный, потому что цесаревны Анны Петровны сын. А что голштинец по делам и мыслям, что образованности никакой, не поминают. Будто известия из чужого царства – никому до двора дела нет. Ко двору на службу ездят, живут да отдыхают в Москве и те, что опальные, и те, что в фаворе. Будто граница русская промеж Москвой и Петербургом легла. Свои обычаи, свои суды. О книгах и толковать не с кем. Князь Михайла и тот отмахивается. Профессоров Московского университета чуждаются. В домах, как наш, никогда не принимали. Да и им такая честь нужна вряд ли. Только и радости – последней почтой дядюшка Михайла Ларионыч Гельвеция «О разуме» прислал. Новостей от них почти что никаких. Известно, как дядюшка канцлерскую должность получил, тетушка Анна Карловна в обергофмейстерины произведена. Сестрица Аннет с супругом не очень счастливо живет. Не то что раздоры, а так – не по душе он ей пришелся. Куда больше с сестрицей Лизаветой Романовной дружит да время около наследника проводит. На то и поговорка: от одной яблони одинаких саженцев не жди. Сколько Воронцовых, а каждый своим умом живет, в свою сторону тянет. Батюшка проездом был, на внука поглядел, сказывал, у них с дядюшкой прения идут. По-былому ничто не складывается. Никогда дядюшка на стороне великой княгини не был, но и за наследника не высказывался, а нынче, батюшка сказывал, только о наследнике и толкует. Может, и впрямь век государыни к закату клонится?..
– Дождалась сестрицы, Лизавета Романовна?
– Дождалась, дождалась, ваше высочество.
– С сынком приехали?
– А как же, с сынком, Петрушенька. Такой младенчик утешный, на руки возьмешь – так бы и не отдавала!
– А мой подарок-то передала?
– Как же иначе! Передала. Катерина и князь Михайла благодарить ваше императорское высочество велели. Днями сами приедут предстать перед великим князем. Сестрица малость после дороги приболела.
– Никаких болезней! Все бабьи гримасы да глупости! Передай, чтоб немедля ко мне явились. Князю Дашкову по службе надлежит перед командиром полка явиться, а уж о княгине особо напоминаю. Видеть ее хочу. Немедля!
– Все передам, все передам, Петрушенька. Полно тебе себя волновать. Рабы мы все твои покорные – как велишь, так и будет.
– Не мои вы рабы, а то бы руку мою узнали. Все за тетушку прячетесь: как императрица, да что императрица. А вот не станет императрицы, тогда мы с тобой, Романовна, им решпекту покажем. Как один к ручке твоей подходить будут, в тебе заискивать. Знаю эту свору жадную, навылет их всех знаю!
– Ой, не болтай, Петр Федорович, зазря. Придет твое время, вот тогда…
– Тогда и толковать с тобой, Романовна, не стану, и просить тебя не буду: как велю, так и делать будешь. Для всех царица, а для меня одного…
– Служанка верная, как же иначе, ваше императорское – чуть не оказала «величество».
– Самую малость ждать осталось, Романовна, потерпи!
– Господи! Господи, тошно-то как! Не продохнуть. Который день легкости нет. Думы одни – что было, чего не было. Иной раз хоть в омут головой, да где его, омут, сыскать. Где?
– Государыня матушка, граф Разумовский по зову твоему пожаловал. Просить ли?
– Проси, Василий, проси. Заждалась, сил моих нет.
– Ваше императорское величество…
– Оставь, Алексей Григорьич, не для церемоний звала. Поговорить мне с тобой надобно – боле не с кем.
– Что прикажете, ваше величество?
– Говорю же, брось, брось это, Алеша. Друг мне верный да старый нужен, потому за тобой и послала. Сядь; сядь поближе, как бывало, развей тоску ты мою смертную…
– Что ты, матушка, что ты! Как можно! Тебе-то, красавице нашей, о смерти поминать, не дай Господь, в недобрый час скажешь.
– Знаю, Алеша, что любишь. Знаю, что обидела любовь твою, только ты прости меня, голубчик, вот сейчас, сегодня прости, потому много у нас с тобой хорошего было.
– За тебя, государыня, не скажу, а со мной что хорошего было, все от тебя.
– Вот и скажи, кому любовь да лад наш поперек дороги становился. Помнишь, в Тайной канцелярии дел невпроворот – все тебя костили. Каких только грехов смертных не вешали.
– Бог им судья, матушка, чего старое-то ворошить.
– Да я из-за старого тебя и видеть хотела. В колдовстве ведь тебя винили: малороссиянин-колдун, иначе не называли. Будто Петра Федоровича, наследничка моего богоданного, со свету сжить собирался. Покойница Маврушка пересказывала со слов шуваловских, будто шесть раз на живот его покушался. Про дом в твоих Гостилицах, где ты на плечах своих балки рухнувшие удержал, и то с подозрением говорили. И что команда твоя из малороссов всех русских губила. И что из дворцов моих вещи матери своей отсылал, а она их в Польше прятала.
– Ну какие же вещи, государыня! Сама же, матушка, мне волю давала, счету никогда не вела…
– Да не о вещах толк, пропади они все! Я после тех толков к племяннику соглядатаев, помнишь, приставила. Старика Трубецкого, Чоглокова и твоего братца Кирилу Григорьевича для верности, чтоб комар не проскочил, чтоб о каждом слове знать.
– Как иначе, матушка!
– Как иначе… А между мной и племянником с тех пор кошка и пробежала. Год от году хуже становилось.
– Его вина, государыня, что благодеяний твоих не ценил.
– А я вот тебя спросить хочу. Захворала я тогда, в постели без памяти лежала. Бестужев уж отходную над царицей читать собрался. По ночам с Апраксиным у Чоглокова совещался, как власть царскую делить будут: кому достанется, кому нет.
– Государыня!
– Помолчи, граф! Лучше ответь мне как на духу: тебя-то там случаем не было?
– Государыня!
– Не скажешь правды, так и знала. А ведь великий князь с супругой тогда летом у Чоглоковых в поместье близ Тайнинского поселились. И Кирила твой Григорьич туда что ни день наезжал. Заговор, выходит, плели. Вот и вся твоя любовь да дружба, граф! Прочь поди, не надобен ты мне такой. Поди!
…Кажется, невозможно себе представить большей противоположности, чем великий князь и великая княгиня. Их вкусы ни в чем не совпадают, интересы столь различны, а манера обращения являет у одной век просвещения и разума, у другого… худшие черты прусской казармы. Великий князь любит топать сапогами, непременно громко хохотать, отпускать солдатские непристойности, и ему доставляет удовольствие видеть смущение присутствующих от его нескончаемых выходок. Он счастлив только на плацу, где производит учения, но и там, как говорит князь Михайла, внешняя выправка заботит его много больше, чем хороший маневр.
Нам не удалось избежать немедленной по приезде в Петербург встречи с ним. Князь Михайлу уже ожидал нарочный с предписанием немедленно явиться к командиру полка, в котором великий князь из чистой видимости числится. Нашлось предписание и для меня: неуклонно сопровождать мужа на всех вечерах и праздниках в Ораниенбауме, поскольку таково правило для всех полковых жен. Моя усталость от дороги не являлась оправданием и могла навлечь на князь Михайлу нелепый, а может быть, и жестокий в своём проявлении великокняжеский гнев. И хотя мне и впрямь было не под силу пускаться в новый путь, я не рискнула пожертвовать служебными обязанностями мужа, а радость увидеть наконец-то мою дорогую княгиню поддержала меня. Подумать только – два года в Москве как один прошли.
Ораниенбаум совершенно несносен. Его заполонили немецкие офицеры, которых его высочество умудрился собрать из самых отходов немецкого общества. Эти вчерашние беглые солдаты, булочники и башмачники вполне освоились во дворце. Они не знают русского языка, а всякая ошибка в немецком вызывает у них непозволительное веселье и хохот, к которому охотно присоединяется великий князь и, к моему величайшему стыду, сестрица Елизавета Романовна и кузина Аннет. Все попытки спокойно поговорить с великой княгиней в первый раз оказались тщетными. Позже мы договорились о встречах вне дворца. Вы удивляетесь нашей разности с великим князем, заметила как-то раз великая княгиня, но в свое время она была совсем невелика и даже наоборот. Она рассказала, что впервые познакомилась со своим кузеном, которым великий князь ей приходится, когда ему было одиннадцать лет и когда он был красивым, любезным и прекрасно воспитанным мальчиком, каким и остался в ее памяти. Следующий раз она увидела кузена в Петербурге в качестве его невесты.
Думается, однако, что это ошибка чувств и памяти. Дядюшка Михайла Ларионыч, встретивший великого князя всего три года спустя, не скрывал никогда своего разочарования и приводил слова государыни о на редкость дурном воспитании племянника. Кто знает, почему произошла подобная метаморфоза. Теперь все праздники происходят в специальных солдатских палатках, украшенных по стенам зелеными ветками, что придает им вид по крайней мере конюшни или солдатского бивака. Князь Михайла согласен с моими вкусами, хотя и склонен быть более снисходительным к своему командиру.
Великая княгиня ранее меня прочитала Гельвеция и увлечена его мыслями. Да и трудно не увлечься положением, что каждый человек носит в себе от рождения задатки гения, и лишь от окружающей среды и обстоятельств зависит, сможет ли он свою гениальность развить и проявить. Значит, усилия каждого человека в этом направлении оправданы и могут увенчаться успехом!
– Ну, Роман Ларионыч, сам ты у нас в генерал-аншефы, благодарение Богу, вышел, а теперь и вовсе, того гляди, всем двором командовать станешь.
– С чего бы это, братец?
– А с того, что малый двор весь в руках твоих дочек. Лизавета Романовна великого князя к рукам прибрала, Катерина Романовна с великой княгиней такую дружбу водит, только диву даешься.
– Что правда, то правда.
– И сестрицы между собой не вздорят? Великому Князю все друзья супруги – враги.
– А знаешь, с Катериной Романовной не так. Сколько раз он с ней конфиденцию имел, уговаривал с великой княгиней дружбы не водить, словам ее не верить.
– И не приказывал? Не ругал?
– Где там. Княгиня наша сама удивлялась, какие речи разумные вел, рассудительные. Слово в слово не повторю, а смысл такой: мол, с такими простаками, как я, куда безопаснее дело иметь, а великие умы из каждого лимона умеют сок до последней капли выжать и выбросить. Катерина так и повторила: сок из лимона выжать.
– Поди ж ты, пример какой…
– Правильный?
– Ему, братец, виднее.
– Поживем – увидим. А только из супруга, пожалуй, она сок-то уже выжала. Как может, его перед гвардейцами выставляет на посмешище, каждый промах огласке предает. Поначалу-то совсем другое дело было.
– Может, оттого и другое, что русскому языку только теперь обучилась.
Глава 7
Петр Третий
…Вот и все. Вот и не стало великой государыни. Знали, что конец близок. Ждали, а все равно как гром с ясного неба. Еще с лета немочь её совсем одолела. Припадки что ни месяц. Собрались в конце лета в Петербург из Петергофа ехать, государыня только ногу на приступок кареты поставила, да навзничь и упала – спасибо, Иван Иванович да лакеи на руки подхватили, обратно во дворец понесли. Припадок на редкость долго длился. Все лакеи измучились, государыню державши. Попритихнет малость, поуспокоится, руки отпустят, а ее снова колотун бить начнет. Всего больше боялись, чтоб язык не откусила. Потом три дня страшных было – смотреть смотрит, глаза открывает, а слова вымолвить не может, пальцем шевельнуть. Еле тем разом отходили. С великим бережением до Петербурга довезли. Она так уж из дворца больше и не выходила. По залам иной раз пройдет, в театр раз ли, два ли заглянула – и в свои апартаменты, никого видеть не хочет. В декабре ни разу придворным не показалась, на приемах не была. Сказывали, работает, мол, с министрами. Какая работа!
А на самое Рождество конец и наступил. Мучилась государыня очень – Чулков батюшке рассказывал, плакал. Все воздух ртом ловила. Глаза испуганные. Рот кривится, будто что сказать хочет, а звуку нет. Потом руками замахала, ровно встать хотела, приподыматься стала, доктор руку протянул – оттолкнула. Сердито так, досадно. Иван Иваныч кинулся – не видит, узнать не может. На подушки завалилась, последний раз прохрипела и застыла. Все как окаменели. Архимандрит и тот застыл, пока в себя пришел, покойницу крестным знамением осенил, слова приличествующие промолвил. За великим князем заранее послали. Кто-то и о великой княгине подумал. Его императорское высочество супругу увидел, на всю опочивальню сказал: «Вам ни к чему здесь быть. Это не ваше место». Да громко так, отчетливо – все расслышали. И командовать начал, будто покойницы и в комнате нет, а ему до ней дела. Не знаю, чему можно приписать его слова, но думается, ничему хорошему для великой княгини.
Я ждала, что великая княгиня в ближайшие дни что-то предпримет, собравши своих друзей, и оградит себя от возможного несчастья и несправедливости. Но все говорят, она только оплакивает покойную государыню и выходит из своих покоев лишь для того, чтобы лишний раз оказаться у ее гроба. Она кажется совершенно подавленной и не скрывает своих слез, которых не видно ни у кого из придворных, кроме, пожалуй, прислуги, искренне к покойной привязанной. Между тем великая княгиня сумела передать мне в один из коротких наших разговоров записку, которая должна послужить ответом на мой вопрос о престолонаследии. Я не могу расстаться с этим чувствительным знаком доверия и потому предпочту его сохранить, с какими бы неприятностями это ни было связано. Имена в тексте обозначены лишь инициалами, которые я решаюсь раскрыть:
«Последные мысле п<окойной> и<мператрицы> Е<лизаветы> П<етровны> о наследстве точно сказать не можно, ибо твердых не было. То не сумнительно, что она не любила П<етра Федоровича>, и что она его почитала за неспособного к правлению, что она знала, что он русских не любил, что она с трепетом смотрела на смертный час, и на то что после ее происходить может, но как она во всем решимости имела весьмо медлительное особливо в последние годы ее жизни, то догадываться можно, что и в пункте наследства мысли более колебалися, нежели что нибудь определительное было в ее мысли. Фаворит же И. И. Ш<увалов> быв окружен великим числом молодых людей, отчасти не любя же от сердце, а еще более от лехкомыслие ему свойственное, быв убежден воплем всех: множеством людей, и не любили и опасалися Петра III, за несколько времени до кончины и<мператрицы> Е<лизаветы> П<етровны> мыслил и клал на мере переменить наследство, в чем адресовался к Н<иките> И<вановичу> П<анину> спрася, что он о том думает и как бы то делать, говоря, что мыслы иные клонят отказав и высылая из России в<еликого> к<нязя> с супругою ему правление именем царевича, которому шел тогда седьмой год, что другие хотели высылать отца и оставить мать с сыном и о том единодушно думают, что в<еликий> к<нязь>… кроме бедства покарался ему… На сие Н<икита> И<ванович> П<анин> ответствовал, что все сии проекты суть способы к междуусобной гибели, что в одном критическом того переменить без мятежа и бедственных средства не можно, что двадцать лет всеми клятвами утверждено самодержавие. Н<икита> И<ванович> о сем тотчас мне дал знать, сказав мне притом, что если б больной императрице представили, чтоб мать с сыном оставить, а отца выслать, то большая в том вероятность, что она на то склониться может. Но к сему, благодаря Богу, фавориты не приступили, но оборотя все мысли свои к собственной своей безопасности стали дворовыми вымыслами и происками старатся входить в милости Петра III, в чем отчасти и преуспели».
Но то же проявление дружеского доверия и крайне меня огорчило. Из записки следовало, что великая княгиня не набралась решимости заявить о себе и отстаивать свои права, а также то, что у нее недостаточно преданных друзей. Между тем обстоятельства складываются таким образом, что медлить нельзя. Бог весть до чего может додуматься великий князь и на какие действия подвигнет его ненависть к великой княгине и откровенная любовь к графине Елизавете Романовне. Боже, дай мне сил найти и подсказать выход! Князь Михайла во всем со мной согласен, но не знает, как следовало бы действовать. И вообще следует ли.
– Звал меня, Михайла Ларионыч?
– Звал, братец. Дело спешное и сумнительное. Рассудить надо.
– Великий князь что новое удумал?
– Не забывайся, Роман, нет больше великого князя, а хоть и до торжеств коронационных – император всероссийский Петр Третий.
– Виноват, виноват, не подумав брякнул.
– А по нынешним временам тем паче думать надо. Благоволения да и головы лишиться – простое дело. Не слыхал, как наша Катерина Романовна с его императорским величеством еще при жизни покойной императрицы реприманд словесный имела – о смертной казни. Так Петр Федорович и сказать изволил, мол, все непорядки в России от недостаточного применения смертной казни. Вот он, дескать, эту казнь введет, а вместе с нею и порядок настоящий будет. По-русски сказал, а там и на немецкий перевел для друзей своих, офицеров. Немцы от удовольствия мало что не заржали. Рихт, мол, русским, давно пора. А Катерина Романовна тут и вверни, что, мол, государыня-то пока жива и здорова, державой Российской благополучно управляет. Все как онемели. Немцы беспонятные и те застыли, сообразили, видно. А его императорское высочество возьми да и покажи Катерине Романовне язык. Мол, разговор окончен.
– Слыхал. Как не слыхать. Помнится, тогда весь Петербург неделю битую только о том и говорил. Припомнить не могу, о чем дело у них пошло?
– Да об амурной истории, не больно пристойной. Племянница государынина, графиня Гендрикова, с гвардейцем одним куры строить начала. Великий князь решил за честь семьи императорской вступиться: кто с нашей родней махаться будет, всех на виселицу или на плаху, а оттуда уж и до всей России недалеко.
– Думаешь, не шутил?
– Какие шутки! Сам знаешь, как власть человека меняет. Одно дело до престола, другое – на троне. Тут уж былого и поминать не след: обожжешься.
– Да про что ты мне сегодня сказать хотел?
– Про императора Иоанна Антоновича.
– Эва кого вспомнил!
– А ты не больно-то, братец, отмахивайся. Покуда жив Иоанн Антонович, от титула его жди беды.
– Да ведь он давно, сказывают, образ и подобие Божие потерял. Как есть несмышленыш.
– Пусть так. Более того скажу. В Холмогорах его не только ото всей семьи в особности содержали, но мог былого императора видеть один-единственный офицер, Миллер по имени. Так вот Миллеру велено было называть узника своим сыном, да еще и Григорием.
– О Господи! Даже имени крестного лишили.
– И снова скажу, не его первого. Да не в том дело. Сам того не ведал, лишь при аресте Бестужева-Рюмина дело прояснилось. Помнишь, слух тогда ходил, будто в доме Петра Ивановича Шувалова узник важный появился, будто одна графиня Мавра Егоровна сама за ним ходила, ключ от двери всегда при себе носила.
– А как же, и такое толковали.
– Ну так узник и впрямь важный был: Иоанн Антонович собственной персоной. Петр Иванович его в собственной кибитке из Шлиссельбурга по императрицыному приказу доставил. От Бестужева-Рюмина известно стало, что государыня несколько раз будто навестить Мавру Егоровну заезжала и исподтишка за узником смотрела: каков, за человека сойдет ли. Сама убедилась, не сойдет. Где уж, и косноязычный – говорить толком не умеет, и вести себя как положено не в силах. Тут его Петр Шувалов опять же сам, ни на кого не полагаясь, в Шлиссельбург-то и вернул.
– Выходит, хотела государыня им наследника заменить.
– То-то и оно. Разрыв тогда с Пруссией да Фридрихом Вторым вышел, а великий князь им душой и телом предан был. Государыня еще говорила: быть такого не должно, чтоб пруссаки землю русскую топтали.
– Значит, так и сидит Иоанн Антонович в Шлиссельбурге?
– Да дай же, братец, досказать! Экой ты, прости Господи, нетерпеливый. Снова он в Петербурге, снова.
– Ты что?
– Тем разом император Петр Третий распорядился. Анна Карловна вчерась услыхала, что государь планы строит, как его на принцессе Голштейн-Бекской женить, благо под рукой, на наших хлебах который год живет.
– Да государю-то на что он сдался? Что у него, сына и наследника нет? Павел Петрович, слава тебе Господи, растет и в ум входит. Постой, постой… Так это значит…
– Теперь расчел? То и значит, что государь Павла Петровича сыном своим признавать не хочет. Всегда-то его не жаловал, к нему не наведывался, а теперь как шепнули ему, что супруга на сносях…
– Да правда ли? Наплести Бог весть чего всегда можно.
– Так ведь как ни скрывай, рожать придется.
– И то верно. Не иначе, Гришка Орлов виноват.
– Гришка не Гришка, только не государь. Кому, как не ему, правду знать. Он в супружескую опочивальню давным-давно дорогу забыл. А как добрые люди доложили о прибавлении семейства, тут он и власть над собой потерял. Сам со мной толковал.
– И что ты?
– Известно, подождать присоветовал, покуда все не проявится.
– А говорил он с супругой?
– Как не говорить. Ото всего отперлась.
– И на что только надеется? Уж коли такое случится…
– Быть Елизавете Романовне на российской престоле.
– Что ж, намедни его императорское величество отозвал Катерину Романовну в сторонку да так напрямки и сказал: быть твоей сестре, крестница, императрицей, а тебе почитать да лелеять Лизавету Романовну придется. Так что ты поторопись и сейчас ей угождать, тем паче не расстраивать.
– Видишь, братец, тут уж не до шуток. Знаю, Катерина Романовна руку новой императрицы держит.