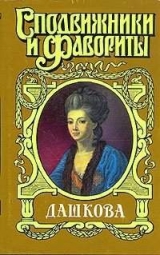
Текст книги "Княгиня Екатерина Дашкова"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
Нет, нет, и думать про такое не след. Государыня нынче все больше не в духе пребывает. Анна Карловна частенько вспоминает, как по многу раз туалеты перед выходом меняет: к лицу – не к лицу ли. Последнюю пятницу представление на полтора часа задержали: все никак решиться не могла. Гневается, коли фаворит с утра пораньше придет, до полного туалету.
Если разобраться, какие такие ее годы. Жить бы да жить, ан молодости хочется. А как ее, разлюбезную, удержишь, чем приманишь? Вон Анна Карловна, одних притираний цельный поднос, а поглядишь, все не то, что было: там морщинка, там складочка, кожа на шее жухнуть стала. Иной раз спросит, мимоходом будто, что ж, покривишь душой ради мира семейного: мол, для всех годы как годы, для тебя одной, графинюшка, как с гуся вода. И не то чудо, что глупость скажешь, а то чудо, что безоглядно верит.
Катюше, надо думать, куда легче будет. Платья новые принесут, Аннета до ночи перед зеркалом вертеться станет, Катюша спасибо скажет, да и велит убрать, не надеваючи. Мол, будет случай, тогда и надену. А уж с книгой новой сейчас к себе убежит. И сообразить не сообразишь, в кого такая умница. Правду пословица молвит: ни в мать, ни в отца.
– Говорил тебе, Михайла Васильевич, какое чудо встретил. Графинюшка маленькая, Романа Ларионовича дочь, что у вице-канцлера воспитывается, Катерина Романовна. Не поверишь, французскими сочинителями интересуется. В последних месяцах болезнью какой-то прилипчивой болела, в поместье жила, так мне все списки через дядюшку слала. Письмо написала, руками разведешь, как все уразумела.
– Романы какие, любовные, Иван Иванович?
– Стал бы я тебе о глупостях таких толковать. Ты послушай только. Тут тебе и Пьер Бейль, и Монтескье, и Вольтер.
– Шутить изволите, ваше превосходительство.
– Не веришь. Так и я поначалу не поверил. Спросил, чем же Бейль ей интересен показался. Да тем, говорит, что силы в себе сыскал с суевериями и предрассудками бороться. Мол, в человеке все от нравственности, а не от веры.
– Так что же графиня читать изволила, в толк не возьму? Журналов и брошюр его у нас не сыскать.
– Да не о них толк – о Словаре историческом и критическом. Сама призналась, со стола у нее не сходят. День одно читает, день другое. Особенно, сказывала, комментариями интересуется. Не то, мол, любопытно, до чего мысль человеческая доходит, а какими путями выводы те достигаются.
– И кто же наставник юной исследовательницы? От простых гувернеров, поди, барышне такого не узнать.
– В том-то и дело, что до всего сама доходит. С книгами все время проводит. Ныне, как из ее письма выразумел, графом де Монтескье всерьез занялась. «Персидские письма» не один раз прочла, мечтает «Дух законов» у себя видеть.
– Думается, не просто графине будет в обществе нашем. Язвительность господина де Монтескье все заставляет увидеть в ином свете. А уж коли понять суть его куртизанов…
– О куртизанах и речь. Вон как она портрет сих светских бездельников и трутней перевела: «Честолюбие в праздности, низость в надменности, желание обогатиться без труда, отвращение к правде, лесть, измена, коварство, пренебрежение ко всем своим обязательствам, презрение ко всем обязанностям гражданина, опасение добродетелей государя, расчет на его слабости и всего более осмеяние добродетели». И от себя добавить изволила, мол, поразмыслить следует, чем своеволие и деспотизм монархов ограничен быть должен в разумном обществе. Так и подчеркнула: разумном. Поручиться можно, в дому воронцовском никто таких мыслей не держится. Разве что старший братец графинюшки. Молод-молод, а филозофией всерьез интересуется. Они с сестрицей особый род переписки завели. Она Александру Романовичу что ни день письма отписывает: что прочла, о чем думала. Одно сказать могу: дай Бог, чтоб прекрасный цветок сей до времени не увял, не сломился. Думается, тогда жизнь Катерины Романовны бесполезной для Отечества не станет.
Глава 5
Графинюшка
Глаза болят… Ровно кто песку насыпал. Слезу сморгнешь, опять печет. Фрау Ильза велела окошки рядном занавесить. Не хочу. Так хоть через силу глянешь на свет белый. Ветки от пуху снежного долу гнутся. Птица встрепенется – облаком метельным все закружит. Веки примкнешь, снежинки долго летят. Тихо. Утешно. Иной раз снегирь на рябине сядет. Клюет. Не торопится. Сороки – те шумят. Ссорятся. Как девки в девичьей. Одна другой пустяки толкуют. Им в сугроб не сесть. Мимо летят. Не хочу занавески. Ровно в яму могильную провалишься. От тишины страх пробирать начнет. Который уже час пошел, никто не зайдет. У девок на все один ответ: позвоните, графинюшка, – мы мигом. Да что мигом! Покуда услышат, покуда прибегут – лица неохотные, с ноги на ногу мнутся: уйти бы. А немок обеих не надо. Злые. О тетушкиных благодеяниях толковать не устают. Только проговорились: когда прошлым годом Аннет увезли с тетушкой, той же хворью болела. Тетушка ни на час с ней не рассталась. Дочь родная. Любимая. Тетушка налюбоваться не может. Гостям толкует, как Аннет минавет да лансе танцует. Учитель меня хвалит. А для тетушки Аннет все равно лучше.
Глаза бы прошли поскорее. Книжек дядюшка много прислал. Иван Иваныч Шувалов слово держит: целая пачка с запиской его лежит. Фаворит, а все говорят – обходительный. Грубого слова не скажет, голосу не подымет. Во дворце, дядюшка толковал, будто стесняется. Сам первый никуда не идет. Ждет, чтоб государыня позвала, место указала. Каждому слову любезному ответ находит. Университетом занимается. И своих денег не жалеет, лишь бы дело сладилось.
– В толк не возьму, братец Роман Ларионыч, то ли ты в Москве, то ли в Петербурге обосноваться решаешь. Сам говорил, что в Москве новый дом строить затеял, и вдруг на всю зиму решил у нас задержаться. Дела, что ль, какие?
– И так назвать можно, Михайла. А может, поважнее всяких дел.
– Секрет какой?
– Секрет-то секрет, да не для тебя.
– Опасишься, братец?
– Не без того. Помнишь, Михайла, как ты от меня все дела государынины скрыл, как во дворец за правительницей собрались? Зла на тебя никогда не держал, а только так выходит, что нынче мой черед настал.
– Окстись, братец, что затеваешь? Супротив кого?
– Не супротив кого, а на случай. Сам рассуди, здоровье у государыни…
– Нишкни! И заикаться не смей!
– Да я что? От правды не уйдешь, годочки у всех нас не к молодости катятся. Зря, что ли, государыня сразу и наследника назначила, и о браке его беспокоилась. Все люди смертные, от чего до времени Боже избави.
– Не пойму, куда клонишь.
– Чего ж тут понимать. Государыня – благодетельница наша, а вот про наследничка-то уж так не скажешь.
– Да это и государыню крушит.
– Не любит его матушка наша, ой не любит. Видно, сердце-то ее беды от него ждет.
– Что уж, хорошего не жди. Капризов не оберешься. Ни о чем, кроме Пруссии да ее порядков, и помышления нет. Все б ему в солдатики играть да на плацу честь отдавать.
– Кабы в одних солдатиков! Вот мне намедни Лизавета-то моя слово какое молвила.
– Лизавета Романовна твоя?
– Она и есть. Журить ее начал – на наряды тратится непомерно, счету деньгам знать не хочет. А она мне: недолго, мол, батюшка, тебя печалить буду. Бог даст, еще сама тебе помогу да пригожусь.
– Замуж, что ли, собралась? Без твоего благословения?
– Замуж! Такой намек дочка бросила, что озноб пробрал.
– Да ты бы, Роман Ларионыч, загадок мне не загадывал – впрост бы сказал, коли начал.
– То-то и оно, что язык выговорить не решается. Я к Лизаветке приступил со всей отеческой строгостью. А она, она насчет…
– Неужто из той кадрили воронцовской какое воображение себе составила? Ну, собрались твои три дочки, моя Аннет, потешили императрицу, наследника в восторг привели, так что из того? Мало ли что императрица…
– Не о государыне, Михайла, толк. Его императорское высочество куры Лизавете строить стал. Сказывает, давненько уже.
– Погоди, погоди, братец, какой же из великого князя дамский любезник? Разве что взболтнет по случайности, не боле.
– Я так Лизаветке и сказал, прикрикнул, чтобы и думать про такое забыла, не то враз в Москве у братца Ивана Ларионыча окажется. Невестка, графиня Марья Артемьевна, известно, баловства никакого не потерпит.
– А она?
– Что она! Во дворце, говорит, батюшка, не одни залы танцевальные, есть местечки и позатишней. В переходах, мол, всегда свету мало, свечей, мол, жалеют.
– Господи, неужто далеко так дело зашло! Да и Анна Карловна моя как проглядела. А может, все это одно девичье мечтание?
– Экой ты, братец, несговорный! А мне так граф Линар ночами сниться стал. Это когда было, как императрица покойная Анна Иоанновна, упокой, Господи, ее душу, за племянненкой глядела, как Анна Федоровна Юшкова за всем и каждым караул несла, а вот поди ж ты, слюбился граф с принцессой, слюбился же!
– И то правда – чего во дворце не бывает. Вроде все на виду да на слуху, а такое деется подчас. Проверить бы надо.
– То-то и оно, что проверил.
– Ты что? Как?
– По старой памяти к Василию Чулкову с подарочком подкатился. Камердинер довереннейший, за великим князем пригляд держит негласный, ее императорскому величеству все слухи передает.
– Додумался же!
– С горя не до того додумаешься. У тебя одна дочка, дома да под материнским присмотром, а мои-то две дуры во дворце, в тех, прости Господи, переходах, на которых свечей нет. За ними разве что для сплетен прислуга присмотрит.
– Подожди, подожди, братец! Так что же Чулков? Коли чего заприметил, почему мне словечка не шепнул?
– А то, Михайла Ларионыч, из слов я лакейских льстивых выразумел, что ее императорское величество обо всем знает и даже таким обстоятельствам рада.
– Чтоб великой княгине наперекор!
– Вот теперь верно. Мало что Екатерины Алексеевны не жалует, желает, чтобы племянник в том утвердился, от себя супругу отторг. Известно, ночная кукушка денную завсегда перекукует. Днем повздорят, ночью в постели к согласию придут.
– Стой, стой, Роман, не все так просто. Должно быть, её императорское величество о присмотре за наследником печется. Воронцовы свои, Воронцовы не выдадут, коли что, знать дадут.
– Может, так поначалу и думалось, не спорю. Да Лизаветка моя не тот пароль загнула. У нее, дескать, дорога, вымолвить страшно, на престол всероссийский.
– Это каким же манером?
– Самым что ни на есть простым. Так и отрубила: неизвестно, батюшка, какая у кого судьба, глядишь, и отцу дочке к ручке прикладываться придется. Забыл, мол, как Алексей Долгорукой да все его семейство государыню невесту Екатерину Алексеевну чествовали, а потом и о правах ее хлопотали.
– О Господи, придет же на ум такое. Хоть бы напомнил дочке, чем дело кончилось. Одной ссылки мало оказалось, спустя десять лет и до казни дошло.
– Так не государыни же невесты. Лизаветка так и сказала: государыню невесту императрица до конца ее дней чествовала. Вот ведь до чего додумалась!
– Тут расчет был. Государь Петр Алексеевич Младший – Петров корень, его государыня и почтила. Кабы не то, гнить бы той невесте в Березове до конца своих дней. Неразумно рассчитала Елизавета Романовна. А вот если и впрямь Петра Федоровича к рукам приберет, для Воронцовых, несумненно, пользу сделает.
…Снег по колеям темнеть начал. Под окном капель звенит. День ото дня звонче. Садовник к розовым холмам дорожку торит – оглянуться не успеешь, сымать начнет. В теплицах девки спозаранку поют – тетушка молчать велела: сон утренний легкий – спугнут, вдругорядь не заснёшь. Жаль. Хорошо, когда поют. Голос заводной тихо начнет, за ним втора выводит, а тут и все прилучатся. Как в деревне. Вот и разберись, что человеку надо.
Везли в деревню, в забытьи от жару была. Ничего не понимала. Очнулась – комната вроде чужая, неприютная. Акромя постели на печной лежанке да столика со стулом ничего нет. Из углов изморозью тянет. В печке солома трещит. Дымком тянет. Плакать хочется. Не плакала – чего немок радовать. Что ни спросят, на все отказом отвечала, ничего от них, злыдней, не хотела. Как слезы в горле заклубятся, мыслями себя отвлечь можно. Интересными, не сплетни же вспоминать. Радоваться начала, что без Аннет, что в горнице одна, не мешает никто. Думаешь, думаешь – мысли, как шерсть на веретене, свиваются, свиваются. Только что все в разброде, глядишь, и лад найдешь, всему свое место.
В город везти батюшка приехал. Озабоченный. Сказывали, у него в Петербурге ложа теперь. Масонская. И то удивительно, в армии батюшка не служил, а в ложе под его управлением одни почти что офицеры молодые. О просвещении толкуют. Об истории. По возвращении батюшка некоторых им с Аннет представил. Болтин Иван Никитич. Семья старинная, род боярский. Образование преотличное дома получил. С шестнадцати лет рейтаром в конногвардейский полк записался, нынче уж в офицерах. Историей особо интересуется. Толковал, что Россия ни в чем державам европейским не уступит. Если только ей счастье улыбнется. С Монтескье спорить стал. Но Монтескье куда ближе к истине: все зависит в ходе истории от причин нравственных. Для господина Болтина страничку выписала, где Монтескье с Плутархом спорит о той же материи: «Не счастье управляет миром; об этом можно спросить римлян, которые одерживали непрерывный ряд успехов, когда следовали в управлении своем известной системе, и претерпели непрерывный ряд неудач, когда стали руководствоваться другою. Есть общие причины, нравственные и физические, которые действуют в каждом государстве, возвышают, поддерживают или разрушают его. Все события находятся в зависимости от этих причин, и если случайный исход сражения, то есть частная причина, погубил какое-нибудь государство, то за этим скрывалась общая причина, в силу которой государство должно было погибнуть вследствие одной только битвы. Одним словом, главное течение истории народа влечет за собою все частные случаи».
Молодой князь Михаил Михайлович Щербатов особенно батюшке по душе. Известно, богатый. Знатный. По матушке своей, княжне Ирине Семеновне Сонцовой-Засекиной, свойственником приходится. Образование тоже домашнее преотличное получил. С семнадцати лет в Семеновском полку служит, но к службе, сам сказал, сердцем не прилежит. Об устройстве государственном больше думает. Историю российскую изучает.
Но далеко им до Александра Петровича Сумарокова! Каких только сочинений его не читала. О театре, на котором кадеты Сухопутного шляхетного корпуса его комедии да трагедии представляли, тетушка с дядюшкой немало толковали. На «Хорева», «Гамлета», «Синава и Трувора» их с Аннет возили, а на комедии не довелось побывать. Только и запомнились титлы пречудные: «Трессотиниус» и «Чудовища». Александр Петрович к батюшке приезжал. Толковали, что самодержавие тогда хорошо, когда хорош венценосец. А ежели венценосец в тирана превратится, то пагубнее сей власти для народа нету. Такие вирши сразу на память ложатся, словно перевод Монтескье:
О честь, единственный источник нашей славы.
На коей истины основаны уставы,
Геройска действия и общей пользы мать,
Сильна едина ты сан царский воздымать.
Коль нет тебя с царем, он Божий гнев народу,
И скиптр его есть меч, воздетый на свободу.
Дядюшке сии толки не по душе. Ему бы дипломатия одна, а о власти рассуждать не любит. Может, опасится. Иначе чего бы с младшим дядюшкой Иваном Ларионычем встреч не искал. Да дядюшка Иван Ларионыч Петербурга не любит. Малость побудет – и в Москву. Там, сказывают, у него дворец с садами обок Кремля что твой Версаль. Тетушка Анна Карловна так и толковала: садовников из самой Франции выписывал, чтоб королевский сад ему в точности повторили. Может, и поменьше размером, зато на своем берегу реки – у него там Неглинная через сад течет. Баркасы для прогулок плавают.
Всех чудес в Москве воронцовских не перескажешь. Девушку Настю туда посылали учить кружева плести. Без малого год прожила – все в подробностях описала. Дворец Воронцовский на холме, насупротив монастыря Рождественского, который еще при великом князе Дмитрии Ивановиче Донском заложили для вдов и матерей, на Куликовом поле осиротевших. Дядюшка Иван Ларионыч туда большие вклады делал, а церковь свою особую поставил. Для строительства своего архитектора держит знаменитого.
– Худо мне, Иван Иваныч, ой худо.
– Полно, государыня, полно, красавица наша. День непогожий, вот ты и не в себе. Дай солнышку выглянуть…
– Мое солнышко уже не выглянет, и обманывать себя не хочу.
– Не рви ты душу мою, государыня, нет у тебя на то причины. Да хоть сама в зеркало поглядись.
– Гляделась, Иван Иваныч, еще как гляделась. Думаешь, не примечаю, как Чулков половину зеркал из уборной вынес.
– Так это для отделки. Сама же говорила, чтоб по новой моде в серебро оправить…
– Может, и говорила.
– Видишь, видишь, запамятовала, государыня, а теперь на камердинера и клепаешь.
– Кабы… Да нет, больно жалостливо и куафер на меня поглядел.
– Неужто, матушка, за взглядами куаферовыми следить стала? Ты сама посуди, коли впрямь чего бы заметил, так виду ни за што не подал. Куафер что актер, его мыслей не прочитаешь, а на языке всегда мед. Коли взгляд жалостливый, поди, куафера как положено не получилась, исхитриться не знал как.
– Спасибо тебе, ненаглядный мой, что утешить хочешь. Спасибо.
– Не веришь мне, государыня. Да вон, никак, Мавра Егоровна идет – у нее спроси. Ей ли тебя не знать!
– Здравствуй, государыня, здравствуй, благодетельница. Как почивать изволила? Изрядно, видно, – личико что маков цвет. Вот притираний тебе новых принесла, не сомневайся, государыня, Петр Иваныч мой исхитрился – от французского посла достал. Будто бы для меня, чтоб не согрешили ненароком, чего не подсыпали. Да ты не сомневайся, государыня, я и на себе пробовала. Красавицей, что правда, не стала, а и зла никакого не вышло.
– Спасибо, что озаботилась, Маврушка. Ты у нас хлопотунья.
– Ну, хлопотунья не хлопотунья, а для своей государыни все сделаю.
– А чего в такую рань пришла – дело какое? Просьба?
– Упаси Господь, какая просьба. Я так… О притираниях подумала… чтоб к утреннему туалету…
– Хочешь спросить, как я после припадку? Жива ли? Больно крепко меня взяло. Напугались, поди, оба?
– Государыня матушка!
– Ваше величество!
– Да чего уж. Сама глазам своим не поверила, как в себя пришла да на часы взглянула: два часа без памяти пролежала. Шутка ли! Два часа… Так с батюшкой никогда не бывало. Даже перед самым концом. Ну, начнет дергаться, упадет, пена изо рта пойдет, минут пять-десять полежит, а там и помнить не помнит, что с ним сталось.
– Зачем же тебе, государыня матушка, себя с государем Петром Алексеевичем равнять! У государя, упокой, Господи, его душу, падучая сызмальства была. Вспомни, Меншиков чего толковал – будто с годами-то ему много полегчало. А до Нарвы случалось, на дню пару раз в припадке бился. На то и падучая. У тебя же такой напасти николи не случалось.
– Зато теперь случаться стало.
– А ты не торопись, не торопись, государыня матушка, себе приговор выносить. Известно, на бабьем веку перелом такой случается. Хворь не хворь, а недуг временный! Его и лечить не надо – сам пройдет. Потерпеть маленько надо. Каждому б твои силы, государыня, утешение ты наше. Забыла, как верст по двадцати без роздыху на охоте скакала?
– Когда это было…
– Ваше величество, то, что пристало юной цесаревне, не пристало императрице всероссийской. И пробовать нужды нет.
– Вот-вот, Иван Иваныч, а в карете-то я двадцать верст как-никак, а проеду.
– Что ты снова, государыня матушка, все в потемках да в потемках? Иван Иваныч, не кликнуть ли камер-юнгфер, чтоб занавеси на окнах подняли? Уж день занялся, да такой погожий.
– Нет, нет, не смей!
– Так чесаться, туалет делать все равно при свете станешь.
– Сказала, нет. При свечах. Мне много света не надо.
– Как велишь, государыня. Мне лишь бы тебе угодить.
– Знаю. Ступай лучше, Мавра. Или нет, погоди. Распорядись там, чтобы от сего дня покойников мимо окон моих ни под каким резоном не носили. Пусть другую дорогу найдут. А то как на кладбище живешь: так и тащат покойников, так и тащат. И чтоб в близлежащих ко дворцу нашему церквах их не отпевали.
– Ваше величество, вы правы – это душераздирающее зрелище, которое не должно ранить вашу природную чувствительность. Мы все предусмотрим.
– Да и вообще, пусть поменьше под окнами снуют в экипажах. Покоя нет, тишины. И еще, чтоб никто в трауре ко двору не являлся и ни о каких смертях мне не докладывал. Хватит!
…Вспомнила, вспомнила! Храм Николы в Звонарях. Тетушка, графиня Марья Артемьевна, не пожелала ни в приходской, тем паче в монастырский храм ходить. О монастырском сказала, что в нем стоны великой княгини Соломонии из роду Сабуровых, первой супруги великого князя Василия III, слышит, как ее насильно постригали, как плетью бояре били, когда монашеский куколь на себя надеть не давала. Понять графиню не трудно – какую жизнь страшную прожила. Когда батюшку ее, Артемия Волынского, в Петербурге казнили, ей едва пятнадцать стукнуло. Тоже насильное пострижение приняла и в сибирский монастырь выслана была. Только характер у княжны отцовскому под стать. В день пострига обет молчания на себя наложила. Два года, что в одиночной келье провела, ни единым словом ни с кем не обмолвилась. Милости не просила, на голод и холод не жаловалась. Что князья Волынские! По матери Марья Артемьевна самому государю императору Петру Алексеевичу племянница двоюродная.
Через два года княжну из монастыря забрали, от монашеского обета освободили. А она будто застыла вся. Ни тебе веселья, ни придворной жизни. Обяжет императрица – ко двору приедет, вечер просидит, не обяжет – и вовсе месяцами являться не будет. В туалетах полутраур соблюдает. Больше всего о могиле отца хлопотала, чтобы со всеми почестями где казнили – у церкви Симеона и Анны, там и погрести, и памятник достойный поставить. Тетушка Анна Карловна говорила, будто укором совести всем была. Виноват – не виноват, каждому не по себе становилось. Спасибо, приняла Марья Артемьевна предложение дядюшки Ивана Ларионыча. Твердо сказала: в Петербурге при дворе жить не станет. Милостей от императорской фамилии принимать не станет – ни в чем не нуждается. А что дорого было, и так у нее навеки отнято – не вернешь, не забудешь. Государыня Елизавета Петровна спорить не стала. Может, и впрямь, как тетушка Анна Карловна толкует, лиц постных при дворе не терпела. Супругам Воронцовым-младшим полный апшид дала и разрешение Ивану Ларионычу проживать в старой столице. Как-никак человек служивый. Мало что генерал-поручик, сенатор, Вотчинной коллегии президент. Они все друг, на дружку непохожие: батюшка, дядюшка Михайла Ларионыч да дядюшка Иван Ларионыч. Батюшка то ли от службы сторонится, то ли должности достойной не присмотрел. Дядюшка Михайла Ларионыч, он всю жизнь при дворе. Иван Ларионыч память тестя блюдет.
Артемий Волынский против злого самодержавия выступал. Чтобы непременно Сенат был, как при Петре Великом, и нижнее правительство, законами ограниченное, безо взяток и лихоимства. Каждому сословию, дядюшка Михайла Ларионыч толковал, привилегии большие – что духовному, что городскому, что крестьянскому сословию. О грамотности много пекся – чтоб неграмотных в России не оставалось, а от духовенства и священничества образованности требовал. Так и писал в своих сочинениях, что России монархия необходима, только бы государь священные права шляхетства соблюдал. Бумаги его все в Тайную канцелярию свезли, но кое-что уберечь удалось. В деревне по застрехам не шарили, а князь доносчиков опасился. Дядюшка сказывал, коли в Москву соберусь, у графини Марьи Артемьевны полюбопытствовать могу. А рассуждения его были о гражданстве, о дружбе человеческой и об улучшении государственного управления. Графиня Марья Артемьевна с чужими разговоров не ведет – так молчуньей и осталась, а с племянницей потолковать может. Видно, в справедливом управлении такое прегрешение, что за него головы посеред столицы рубят да воткнутыми на колу держат.
– Михайла Ларионыч, конфиденцию с вами иметь хотел бы, коли есть у вас на то время и охота.
– Всегда к услугам вашим, Иван Иваныч. Чем могу быть полезен?
– Польза-то у нас здесь общая выходит. Хотел я у вас спросить, давно ли от братца Ивана Ларионыча вести имели?
– Поди, с неделю назад письмецо от него получил.
– В благополучии ли пребывает?
– Грех пожаловаться.
– Вот и отлично, а у меня к нему просьба – разузнать, как там на самом деле господин Локателли подвизается. Антрепризу в Петербурге бросил, в старую столицу перебрался. Что там поделывает, успех имеет ли?
– А о том я известен и без брата. Петр Васильевич Урусов приезжал, сказывал. Очень Москва Локателлиевым театром занята. Жаль, что Оперный дом впустех стоит. Старая столица к нему попривыкла.
– Да уж там, кроме государыниных визитов, никогда спектаклей не будет. Дорого, хлопотно, да и статочное ли дело ради москвичей декорации придворного театра взад-назад возить. Государыне беспокойство и неудобство одно. А вдруг в те самые дни, что актеры в Москве будут, захочет какую оперу послушать.
– Вот-вот, а Локателли тот в Красном Селе театр новый срубил. Быстрехонько управился – трех месяцев не прошло.
– В Красном Селе? Не далековато ли?
– Так и Лефортово не ближний свет. Поди от Кремля до Кокуя дотащись, да еще по морозу аль в непогодь. Москвичи привычные.
– Да ведь, помнится, на Красном пруду только на Троицу гулянья бывали – простой народ веселился.
– У Локателлия и для простого народу места хватит – на три тысячи мест театр-то, и это безо всякого утеснения. А коли охотников больше найдется, то и потесниться можно.
– А представления какие? Пиесы-то откуда берет?
– Что и в Петербурге показывал – оперы всякие итальянские с чудесами и машинами.
– Презабавно! А на каком же диалекте актеры изъясняются?
– На итальянском.
– И без переводу?
– И без переводу, ваше сиятельство. Особенно по вкусу москвичам «Граф Кармелла» пришелся. На неделе хоть раз да покажут.
– Я ведь не случайно любопытству волю дал, Михайла Ларионыч. Авторов у нас, сочинителей молодых немало. Здесь-то их наши бывшие кадеты представляют, а в Москве быть такого не может, чтоб университет открылся без театру. Надо быть и о театре похлопотать, полагаю. Вы сами-то сочинения Александра Петровича Сумарокова читали ли?
– Читал-с с великою приятностию. Да вот у меня моя Катерина Романовна великая его почитательница. Наизусть множество его любовных пиес, тем паче монологов знает.
– Про то и я бы догадаться мог. Сочинения господина Буало, что я по просьбе графинюшки ей переслал, образцом Александром Петровичем провозглашаются. Да вот что-то в театре я племянницы вашей не вижу. Не захворала ли, не дай Господь, снова?
– Бог миловал. Бог миловал, ваше сиятельство. Тут уж пожаловаться должен: сладу с нашей графинюшкой нет. После болезни приехала, только над книгами и сидит. Комнату отдельную от Аннет попросила, чтоб сестру не беспокоить, до первых петухов читает. Ей бы молодцем родиться, великих бы успехов в науках достигла.
– Ваша правда, Михайла Ларионыч. Способности у Катерины Романовны только позавидовать. Кажется, на всех диалектах читает. Мне записочки благодарственные за книги раз по-французски, раз по-немецки, а последний раз по-английски написала. И слог, доложу вам, преотменный. Мысли свои ясно выражает, а ведь почти дитя. Откуда бы осведомленность такая!
– Сам дивлюсь, ваше сиятельство. Гости ли к нам съедутся, дипломаты ли с визитом заглянут, графинюшка тут как тут – к каждому с расспросами. Страны ее интересуют чужеземные, обычаи, а более всего устройство государственное. Кажись, о парламентах европейских не хуже чиновников наших знает. А в гостиной у тетушки скучает. Выдавать себя не хочет, а все предлогу ищет, чтоб уйти да снова в своей комнатке запереться. Супруга моя жаловалась – к портнихе не выманишь, о фасонах толковать нипочем не будет. На все один ответ: «Как изволите, тетушка! Как скажете, тетушка! Как Аннет, так и мне – на Аннет меряйте!» Это где ж такое видано, ведь, того гляди, заневестится, при дворе придется бывать. Неглижировать куафюрой да туалетами никак нельзя.
– Полноте печалиться, Михайла Ларионыч, Катерина Романовна в каждом туалете первой в обществе будет. И собой хороша, и умна, и повадлива. Неужто вам наши махалки больше по сердцу?
– Нет, нет, от того Боже избави, но ведь молода племянница – жизни порадоваться в самую пору. Не поверите, что в альбоме своем дала мне прочесть:
Когда вступил я в свет, вступив в него, вопил,
Как рос, в младенчестве влекомый к добру нраву,
Со плачем пременял младенческу забаву,
Ростя, быв отроком, наукой мучим был,
Возрос, познал себя, влюблялся и любил,
И часто я вкушал любовную отраву,
Я в мужестве хотел имети честь и славу;
Но тщанием тогда я их не получил.
При старости пришли честь, слава и богатство;
Но скорбь мне сделала в довольствии препятство,
Теперь приходит смерть и дух мой гонит вон.
Но как ни горестен был век мой, я стонаю,
Что скончевается сей долгий страшный сон:
Родился, жил в слезах, в слезах я умираю.
– Как же, сонет господина Сумарокова, и преотличный. В отменном вкусе племянницы вашей, граф, никто усомниться не может. Сожалею, что лишен возможности частых бесед с нею.
– Для нее и так честь великая, что ваше сиятельство ее своей благосклонностью дарит. А за новинки книжные уж и вовсе не знает, как благодарность свою сердечную высказать.
– Пустяки, сущие пустяки. Мало здесь до них охотников, так что мне в радость ими поделиться. Я и государыне докладывал не раз о редких успехах ее крестницы. Большое в том удовольствие ее императорское величество имела.
– Премного благодарен, ваше сиятельство. Всенепременно графинюшке нашей передам. Только…
– Только? Никак, в чем засомневались, Михайла Ларионыч? Не таитесь – со всей откровенностью скажите.
– Ваше сиятельство, Иван Иванович, сердце у вас золотое, ко всем снисходительное – всем то ведомо. Только, может, не след государыню нашу пустяками такими лишний раз утруждать…
В Москве лето – за город уезжать не надо. Дядюшки Ивана Ларионыча палаты старые, сводчатые – в Петербурге нипочем не сыщешь. Под новый отели только фундамент подводят. Место высокое – промеж Кузнецкого мосту и площадью, где дровами да животиной торгуют. Сад и впрямь загляденье. Беседки, гроты, статуй множество, боскеты цветочные. А река Неглинная прозрачная-прозрачная. Повсюду дно видно, рыбешки плещутся. С Невой не сравнить, а красиво. Тихо течет, не грозно. Каждый день на яликах прогулки с музыкой. Музыканты с рогами на другом ялике плывут, чуть-чуть поодаль. В теплице деревья персиковые, ореховые. На лето теплицы раскрываются – как роща стоят. Еще тутовое дерево во множестве. Сказывали, было таких рощ в Москве множество – при государе Алексее Михайловиче собирались свой шелк вместо привозного делать. Деревья вырастили, а с червями не получилось. Смоковницы без уходу пропали почти все, а у дядюшки стоят. На кисейное платье одна ягода упала, Настя свести не могла: краску из них делают, чернила, помнится.







