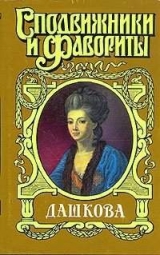
Текст книги "Княгиня Екатерина Дашкова"
Автор книги: Нина Молева
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 31 страниц)
– Туманский участвовал в переводе Палласа? Мне нравится ваша забота о чистоте и совершенстве языка, княгиня.
– Но вы спросили об источниках слов для словаря, ваше величество. Не занимая более вашего внимания, перечислю просто имена ученых, дабы лишний раз напомнить вашему величеству, сколь обширны земли, пользующиеся благом просвещенного правления великой Екатерины. Вам знакомы, государыня, «Дневные, записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства». Ведь это великое множество городов, сел и деревень на пространстве между Белым и Каспийским морями, между Уралом и Волгою по всему ее течению, от Сибири до Белоруссии и от Астрахани до Архангельска. Сообщенные Лепехиным сведения касаются, кажется, всего, чем богата Россия и что происходит в ней. Промышленность, промыслы, растительность, животные, минеральные богатства. И немало здесь Лепехину споспешествовали в его трудах Мальгин и Озерецковский.
– Что же, питомцы превзошли воспитателя.
– Позвольте не совсем согласиться с вашим величеством.
– Это ваше любимое занятие, Екатерина Романовна.
– Вы несправедливы ко мне, государыня, я хочу вступиться за честь ваших же ученых. Иван Иванович Лепехин отмечен редким талантом в медицине. Еще Михайла Васильевич Ломоносов прочил его на кафедру ботаники в Академии. Однако круг интересов господина Лепехина одною ботаникою не ограничился.
– Но он же стал директором Ботанического сада.
– И не переставал заниматься лекарственными свойствами отечественных произрастаний. Его размышления о нужде испытывать их лекарственную силу – труд оригинальный и отечеству особенно нужный. Что же касается господ Мальгина и особенно Николая Яковлевича Озерецковского, то их талант тем примечательнее, что первоначальное свое развитие получил не в академических стенах, а в российских семинариях. Тимофей Семенович Мальгин до поступления в академический университет обучался в Псковской семинарии, семь лет путешествовал с Лепехиным, – а образовался как превосходный историк.
– Вы правы, княгиня, его «Зерцало российских государей» – труд в своем роде единственный.
– Ваше величество, в его заглавии сказано все: «Зерцало великих государей по Рождестве Христовом с 862 года по 1791 год, изображающее их родословие, союзы, потомство, царствование, кончину, место погребения и вкратце деяния с достопамятными происшествиями». Но ведь до этого господин Мальгин перевел «Историю о переменах Неаполитанского королевства» с французского языка и «Лествицу умственного восхождения к Богу по степеням созданных вещей» Беллармина с латинского. Это все наши подлинные энциклопедисты, государыня.
– Что до Озерецковского, он всегда был вашим любимцем, княгиня, и пользовался особым вашим покровительством.
– Ваше величество, я всего лишь разделяю ваше отношение к этому достойнейшему ученому. Проделать путь из семинарии Троице-Сергиевой лавры до Лейденского и Страсбургского университетов совсем не просто. Не случайно вы остановили на нем свой выбор в качестве воспитателя графа Бобринского. Лучшей кандидатуры было попросту не найти.
– Хотя я совершенно не уверена, что обширнейшие познания воспитателя пойдут на пользу воспитаннику. Вы знаете, как капризен и несносен бывает граф. Я стараюсь не думать о тех огорчениях, которые он доставляет учителю. Вот мы снова и вернулись к теме детей. Что поделаешь!
Глава 17
Дети
– Мисс Бетс? Вы? И одна? Что сталось с моей дочерью? Говорите же, ради Бога, говорите!
– Ваше сиятельство, умоляю вас простить меня! Я не выполнила вашего поручения. Не была в состоянии его выполнить и потому поспешила обратно в Россию, чтобы быть снова около вас.
– Но вы не отвечаете на вопрос о моей дочери!
– О, это такая сложная тема.
– Она, по крайней мере, здорова?
– Жива и здорова, но…
– Что же в таком случае?
– Ваше сиятельство, мисс Анастасия провела курс лечения в Ахене, но не пожелала возвращаться в Россию.
– Как – не пожелала? Что же ей делать в Германии?
– Я никогда не умела читать мысли мисс Анастасии. Она из Ахена пожелала поехать в Вену, куда я ее сопровождала, а затем в Варшаву, где я поняла всю бессмысленность своего присутствия. Мисс Анастасия тяготилась моим обществом и не выражала желания возвращаться на родину.
– Вы не смогли ее удержать от новых безумных трат? Не так ли, мисс Бетс?
– Это не представлялось возможным, ваше сиятельство. Мисс Анастасия каждый день требовала от меня денег, пока я не была вынуждена отдать ей всю сумму.
– Четырнадцать тысяч! Боже мой!
– От них уже мало что осталось, ваше сиятельство. Мисс Анастасия ни в чем не отказывает себе, и единственная надежда, что скорое безденежье вынудит ее вернуться.
– А мне останется расплачиваться с новой кучей долгов.
– Вы гневаетесь, ваше сиятельство.
– Почему же, мисс Бетс. Раз ваши доводы и здравый смысл оказались бессильными, какой смысл был в вашем дальнейшем пребывании около этой сумасбродки. Вернемся же, мой друг, к нашей привычной жизни и будем покорно ждать окончания очередной эскапады княжны. Родные давно говорили, что она унаследовала далеко не лучшие качества собственного отца.
– Вы никогда не жаловались на них, ваше сиятельство.
– Я любила мужа, мисс Бетс. Я его очень любила.
– Вам перестал докучать ваш ревматизм, княгиня?
– Благодарю вас за внимание, ваше величество. Вряд ли мое здоровье стоит того, чтобы становиться предметом обсуждения, но раз уж зашла о нем речь, зимой я всегда испытываю облегчение.
– Это следствие усилий доктора Роджерсона?
– В моем случае, ваше величество, доктор Роджерсон бессилен. Ревматизм отступает только при сухой погоде.
– А на вашей даче, где вы так любите уединяться, княгиня, по-прежнему сыро. Может быть, вы используете сырость как защиту от неугодных вам посетителей?
– Ваше величество, даже рискуя казаться мизантропкой, я предпочитаю сохранять время для занятий. Академия отнимает множество времени, которое неудобная для других дача помогает сберегать.
– Вы тяготитесь даже приездами к моему столу?
– Как вы могли подумать такое, ваше величество! Возможность видеть вас, говорить с вами – единственная моя радость. Два дня в неделю я могу ее испытывать – мне остается самой себе завидовать.
– Вы немного опоздали, Екатерина Романовна. Генерал Брюс чрезвычайно интересно рассказывал о геройстве солдат наших, штурмом бравших крепость и лицом к лицу противостоявших смерти. Такое массовое мужество – это поистине поразительно.
– Именно массовое мужество, ваше величество – в этом, мне думается, весь секрет. Меня оно не удивляет. Мне кажется вообще, что самый большой трус может вызвать в себе минутную храбрость. Он бросается в атаку, потому что сам знает, что долго она не продолжится.
– Что же тогда, по-вашему, княгиня, представляет храбрость, раз вы отказываете в ней даже штурмующим неприятельскую крепость воинам?
– Вы почувствовали себя задетым, Яков Александрович? Напрасно. Я не имела в виду усомниться в доблести наших войск. Речь идет о другом. Я считаю героическим мужеством не храбрость в сражении, а способность жертвовать собой и долго страдать, зная, какие мучения ожидают нас впереди. Если будут постоянно тереть тупым деревянным оружием одно и то же место на руке и вы будете терпеть это мучение, не уклоняясь от него, я сочту вас мужественнее, чем если бы вы два часа сряду шли прямо на врага.
– Вы говорите действительно о высшей степени человеческого мужества, Екатерина Романовна, но оно имеет общечеловеческий, а не солдатский смысл, не так ли?
– Вы правы, ваше величество. Но если мерить человеческие возможности, я всегда буду отстаивать самую высокую меру.
– Однако же, княгиня, встречать смерть лицом к лицу всегда страшнее. Это заложено в натуре человеческой – мы обязаны ценить жизнь, и мы всеми силами стараемся удержать ее. Испытание же на часы и годы всегда оставляет надежду на продление жизни, и, значит, это совсем другое испытание. Я говорю вам это как военный, побывавший в сражениях. Только глядя смерти в лицо, человек проявляет подлинное мужество.
– Но в таком случае, генерал, вам придется признавать мужество и за самоубийцами.
– Я не думал над подобными поступками, ваше величество, но полагаю, что для самоубийства необходима решимость и, если угодно, отвага.
– Полноте, Яков Александрович! Вы возвращаетесь к старому спору, что проявляется в самоубийстве – мужество или слабость.
– Слабость? Вы шутите, княгиня.
– Нисколько. Я не говорю о том, что, убивая себя, человек грешит против нашего Создателя и против общества. Но сам по себе его поступок малодушен. Это действие отчаяния и трусости перед жизнью, которая предлагает нам бесчисленные испытания. Малодушие – любым способом уйти от них, подлинное мужество – их терпеть и им сопротивляться. Изо дня в день, из года в год. Самоубийца не уважает себя, я пришла к этому выводу.
– Вы думали на эту тему, Екатерина Романовна?
– Да, ваше величество, и не раз. И я ничего не предприниму ни для ускорения, ни для удаления своей естественной кончины. Это не та область, в которой я могу принять на себя окончательное решение. Я нахожу, что дам более яркое доказательство твердости своего характера, если сумею страдать, не прибегая к лекарству, которым не вправе пользоваться.
– Княгиня, мне вовсе не нравятся ваши размышления, одно то, что вы отдаете им время.
– Ваше величество, жизнь предлагает нам такое множество проблем, это всего лишь одна из них.
– Мне никогда не приходило в голову, что она коснется вас, тем более с такой серьезностью.
– Я не поднимала первой этой темы, государыня. К тому же в этом вопросе я сохраняю верность философу, которым так увлекалась в юности.
– Кого вы имеете в виду?
– Жан-Жака Руссо. Его софизм о жизни и смерти мне по-прежнему кажется великолепным.
– Откуда вы его позаимствовали, княгиня?
– Из «Новой Элоизы». Я могу ошибиться в точности слов, но смысл их таков. Не следует бояться смерти, потому что пока мы живем, ее нет, а когда она наступает, нас уже не существует.
– Мне всегда этот автор казался очень опасным. Его стиль увлекает, и молодые горячие головы невольно воспламеняются. Вы встречались с ним, княгиня? Какое впечатление он на вас произвел?
– Когда я была в Париже, ваше величество, одновременно с ним, я не хотела его видеть. Уже одно то, что он жил в Париже инкогнито, доказывало, что скромность его была притворна и что он снедаем был честолюбием и желанием наполнить своим именем весь мир. И я не собираюсь его защищать. Произведения Руссо действительно увлекают молодые неопытные головы, которые легко могут принять его софизмы за силлогизмы.
– Мисс Бетс, дорогой друг мой, порадуйтесь вместе со мной! Государыня наконец-то разрешила князю Павлу отпуск на три месяца, чтобы поехать в Варшаву за сестрой.
– И князь будет здесь? Какая радость!
– Нет, князь не выразил этого желания, а я не собиралась настаивать. Он приедет к матери тогда, когда станет испытывать в этом потребность. Применять силу было бы бессмысленно.
– Но он должен привезти мисс Анастасию сюда? Вы свидитесь, ваше сиятельство, с обоими.
– Я положила иначе. Пусть князь Павел поедет в Варшаву, разберется со всеми долгами и обязательствами сестры и отвезет ее к себе в Киев. Вдвоем они лучше решат, как поступать им в отношении родной матери.
– Ваше сиятельство, это жестоко! Скорее всего, они оба глубоко сознают свою вину и просто не решаются припасть к вашим ногам с мольбой о прощении. Вам ничего не стоит просто намекнуть им о вашей снисходительности, и все разрешится наилучшим способом. Посмотрите, ваше сиятельство, как измучили вы себя мыслями о них обоих. За последние годы вас стало не узнать. Подумайте о себе тоже, ваше сиятельство!
– Друг мой! Мои дети могут опасаться моего гнева при неожиданной встрече, как вы говорите, хотя никогда и ни в чем я никакого неумеренного гнева не проявляла. Но за все последние годы я не получила ни от того, ни от другого ни одного письма. Чем бы угрожало им написать любые строки, даже без извинений и раскаяния? Вы подумали об этом? А что касается моего здоровья, поверьте, я перестала дорожить жизнью, и что должно произойти, пусть произойдет. Я не стану цепляться за свое существование. Смотрите, как тихо и достойно уходят из жизни все мои близкие. Вот не стало и дядюшки Ивана Ларионовича. Если мы даже и не были особенно близки, знаю, как он болел за мои невзгоды. Уверена, тетушка Марья Артемьевна немногим переживет супруга: слишком были они дружны.
– Я не могу себе представить их чудного московского дома без сэра Джона. Он так любил строить и так охотно рассказывал о своих планах. Настоящий Версаль, не правда ли, ваше сиятельство? Настоящий версальский парк на московской реке!
– На Неглинной. Я сама всегда удивлялась изобретательности дяди. Мне кажется, он сначала возвел огромную церковь в Киево-Спасском, потом Успенскую огромную церковь в Свитино, но настоящее чудо – это его Вороново по Калужской дороге. Дворец ему построил там Николай Александрович Львов, а церковь и голландский домик – Карл Иванович Бланк, настоящий его придворный архитектор. Карл Иванович и живет при московском дворце покойного дяди, а вот сам московский дворец возводил вместо старых палат Матвей Казаков. Кажется, все свои главные сведения по архитектуре я почерпнула у дядюшки.
– А какой чудесный у него художник! Он так напоминает нашего Рейнальдса!
– Вы о Федоре Рокотове? Да, он написал портреты всей дядюшкиной семьи. Почтеннейший человек и превосходно образованный.
– Даже не похож на художника.
– Ничего удивительного. Я не открою никакой тайны, если скажу, что он побочный сын фельдмаршала Репнина. Потому и в обществе принят, и капиталом от отца располагает.
– Какая жалость, что вы никогда не соглашались, ваше сиятельство, дать списать с себя портрет.
– Может, Рокотову бы и дала, да мы с ним разминулись. Он оставил Петербург и переехал в Москву как раз тогда, когда я вернулась сюда. В Москве же у меня никогда не бывало часу. А ведь он и дядюшку Петра Ивановича Панина, царствие ему небесное, тоже писал. Дядюшка тоже в одночасье, вместе с Иваном Ларионовичем, убрался.
– Достойнейший человек был.
– А жизнь какую прожил, летопись целую написать можно. С четырнадцати лет был определен в Измайловский полк капралом и тогда же начальству неугоден стал. Не то что одну правду говорил, но никого не щадил. Только тем от гнева императрицы Елизаветы Петровны и спасался, что в Шведской кампании чудеса храбрости оказывал, в Семилетнюю войну где только не отличался. В турецкую войну Бендеры взял, да сразу же и был уволен в отставку – язык помешал.
– Вы говорили, ваше сиятельство, что государыня императрица графом частенько недовольна бывала.
– Да, во гневе государыня назвала его первым вралем и себе персональным оскорбителем, хотя дядюшка ничем ее императорское величество не оскорблял и помыслить такого себе не мог. Даже присмотр надежных людей над ним учрежден был. Только при дворе правого легко превратить в виноватого, а дядюшка оправдываться бы ни за что не стал. Понадобился, чтобы с Пугачевым справиться, – другой никто не смог, – быстро самозванцу конец положил, край успокоил. За то получил от государыни меч с алмазами, алмазные знаки ордена Андрея Первозванного.
– Но, говорят, крови тогда пролито было немало.
– Правду сказать, много. Да и как иначе. Императрица сама на жестоких мерах настаивала. Дядюшка Петр Иванович на себя такую ношу и принял. Так и говаривал, чтоб ее императорское величество от греха освободить. А так в жизни куда как добр да справедлив был. Пытками возмущался, жестокости помещиков не терпел, к раскольникам-староверам снисходителен был. Ну а бунт – дело другое.
– Последнее время редко вы с сэром Паниным виделись, ваше сиятельство.
– Годы кого только не разводят. Недалек путь от Петербурга до Москвы, а лишний раз в дорогу не пустишься. Как в ином государстве живешь. Раз за разом только узнавала, когда дядюшка детей своих хоронил. Счастья ему с ними не было. От первой своей супруги ни много ни мало – семнадцать человек имел. Всех похоронил. От второй, Марьи Родионовны, пятерых – только двое его пережили. Каково это отцовскому сердцу!
– Хоть двое остались, и то легче.
– Верите, мой друг, я первенца своего Михаила лишилась, до сих пор вспоминаю. Может, был бы иным, чем князь Павел, может, иначе бы мать любил, другом бы на старости лет стал. Кто знает…
– И что же, доволен ты своим протеже, братец? Принесли мне его брошюру, у нас в академической типографии напечатанную. Не знаю, чем тебя этот Радищев Александр прельстил, какими талантами, только брошюра, на мои глаза, расходов на печать не стоит. «Житие Федора Васильевича Ушакова» – надо же такое придумать. О студентишке обыкновенном – и житие! Ничем не прославился, талантов никаких не выказал. Всего-то, что с товарищами против наставников бунтовал. Кабы не твои уговоры, никогда бы такого в типографии нашей не допустила!
– Не сердись, сестрица, сам не знаю, как такую глупость молодой человек сочинил. Смею тебя уверить, юноша и впрямь одаренный, да тут, видно, бес попутал, молодость в голову ударила.
– И язык у него прескверный, читать тошно. Да и мысли опасные. Все ли прочел, Александр Романович?
– На все терпения, сестрица, не хватило.
– Тогда послушай: «Имея власть в руке своей и деньги, забыл гофмейстер наш умеренность и подобно правителям народов возомнил, что он не для нас с вами; что власть, ему данная над нами, и определенные деньги не на нашу были пользу, но на его… Человек много может сносить неприятностей, удручений и оскорблений. Доказательством сему служат все единоначальства. Глад, жажда, скорбь, темница, узы и самая смерть мало его трогают. Не доводи его токмо до крайности. Но сего то притеснители частные и общие, по счастию человечества, не разумеют». Каково? От мелкого чиновника до монархов выводы делать, такое, Александр Романович, до добра не доведет, помяни мое слово.
– Вы сегодня вовсе не ложились спать, ваше сиятельство.
– Что поделать, друг мой. Заснуть я бы все равно не смогла, так что предпочла провести ночь за письменным столом.
– Но вы убиваете себя, ваше сиятельство!
– Убиваю? Полноте, мисс Бетс. Каждый человек проживет ровно столько, сколько ему положено судьбой. Наше человеческое достоинство заключается только в том, чтобы не испытывать страха перед естественным концом. Да и не конец страшен, но те горести, которые предстоит до него пережить.
– Вы опять вспоминали покойную Елизавету Романовну, не правда ли?
– И ее, и тетушку Марью Артемьевну. К сожалению, мое пророчество сбылось. Она не сумела остаться вдовой.
– Но ведь вслед за супругом графиня почти сразу потеряла и младшего сына.
– Да, графу Лариону Ивановичу едва исполнилось тридцать лет. Тетушка была очень привязана к кузену. А вот теперь я лишаюсь и любимого брата.
– Как лишаетесь, ваше сиятельство?
– Мне не хотелось вас огорчать, мисс Бетс, но граф Александр попал в очень неприятную историю.
– Но граф здоров? Ничто не угрожает его здоровью?
– Дело не в недугах. Вы помните того молодого таможенного чиновника, с которым он часто к нам приезжал?
– Я не запомнила его имени, но хорошо представляю его облик. Очень милый и воспитанный молодой человек.
– Вот именно, Александр Радищев. Он издал глупую и дерзкую брошюру, и хотя брат его за нее пожурил, он повторил свой литературный опыт еще более неудачным и дерзким образом.
– Но ведь литературная неудача – это всего лишь дело автора, ваше сиятельство. Она могла огорчить графа Александра, не более того.
– Если бы речь шла только о таланте. Но молодой человек придумал сочинить пасквиль на путешествие государыни в Крым.
– Пасквиль на ее императорское величество? Но это же безумие! И зачем?
– Из бунтовских намерений. Князь Потемкин слукавил, представляя государыне вновь присоединенные земли. Все было совсем не так благополучно, как он представлял. Государыня увидела вспаханные земли, которые на самом деле не были засеяны, деревни, которые были написаны живописцами, парки из воткнутых в землю срубленных деревьев, скот, который пришлось сгонять, как и поселян, издалека и который, не выдержав далекого и трудного пути, наполовину перемер. Радищев решил представить не новые земли, а дорогу между Петербургом и Москвой с одними лишь ужасами помещичьего правления.
– Но вы сами говорили, ваше сиятельство, о таких ужасах у ваших соседей. Не случайно ваши крестьяне благословляют судьбу, что оказались под вашим управлением и в ваших руках.
– Никто не спорит, что ничего подобного нельзя встретить в жизни, но ведь не только это.
– Однако, может быть, императрица, узнав истину, положит конец варварским правилам и обычаям. Разве такое невозможно?
– Мисс Бетс, в вас говорит иностранка! Вам трудно понять, что пока, во всяком случае, ярмо рабства благодетельно для нашего народа. Его следует облегчать, но не уничтожать вовсе. Подобное освобождение может произойти лишь по мере утверждения просвещения, а эта дорога далека и полна препятствий. Господин Радищев же намеревается ее сократить насилием и реками крови. Я переведу вам его слова: «О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи, для заступления избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены. – Не мечта сие, но взор проницает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие».
– Это напоминает мне нашего Шекспира, ваше сиятельство.
– Но Шекспир сочинял два века назад, и его страсти пагубны для нашего времени. К тому же то, что хорошо на театре, может быть ужасно в жизни. Во всяком случае, государыня была возмущена, Чему в немалой степени способствовал и князь Потемкин. Это он намекнул на то, что автор в ее адрес сказал, будто царь прослыл в народе обманщиком, ханжою и пагубным комедиантом. И вот Радищев в крепости.
– Боже, как это ужасно!
– Его ждет в лучшем случае ссылка в Сибирь, а граф Александр Романович принужден просить о годичном отпуске со службы и разрешении уехать в Москву, чтобы не стать жертвой козней братьев Зубовых. Фаворит давно не любит графа. Мы с вами остаемся одни, мисс Бетс, и я сама подумываю о том, чтобы освободиться от служебных обязанностей и уехать в Троицкое.
– Кто там, мисс Бетс?
– Граф Самойлов, ваше сиятельство.
– Генерал-прокурор Сената. Что же ему понадобилось у меня, да еще в белый день? Велите доложить о нем, мой друг. Я не могу не принять его.
– Добрый день, княгиня.
– Что вас привело ко мне, граф? Во всяком случае, судя по вашему виду, не то, что может сделать день добрым.
– Вы правы, ваше сиятельство. Я вынужден стать вестником неприятных новостей.
– Каких же, граф?
– Ее императорское величество разгневана и поручила мне передать вам, как директору Академии наук, свое крайнее неудовольствие.
– Даже так. Но вы не говорите, что стало причиной этого неудовольствия.
– Неужели вы не догадываетесь, княгиня? Конечно, трагедия господина Княжнина.
– Трагедия Княжнина? Но ведь это же просто нелепо.
– Почему же нелепо, ваше сиятельство? Граф Зубов ознакомился с ее содержанием…
– Первый раз слышу, чтобы граф Платон Зубов решился на такой подвиг, как чтение трагедии.
– Я передаю только то, что обязан передать, ваше сиятельство. Возможно, вы и правы, и мнение графу было подсказано кем-то иным. Но это не меняет существа дела. Считается, что трагедия прочитана, и государыня распорядилась немедленно изъять все напечатанные ее экземпляры и предать их сожжению.
– Но это же невозможно.
– Почему?
– По той причине, что «Вадим» напечатан в последнем номере «Российского Феатра». Что же прикажете, уничтожить весь тираж «Феатра» и тем нанести немалый урон академической казне или выдрать соответствующие листы из каждого тома, что не может не осмешить правительственного распоряжения в глазах читающей публики?
– Не мне решать этот вопрос, княгиня. Но решение государыни твердо: трагедия должна быть уничтожена.
– Ваше дело, граф. Я не приложу к этому сожжению своих рук. Тем более что в Эрмитажном театре постоянно ставятся куда более опасные для государей трагедии. В чем же опасность русской трагедии?
– Княгиня, вам все равно придется давать объяснения, каким образом дошло до печатания этого сочинения.
– Я могу дать эти объяснения вам для передачи Платону Зубову или императрице, по вашему усмотрению. Начать с того, что вдова Княжнина попросила меня напечатать последнюю написанную ее супругом трагедию в пользу оставшихся без средств к существованию их детей. Я поручила ознакомиться с пьесой господину Козодавлеву, не только советнику академической канцелярии, но и писателю. Господин Козодавлев не нашел в сочинении ничего крамольного и сообщил мне, что развязка заключается в торжестве русского государя и изъявлении покорности Новгородом и мятежниками.
– Вы сами не читали трагедии, ваше сиятельство?
– Конечно, нет.
– Следовательно, ее появление можно приписать простому служебному небрежению.
– Вы забываетесь, граф! И забываете, что я занимаю должность директора Академии, а не цензора или советника.
– Не гневайтесь, княгиня, я ищу способов вашего оправдания.
– Но я не считаю себя ни в чем виноватой и не собираюсь оправдываться!
– Тем не менее это неизбежно. Императрица сказала, что под вашим руководством появляется за короткий срок уже второе обращенное против престола сочинение.
– Что же посчитали первым?
– Брошюру бунтовщика Радищева.
– Дурацкое и бессмысленное сочинение!
– Но его автор в крепости, и императрица склонна лишить вас своего доверия.
– Я подчинюсь любому решению ее императорского величества, а пока прощайте, граф. Я не задерживаю вас долее.
– Ради Бога, будьте осторожны, ваше сиятельство!
– Вы видели: приехала Дашкова!
– Как ни в чем не бывало!
– Она так и сказала, что собирается, как обычно, провести вечер с императрицей.
– Невероятно!
– Но вы же знаете ее бесцеремонность. Воображаю, какой у нее будет вид после первых же слов государыни.
– Да уж Зубовы постарались все расписать императрице в наилучшем виде. Такая возможность избавиться от ненавистной им персоны! Неужели же они ее упустят!
– А вы читали саму трагедию?
– То-то и оно, что стихи там и впрямь возмутительные.
– Неужели?
– Судите сам. Я листок один захватил с собой. На всякий случай. Может, представится государыне показать:
Какой герой в венце с пути не совратился?
Величья своего отравой упоен —
Кто не был из царей в порфире развращен?
Самодержавие повсюду бед содетель.
Вредит и самую чистейшу добродетель
И, невозбранные пути открыв страстям,
Дает свободу быть тиранами царям.
– Боже мой! Никогда не поверю, чтобы Дашкова сего не читала. Не зря же она столько лет с Вольтером дружила.
– Да, впрочем, вот и она сама. Глядите, глядите, направляется к императрице…
– Как ваше самочувствие, государыня?
– Преотлично, княгиня.
– Но вы кажетесь взволнованной, ваше величество.
– Тогда как взволнованной следовало быть вам, не правда ли? Что сделала я вам, княгиня, что вы стали постоянно распространять произведения, опасные для престола и императрицы?
– Вы не можете так думать, ваше величество.
– Вам знакома эта книга?
– Да, это последний том «Российского Феатра».
– И вы знаете, что он будет сожжен палачом?
– Мне это безразлично, ваше величество, так как мне не придется краснеть по этому случаю. Я не верю своим ушам, что моя обожаемая просвещенная монархиня способна на подобный поступок. И умоляю ваше величество об одном: прочтите сами трагедию и убедитесь, что ее развязка способна удовлетворить любого сторонника монархического правления. Вам пересказали, смею предположить, пьесу те, кто не умеет читать литературных произведений. Я не автор пьесы и не заинтересована нисколько в ее распространении, поэтому, поверьте, мой суд о ней достаточно беспристрастен, а руководить мною может только величайшее уважение и любовь к вашему величеству.
– Довольно, княгиня. Меня ждет карточный стол. Думаю, и вас также. Мы просто не понимаем друг друга.
– Как вас приняла императрица, ваше сиятельство? Я весь вечер не находила себе места и молилась, чтобы вы не приезжали как можно дольше – знак того, что все обошлось.
– Благодарю вас, мисс Бетс. Граф Самойлов сразу же меня предупредил, что гнев императрицы на меня прошел и мне нечего опасаться его дурных последствий. Мне оставалось ему ответить, что я ничего и не опасалась, не сделав никаких дурных поступков, несправедливость же сама по себе не может меня волновать – слишком часто мне приходилось ее испытывать.
– И все же это должно было принести вам облегчение, не правда ли, ваше сиятельство?
– Простое восстановление справедливости, не более того. Императрица действительно сразу по своем выходе обошлась со мной очень милостиво и пригласила следовать за ней во внутренние комнаты.
– Какое счастье, что дурные люди не смогли настроить императрицу против вас!
– На этот раз, мисс Бетс. Я хорошо сознаю, что только на этот раз. Наедине с императрицей я попросила ее величество забыть события последних двух дней. Государыня хотела все же объясниться, но я не дала ей дойти до слова, сказав, что между нами пробежала черная кошка, которую не следует звать назад. Ее величество стала смеяться и осталась в прекрасном расположении духа на весь вечер.
– Счастливый день, ваше сиятельство!
– Вы правы. Но именно счастливый день снова навел меня на мысль об отставке. Жить в вечном напряжении, без уверенности в завтрашнем дне, не знать, кто и что может о тебе сказать государыне и настроить ее против тебя – нет, я не способна более этого переносить. Надо раз и навсегда покончить со службой.
– Но вы так ею дорожите!
– Все так, но Зубовы не дадут мне спокойно работать. Оба брата ревнуют меня к государыне и сделают все, чтобы постоянно восстанавливать ее против меня. Наши дружеские отношения им не нужны. Впрочем, хоть мне и горько в этом признаваться, государыня заметно изменилась.
– Годы, ваше сиятельство.
– Но они касаются и меня. Возможно, поэтому нам становится труднее понимать друг друга.
– Ведь у вас столько планов, ваше сиятельство, в вы так легко могли бы их осуществить.
– Могла бы… Порой мне начинает казаться, что ее величество теряет интерес к новым затеям, предпочитает покой и размеренность былой склонности к опытам. Помню, как государыня говаривала после успеха своих литературных сочинений, что не придает им никакого значения и что интересуется во всех областях одними опытами. Но это в прошлом. Вы поехали бы со мной в деревню, мисс Бетс?







