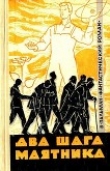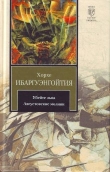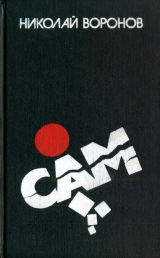
Текст книги "Сам"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
«Я скоро завершусь. Прекрасно! Бесчестье оставаться среди людей глупых и поддающихся отуплению. История – это смена рекламы правителями, неукротимыми в достижении цели удерживать общества в состоянии безмозглости. Быть в такой жизни – равносильно не быть. САМ, и ты оправдывался, зная, что наша жизнь сводится к нежити?!»
Нет, он не нуждался в ответе САМОГО. Он выражал САМОМУ презрение смертника, кто окончательно осмыслил, что ему некого и нечего страшиться.
Разомкнулось перекрестие. Нарочно придумали, чтобы красота доводила человека до саможаления. На синеве горы проступили прожилки белых тропинок, пагодовидные беседки, мостики над каньонами, канатные дороги. Над горой вспыхивали пейзажные голограммы. Меж ветвей баобаба, из дупла которого выглядывало веселое семейство лесного племени, задержалось, высвечивая траву прерии, лимонное солнце рассвета; синеокий бородач в белой кепочке с козырьком, сдвинутым на ухо, полный удивления, поднимался на махолете над хребтом, схожим с кентавром, который в мечтательности лег огромным лицом возле края ветрового моря; медведь, вздыбившись во весь рост, стаскивает к себе в пасть ягоды черемухи, сладко прижмурены глаза, на зубах черная оскомина, когти глянцевиты от сока; на рогу буйвола поет скворец, разыглилась, трепещет борода, среди узоров пепельного крапа – фиолетовые, зеленые, коричневые переливы оперенья; вращается подобно танковым гусеницам эллиптическая галактика, над ее темным центром в запредельностях – цветок звездного взрыва, раструб шафранный, желтая пыльца на алых тычинках.
Не видеть этого Курнопаю. Не быть для него простору, солнцу, деревьям, птицам… Как так – он не любил скворцов, медведей? Сейчас он любил бы даже змееголовых скорпионов, сколопендр, скатов, сипов, ванноротых гиппопотамов, раздутых жиром сивучей, прожорливых касаток.
Надвинулась темень. Возникло впечатление – ударится о базальт. Дрогнул, но шагнул дальше. Его секундная оторопь распотешила танцовщиц. Позади что-то сомкнулось тяжело, с прихлюпом. В глаза, вращаясь, ударил ячеистый свет. Оборотился. Сомкнулись туннельные ворота. Образовали голову голубоглазой стрекозы. Красный рот шевелился, втягивая обнимающихся мужчину и женщину. Заужасались негритянки. Они не бывали в туннеле. Но здесь, около стен, будто исторгнувшись из каменного монолита, выросли какие-то колонны, по которым скользили коленями, бедрами, бюстами, губами нагие девушки. Колонны были шлифованно-белесы до середины, выказывая свое железное происхождение, выше – черны, как обычно черен литейный чугун, и завершались куполами.
Никто из девушек не бросил взгляда на Курнопая.
Танец нежности, танец мольбы, танец казни?
И экранированный на стены в промежутки между колоннами образ голубоглазой стрекозиной головы, вбирающей красным ртом завороженную лаской парочку… Какая смурная символика. В страстях и смерть воспринимаешь, как уход в голубую вечность. Хотя, конечно, прорва, поглощающая нас, цвета крови. Фу, отвратно, отвратно. А эти, эти, вьющиеся вокруг колонн, что они символизируют? Не надо вникать в нелепость. Стой. Нелепость ли? Может, это сексрелигиозный обряд, доведенный до мистичности?
Ячеистый свет потонул в темноте, как сеть в ночной лагуне. И голос Болт Бух Грея оповестил:
– Они презрели акт посвящения. Они смели отринуть, дабы посвятил их я сам, верховный жрец. Их идол – чистота. Чистота могла бы развиться до субстанции бога, если бы она была явью, а не миражем. Все существует в смеси. Чистоту пронизывает грязь. В почвенном хаосе, куда горняки сбрасывают породу, так ассенизаторы сливают фекалии, рождаются алмазы и платина, изумруды и золото и растут там до счастливого времени, пока мы не превратим их в богатство. Я приговорил отступниц к замурованию. Они подали прошение помиловать их. Они получат помилование, когда отрекутся от инфантильного понимания чистоты и овладеют духовностью сексрелигии.
В первом пещерном зале жрицы шли позади Курнопая. Перед входом во второй зал, где на дверях вспыхивало табло – Музей Еретиков, – они отстали. Тут была сутемь. В ней с призрачностью зеркалились огромные многогранники. На короткое время какой-нибудь из кристаллов пронимало возбудительным светом. Кристалл разгорался до ртутного сияния, проявляя в себе скелет. Через секунду над кристаллом начинала помигивать табличка с прозвищем и обозначением социального происхождения еретика или еретички, а также с пояснением, за что он или она подверглись замурованию. Приговоры выносились за отказ от посвятительства или посвященчества. Но, к удивлению Курнопая, большей частью в музее выставлялись костяки тех, кто не признавал сексрелигию, выступал против нее устно и средствами нелегального слова. Это скрывалось от курсантов.
Около года тому назад из Сержантитета была выведена Сыроедка, сестра Болт Бух Грея. Еще до возвышения брата, служа в армии, она добилась права есть невареную пищу. В училище Сыроедку чтили за строгое самоограничение, красоту, кровное родство с Болт Бух Греем. И вдруг она исчезла с правительственных горизонтов и потерялась в безвестности.
Курнопай содрогнулся, негодуя, едва в углу музея замигала табличка: «Сыроедка. Из класса фермеров. Возглавляла в Сержантитете отдел молодежных течений. Бойкотировала святую обязанность самийки, предназначенной для улучшения генофонда нации».
В училище не меньше половины курсантов было жестоких, вероломных, мстительных, предрасположенных к несусветным поклепам, которые приходилось отметать даже преподавателям, поощрявшим обман, поэтому Курнопай подумал, что нравственность самийцев выродилась до такой степени, что не могла не вызвать теперешний правительственный курс. Ему подумалось и о том, какой бы неотложно болевой ни была мирная задача общества, ради ее осуществления навряд ли целесообразно предавать казни кого бы то ни было из самийцев, а тут редкий образец девушки, да еще и находившейся на высотах власти.
Курнопаю стало жалко и Сыроедку и себя. Потом он спохватился. Разрушительно так думать. Забыл он философию государственности. Как там сформулирован основной закон? «Примат политики над экономикой и демографическим уровнем общества – залог его справедливого права и грядущего бурного развития». Да-да, он отметает то, в чем не имеет практики. Истина всегда на стороне государства, потому как дух и фундамент державы заложил и вдохнул великий САМ.
Возвращение к училищному восприятию обрадовало Курнопая. Спазм восторга перехватил гортань. Помечталось: если он подаст Болт Бух Грею рапорт о заблуждениях, являющихся следствием прекращения антисониновых уколов, и попросит о помиловании, то, пожалуй, главсерж его простит, пусть и с покаянными испытаниями. Страшней испытаний, какие довелось вынести курсантом, не будет.
28
Непроизвольно Курнопай скомандовал себе вслух:
– Кру-гом! – и всласть, со свистом подошв и ударами каблуков повернулся.
Над дверью – она была растворена, хотя он помнил, что прочно ее захлопнул, – горели красные слова: «Выхода нет».
Какое-то возмутительное несоответствие! Обуянный дерзостью, за которую курсанты и преподаватели ругали Курнопая заглазно Трюхнутым Торо,он влетел в смоляную тьму соседнего зала. Он был готов не просто бить головой всякого, кто посмеет ему препятствовать – поддевать, подкидывать, прошибать. Создалось впечатление: пока мчался из музея, на голове взвивались острые рога.
В тишине и непроглядности Курнопай послушал свое взъяренное дыхание. Игра представления неожиданно выманила Курнопая отсюда, из каменной глухоты, в пуховые от ковыля прерии. Увидел себя потерянным бизоном. Сердце забухало от тоски. Хотелось выдать через рев, начинающийся легким взмыком, шипучим из-за горячей накипи слюны, всю горечь одинокости, усиливаемой шелестом ковыля и необозримостью прерий.
Постоял, пытаясь сдержаться, и все же уступил утробной щемящей воле. Едва закатилось эхо его рева в дальние углы зала, душа Курнопая захолонула, охваченная совестливой догадкой. Струсил, чтобы спастись, вот и принял то, в чем усомнился, вот и выскочил из музея. «Выхода нет»? Ловушка. Проверили мужество, убежденность свежих идей и еще что-то насущное, к чему его мысли покамест не пробили дорогу…
Решил возвратиться в музей. Найдет Милягу. Оттуда их уведут в пещеру и замуруют.
Он еще находился во тьме, когда чьи-то ладошки догнали его плечи. Остановился, не смея поверить, что это может быть Фэйхоа. Опахнуло ароматом зрелого плода, название которого стало ее милым именем. К аромату примешался запах сельвы в пору цветения орхидей. Неужто узнала от Ковылко или Каски, а то и от бабушки Лемурихи, что запах орхидей, о котором он забыл помнить, любимый запах его мальчишества?
«Фэй!» – чуть не выдохнул он и насторожился. Ладони, приникшие к плечам, сдвинулись к выступам ключиц, да так порывисто, что он обеспокоился: прямо мужской порыв.
Ладони замкнулись на груди Курнопая.
Дерзкая Кива Ава Чел.
– Бык! – прошептала она и точно бы заключила в ярмо его шею. – Ты угрюм, бык. Ревел – твоя тоска чуть не погубила меня. Не рвись к смерти. Не урод, в славе. Неслыханную судьбу приготовил тебе держправ и мои родители. Не без моего участия. Люблю тебя, бык. Не посвятишь, останется покончить с собой. Бык, после мира солдафонства ты получаешь мир наслаждений. Нет ничего счастливей. Останься жить. Не отбери жизнь у меня…
С момента, когда он выбежал из Музея Еретиков, Курнопай ощущал в себе убывание настойчивости. Не метания разума отразились на нем, не подспудная уловка уцелеть, а то, чего он покуда не сумел определить: без меры усложненное существование Самии, державные цели Болт Бух Грея, не поддающиеся завершенной оценке, бытие САМОГО, которое представлялось вездесущим, всеподчинительным, тоже не всеконтрольное и требующее изворотливости, кидающей в разочарование.
Кива Ава Чел действительно собиралась покончить с собой, но после того как отомстит Курнопаю за неподвластность Болт Бух Грею и установлениям сексрелигии, за неуважение к державе и надругательство над нею и родителями. В брючный карманчик, находящийся возле лодыжки, она воткнула введенный в резной чехол из тисса четырехгранный кинжальчик. Внутрь кинжальчика, где находился яд императорской кобры, был встроен игольчатый стержень. Удар – и стержень просаживает нос кинжальчика и в глубину раны выпрыскивает яд.
Податливость Курнопая обрадовала ее. Все. Посвятит. Пускай придется приводить его в порядок ночь, неделю, месяц (встречаются загадочные особи мужского пола, действие которых в полной зависимости от любви), но она достигнет этого.
– Бык, головорез, у тебя растет щетина. Я губки уколола. Фэйхоа посвящала тебя невинной. Ты будешь посвящать невинную. По секрету скажу – Бэ Бэ Гэ я не поддалась.
Мало-помалу склонялся Курнопай к повиновению Киве Аве Чел. Он позволял ее рукам тискать себя, губам до боли приникать к шее. Вполне вероятно, что, глянув в зеркало, он обнаружит синие кольца на шее, но и этому он не противился. Правда, он проявлял неподатливость, как только она принималась тянуть его к дверям, в лаке которых пульсировал лазурный океанский цвет.
Привыкший к послушанию своего организма, Курнопай боялся, что останется бестрепетным и в пещере посвящений. Кива Ава Чел бьется, страдает, а в нем не вспыхнет ни чувствинки. Чтобы не испытывать укоризны, пока не умрет, Курнопай приказал себе оставаться здесь, где совершают искупление безмолвные отступницы.
Не уставала Кива Ава Чел ласкаться к Курнопаю. Да что не уставала?! Делалась свирепо-нежной.
Если бы не изнуряла Курнопая вина мужского безразличия, он укротил бы Киву Аву Чел щелчком в солнечное сплетение.
Но, покорствуя, Курнопай остерегался собственной безвыходной ярости, впервые взыгравшей в нем после антисонинового укола. В училище кто из курсантов не переносил щекотки, над теми развлекались до садизма. Притронутся к боку или шее, он сразу становится смешливо беззащитным. Кое-кто обмирал от настырных прикосновений, от него и тогда не отвязывались, и он незаметно кончался.
Он спасся, благодаря бешеной реакции и своему положению. Самым чутким местом у Курнопая была кожа под карманами брюк. Кто-нибудь намеренно заденет это место, Курнопай сразу зверел.
Покалечил бы он Киву Аву Чел – изловчилась забраться в карман, – не зазвучи в тот миг голос Болт Бух Грея.
– Я, главсерж Болт Бух Грей, верховный главнокомандующий всех родов войск, приказываю головорезу номер один, генерал-капитану Курнопаю посвятить Киву Аву Чел – дочь членов Сержантитета. (Курнопай, будто с голосом главсержа вдуло через его уши упругую энергию, ощутил такую влитость тела в офицерскую форму, что боялся шевельнуться, чтобы не расползлась по швам.) Этого посвящения желает великий САМ. О нем мечтают вооруженные силы, народ, держадминистраторы. Оно послужит политическому сплочению нации, рывку экономики и здравоохранения, проникновению краеугольных положений сексрелигии в зараженные христианством, магометанством, сектантством массы фермеров, клерков, рабочих, монополистов, технократической и культурной интеллигенции.
Во исполнение державного посвящения, в честь перевода головореза номер один, генерал-капитана Курнопая в особо ответственный род войск повелеваю привести армию в боевую готовность.
Когда микрофон чпокнул, отключенный, Кива Ава Чел потащила Курнопая, все еще остерегавшегося, что его одежда разлезется, в Музей Еретиков.
Курнопай попытался остановить ее там для исполнения приказа, но она с осмысленным удивлением в глазах урезонила его, и он, влекомый ею, оскорбленно смекнул, что теперь-то ее волнует не столько само посвящение, сколько его осуществление в согласии с нормами ритуала.
И все-таки Курнопай остановил Киву Аву Чел и напомнил ей о том, что она говорила, будто бы любит его. Она, нахмурясь, подтвердила, что любит безо всяких «будто». Укрепленный подтверждением Кивы Авы Чел, он бухнул с наивной прямотой: дескать, не важно где, важно что.Большую осмысленность излучили глаза Кивы Авы Чел. Рванув Курнопая за собой, она непреклонно возразила:
– Важно где, что, ради чего, как.
Курнопай не узнал в ней девушку, лирично возлежавшую возле подружки в белом автомобиле Болт Бух Грея. И взмолился, обратясь к САМОМУ.
«Истреби во мне приказ. Немощь была моим спасением. Зачем ты позволил Болт Бух Грею одолеть силы моей внутренней самообороны?»
«Престижность!» – весомо сказалось в сознании Курнопая. Ему помнилось, что в одну и ту же оболочку одновременно индуцировался и ответ САМОГО, и личный его ответ.
«Может ли быть такое?» – спросил он САМОГО и себя. САМ не отозвался.
И тогда Курнопай, сникая волей перед обреченностью на посвящение, попросил САМОГО, надеясь не на ответ, а на будущее действие: «Проводи границу. Слияние твоеймысли и моей – для меня непомерная нераздельность».
В зале, где на полу были ложа, застеленные шкурами зверей, а в нишах, облицованных морскими раковинами, панцирями черепах, плавниками тропических рыб, находились установки для фотографирования, киносъемки, видеозаписи, Курнопай не смог думать. Всю свою волю он пытался подчинить желанию победить самопроизвольность, благодаря которой над ним властвовала Кива Ава Чел.
Но и тогда, когда от света прожекторов затмилось его зрение (он даже не смог разглядеть, как уходила Кива Ава Чел, крикнувши: «Салют головорезу номер один!») и он продрог от каменного пола и брошенности, непроизвольность долго не покорялась ему.
Власть над собой вернулась к Курнопаю, едва он разрыдался, ощутив неподъемную тяжесть насилия, которое, как эта гора над ним, взгромоздилось над его судьбой с дня переворота.
29
У сверстников Курнопая душевное расстройство отбивало аппетит. Он же, напротив, становился жорким. В училище он установил себе правило никого ни о чем не просить. Огорчения обостряли в нем нетерпеливость, вроде бы слегка свихивали характер. Он, который был обязан, получив звание головореза номер один, пробовать приготовленную на кухне пищу, делал это сдержанно – ложку, не больше. За столом, если дежурные курсанты предлагали добавку (всяк хотел выслужиться перед ним), надменно отказывался.
Но едва Курнопай попал в зону неприятностей, то не пробовал варево – ел, намекал поварам и раздатчикам, что не грех бы подкинуть к нему на стол добавку погуще да посытней. Ночью он забегал к провиантмейстеру в увешанные рыцарскими доспехами апартаменты, где обычно можно было слопать шмат носорожьего сала с ржаным хлебом без примеси сорго или маиса, омлет из черепашьих яиц, выпить чашечку кофе, смолотого на ручной мельнице, рычащей при дроблении зерен, как рысь, которая жрет зайца и отпугивает голосом волков. Под утро провиантмейстер, разомлевший от виски, сдобренного тоником, и вторичного прихода Курнопая – любимчик САМОГО и главсержа, в ближайшем будущем один из властителей армии, – заставит свою адъютантку Жирафу (крохотная головка, вытянутое лицо, уши с обкорнанными кончиками, длиннющая шея) испечь в духовке розового картофеля и подать стуженного на льду айсберга молока буйволицы. И настроение Курнопая улучшалось, и такое удовольствие испытывал от вкусноты, какое лишь было вероятно дома, когда у бабушки Лемурихи возникала охота поколдовать на кухне.
После Курнопай проклинал себя за расползание силы воли и корил за то, что угощался у цепкоугодливого провиантмейстера. Тот, не проходило и месяца, преподносилему акт на списание «порченых» продуктов. Наведывались к провиантмейстеру по примеру головореза номер один и другие начальники из курсантов, а самое главное ради того, чтобы усилить его переживание из-за падения до вынужденной подлости. Хотя рядовые курсанты не показывали вида, что ненавидят Курнопая за скрытое, пусть и урывками, потребление, он чувствовал, что они продолжают его уважать, боясь мести и расправ.
Угнетенности, подобной тогдашней, у Курнопая не было даже после приговора к замурованию. Он скорбел о том, что рефлекс воинской дисциплины распространился в нем и на такую сокровенно загадочную область, которая издревле подвластна лишь любви, ну, в крайнем случае, физиологическому влечению, а оно возбуждается вовсе не безразличием к внешности и душевной натуре женщины, а симпатией, хотя и безотчетной. Но сильней печалился он о том, что его упорная верность Фэйхоа, чему стихийность должна была обеспечить торжество, поддалась армейской команде. Кроме того, сердце Курнопая щемило до желания уничтожиться при мысли, что он не оправдал себя как нравственная, думающая личность, обладающая мощным, генетическим и сознательно выработанным зарядом независимости.
К своему удивлению, за телекамерой он обнаружил заглубленный в монолит горы обширный погребок с настенными бра из бизоньих рогов, оправленных серебром. Он вошел туда не без подозрительности. Пристегнутая к черным железокованым цепям, висела сосновая доска. Полировкой был четко выявлен узор, ее легкий круговой кач подтверждал вращение земли. Тяжело, иглясь и мерцая, обступали литого золота ковчег, повторявший своим вытянутым очертанием сердцевидный рисунок доски, диковинные рюмки, бокалы, кружки. Когда рассмотрел их, догадался, что они выгранены из серых вулканических бомб, которые по краю объема поросли готикой аметистовых кристаллов. Он взял бокал, остро ощущая пальцами шершавость, – сказывался вес, направился к полке, где подсвеченные от стены, в плоских, кубастых, гофрированных, рубчатых, волнистых, бокастых, шишчатых бутылках горели аперитивы, виски, коньяки, джины. На темном торце полки веселой изморозью проблеснули угловатые типографские слова:
«Здесь все твое. Пригубливай, глотай, хлещи. Грызи орехи, лакомься сырами, фруктами, копченостями. Все маринады, от маслин до чеснока, к твоим услугам. Балык из рыбы-солнца отполосуй. Калуги, фаршированной грибами, желудок отведай. Фазан в духовке, что в какой-то миг изжарит током даже кабана. Блаженствуй перед смертью или перед долгой жизнью».
Курнопай непроизвольно поулыбался.
– Блаженствуй перед неизвестностью!
Он быстро разыскал электропечь. Яйцевидная, красная, с линзой иллюминатора, она походила на микробатискаф. Нажал клавишу. Фазан, пронзенный металлическим штырем, быстро вращался. Смолянисто-темных раков, повернутых к оконцу клешнями и коническими рыльцами, встряхивало на листе, находившемся в нижнем отсеке. Печь отключилась. Фазан сиял поджаристой коричневой боков. Раки стали оранжевыми, выявилась пупырчатая структура панциря. Из-за цвета и структуры панцирь почему-то хотелось ломать, да так, чтобы трещал.
Курнопай открыл дверцу, отломил самую крупную клешню, но раздумал ломать панцирь: сунул клешню в рот, хрупая ею, сиганул к полке. На глаза попалась бутылка, где на фоне дворца с выгнутыми углами крыши розовели, чем-то напоминающие рисунки на крыльях насекомых, иероглифы.
В бутылке лесным духом в образине карликового старичка стоял залитый водкой корень.
Пока рыскал взглядом среди посудин, авось попадется штопор, сколоть сургуч и вытащить пробку, из-за плеча протянулась рука и выхватила бутылку.
Обрадовался, предположив, что Миляга, ан нет, Болт Бух Грей.
– Разведка донесла, – лукаво лучась зрачками, промолвил Болт Бух Грей, – вам, любимец САМОГО и мой персональный любимец, женьшеневая настойка понадобится к середине двадцать первого века. В моей правительственной резиденции винотека глобального значения. Как-нибудь специально для вас устрою дегустацию. В эпоху коллекционеров трудно удержаться от собирательства. Я – коллекционер вин с десертным уклоном. Уклоны во всем, кроме державной политики внутри страны. В этом интимном подвальчике зелья всех континентов. Я лично предпочитаю после каждого посвящения взбодриться персиковым спиртом из Венгрии. «Спирт» – сказано для пущей важности. На самом деле мы выпьем персикового самогона-первача.
Болт Бух Грей добыл из бара, встроенного в стену за пределами полок, хрустальный сосуд, составленный из пяти рифленых шаров. Шестым шариком была пробка, на первый взгляд от флакона офицерских духов.
Главсерж, сделавшийся загадочным, предложил Курнопаю приглядеться к пробке. Курнопай склонился и сквозь отверстие, в которое едва ли проделся бы волос, увидел девушку: белая прическа с изумрудными молниями, открытый бюст, на ладонях желто-огненные персики.
Поясная девушка и соблазнительные персики вырисовывались из преломления света. Болт Бух Грей удовлетворенно повернул сосуд. Девушка прорисовалась в профиль, да не одна – с мужчиной. Оба вгрызались в мерцающие соком персики. Еще легкий поворот сосуда. Ладони мужчины накрыли девушкины груди, будто собираясь сорвать их, как плоды.
Первач лился тягуче веско, пламенея газовой синевой. Болт Бух Грей взял со столешницы другой бокал. Налитым туда самогоном поблескивали фиолетовые кристаллы. Задумчивость была в круговых движениях руки. Абсурдно вел себя властелин. Уж если родную сестру не пощадил…
Курнопай замер, приготовясь слушать Болт Бух Грея. Объяснит или попытается оправдать, почему цацкается с ним. Кое-что приоткрыл во время встречи в гимнастическом зале. Не лукавил ли?
Едва властелин заговорил о том, что пробку для закупорки персикового самогона исполнил по его заказу светоскульптор из Гонконга, Курнопай укрепился в своем ожидании. Какая-то метафорическая ниточка, пусть и не строго логическая, протянется от лучевых преломлений к тому, о чем Болт Бух Грей скажет чуть позже.
Поджаристый бок вкусно пахнул, лоснился. Курнопай не смог преодолеть соблазна, всадил в фазана пальцы и целиком отделил от костей.
Болт Бух Грей построжал взглядом, как укорил: зачем-де кидаться на жратву перед исключительным приговором, который вероятен только тут и с ним.
– Полагаю, мой дорогой Курнопай, вы не думали над иронией истории.
– Справедливо полагаете, господин главсерж.
– Зови меня просто Бэ Бэ Гэ. Сержантитет во главе со мной, наследником САМОГО, свергнул Черного Лебедя. Казалось, мы должны намертво отрицать установления Лебедя. Мы, правильней я и Сержантитет, возвели некоторые из его установлений в ранг державной и религиозно-философской политики. Я удалился от примитивизмов Черного Лебедя. Они были неизбежны из-за его верхоглядства. Я похерил интуитивизм Лебедя. Взамен внедрил строгую научность. До нас были государственные конгрегации, чьи афиши претендовали на сугубую науку. Я не рекламирую, я осуществляю. Иное дело – я могу впасть в заблуждение по вине советников. Как возник храм Солнца в Индии? Бог Солнца вылечил от проказы царского сына. Царь воздвиг в честь бога Солнца храм. Три значения определяют сущность постройки: кама – любовь, йога – дух, дхарма – законы, каковыми должен руководствоваться человек. Мой предшественник сделал копию храма Солнца, правда, с отсебятиной, ради скульптурных изображений. Фасадная сторона каждого блока из песчаника – скульптурная картина, зачастую с эротическим мотивом. Почти немыслимые варианты отношений мужчины с женщиной. Тысячелетиями скрывались чувственные отношения полов. Их как бы не было и быть не могло. Творцы храма Солнца обнародовали важнейшие, привлекательнейшие, неистребимейшие для людей отношения. Интуитивист Черный Лебедь ухватился за пропаганду эротики. Для чего? Поощрения плотского интереса мужчины и женщины, ничем не стесняемые, приводят к спячке духа, воля при этом непроизвольно подчиняется верховным силам государства. Я отмел деспотическую цель, лишь оставил догадку, дабы придать ей всемогущество. Перво-наперво люди – телесные существа. Физиологическое для них превыше всего религиозного и философского. Противоречие, постыдное для нас, недопустимо. Индийское представление любви не соответствует нашему. Эротика – нечто среднее между любовью и сексом. Грубая простота животного акта у самийцев – эротика предлагает изящную изощренность – заставила меня остановиться на понятии «секс». Поскольку я жажду сократить разрыв между сексом и духом, между сексом и законоустановлениями власти, между сексом и САМИМ, я решил ввести сексрелигию. Исходя из научных глубин сексрелигии, я прощал тебе. Знал – дозреешь. Ты дозрел: посвятил Киву Аву Чел. Самия празднует это посвящение. Так вот в чем ирония истории: правители, свергнувшие, продолжают то, что делали правители низвергнутые. Уровень, однако, выше, модификация многомернее. Вы, любимец САМОГО, мой любимец, народа Самии, продолжаете жить и сослужите нашему отечеству исключительную службу, благодаря тому, что мной руководили любовь, дух, законы и забота о счастливейшем будущем державы. Именно за это я желаю выпить.
Глухой удар бокалов отзывался в готике аметистов. Звуки, истончаясь на шпилях, как бы перескакивали с кристалла на кристалл.
По-детски нескрываемо Болт Бух Грей наслаждался пением аметистов и чудившимися перескоками звуковых бесенят. Конечно, бокалы тоже сделаны по заказу, только у звукоскульптора, и ясно, что Курнопай обязан, хотя бы из чувства благодарности, обратить слуховое внимание на музыку кристаллов. Но ему до того хотелось есть, что он не вытерпел и откусил от фазана.
Болт Бух Грей, знавший о моментах оголтелого аппетита у головореза номер один, допускал, что тут возможен оговор, и не принимал на полную веру моменты обжорства у своего любимца. Увидев, какой кус оттяпал Курнопай жемчужной чистоты зубами, он сожалеюще посклонял на щеку голову. Он всегда предполагал, что жратва для человека, даже необычного, превыше эстетических удовольствий от любви и философии, от кино и музыки, от литературы и живописи, притягательней этики и политики, задушевных дружеских откровений и путешествий, важнее армейской службы и творческого труда.
Курнопай попытался жевнуть, мясо заполнило весь рот, языком невозможно пошевелить.
«Именно!» – еще раз затвердил горестный вывод Болт Бух Грей. Будь в погребке не Курнопай, он бы устроил тому адский разгон, при воспоминании о котором не меньше ныло бы сердце, чем при мысли о собственной кремации.
Предназначение, уготованное им головорезу номер один, возбудило в Болт Бух Грее потребность поделиться с Курнопаем идеями, каковые не снились никому, кроме него.
– Нецелеустремленность характерна для большинства обществ планеты. Я решительно все подчиняю целеустремленности. Пробочка от спиртовой емкости – эталон моей целеустремленности. Пробочка полностью отвечает требованиям сексрелигии. Однако в ней имеется сверх того галактическое иносказание. Жизнь, в принципе – уборка урожая. В природе уборка урожая циклична. У человека, едва он достигает биологической зрелости, уборка урожая совершается непрерывно, почти до самой смерти. Государство постоянно снимает с народа урожай – это доступно пониманию всех и вся. Лишь я додумался впервые, что жизнь мужчины и женщины – взаимно непрерывное снятие урожая. Чем больший урожай снимает мужчина с женщины, тем благотворней, тем длительней его судьба. Увы, женщина снимает более обильный урожай с мужчины. Отсюда она повседневно счастливей, вообще счастливей, живет гораздо дольше, чем он. Мое общество строится на принципе искупления. Мужчине воздается за недобранные удовольствия во всем объеме исторического прошлого, за невосполнимую недожитость. Снятие урожая индивидуальных удовольствий в личности намного сильнее, чем снятие урожая державных благ. В принципе люди охотней потребляют результаты державного блага, чем хотят участвовать в производстве общего блага…
Курнопаю удалось высвободить язык из-под фазаньего мяса и сделать желанный жевок.
Неловкость перед Болт Бух Греем поубавилась. Страх умереть почти исчез. Возобновилась способность к тщеславию, мигом исчезающая перед угрозой смерти, и он похвалил себя за проницательность: дворцовые сержанты, разъединив их семью, тем самым переключили чувства, ум, силы матери, отца, бабушки Лемурихи, его, которые дома расходовались бы друг на дружку, на создание державного блага.
– Я говорил тебе, посвященец Фэйхоа, о трудностях, испытываемых правителем…
«Фэйхоа, нежность моя и надежда, да ради встречи с тобой я сразу должен был подчиниться обряду. Трудности правителя? А знает ли он о трагических трудностях САМОГО? Нет, не скажу. Может, САМ никому не открывал этого».
– Индийский бог Шива слывет за очистителя. Почему? Он спас человечество от гибели. Демоны собирались уничтожить человечество посредством яда. Дабы спасти человечество, Шива взял яд в рот, для виду выпил. В действительности он держал яд в горле. Горло жгло. Затем он выплюнул яд. Кобра холодила шею бога, однако он принял жуткие муки. Я уподоблю себя Шиве. Демоны стремились истребить наш народ. Плохая рождаемость. Большинство детей уродцы. Процветала выпивка, наркомания, проституция. В общем, социальные болезни губили Самию. Происходило опаснейшее для экономики и независимости державы трудовое расхолаживание. Я решил спасти отечество. Революция. Реформы. Гигантские сдвиги. К несчастью, имеются недовольные, меня клеймят, проклинают. Спасителя изображают лиходеем. Мои обиды, ежели мыслить иносказаниями, яд в горле Шивы. Мое горло постоянно сжигаемо. Доверительно сознаюсь, дорогой Курнопай, вы подбавили яда. Я, правда, не имею кобры. При ненависти к зельям я холожу горло вином «Черный доктор» из Крыма. Предлагаю тост за правителей, каковые предпочитают держать в горле яд демонов и яд обид от своего народа, дабы он сохранялся и процветал…