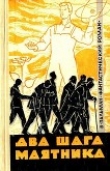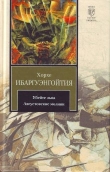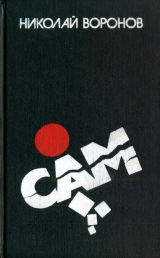
Текст книги "Сам"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц)
– Не вам судить о себе. В целях укрепления уважения к сексрелигии, к политике САМОГО, к моей персональной политике в любых сферах вас нужно казнить.
– Казните, господин вождь. Умру с вашим именем на устах.
– Прекрасно и оригинально, головорез номер один, что вы назвали меня вождем. Пошло и банально, что хотите умереть с моим именем на устах. Умирают с именем подлейших правителей на устах еще чаще и восторженней. Жутко быть правителем. От одной необходимости брать на себя ответственность хочется закопаться в землю. Думаете, легко принять решение о вашей казни?
«Оно, пожалуй, так, – сострадая, подумал Курнопай. – Тяготы, о которых не подозреваю, мудрость, которой не владею. О, чуть не упустил: а ему-то не колют антисонин».
– Зря открываюсь. Маета о преемственности.
«Хым-хым, – невольно подумалось Курнопаю. – Навряд ли автократы нуждаются в преемниках. Эх, люди-человеки, вам все мнится, что вы бессмертны. А почему? Вероятно, все мы, тем более Болт Бух Грей, потомки богов?»
23
Родниковая прозрачность глаз, как нравилась она Курнопаю в детстве. Да уж больно редко они высветлялись. Не то чтобы они постоянно были мутны у отца с матерью из-за посещений стриптизбара, нет, зачастую они глянцевито рябили, наподобие роговой обманки в полировке темного граната, а проницаемости в них никакой. Чуть подрос, стало создаваться впечатление – пересыпчивый крап в глазах родителей отражает то, что им хотелось бы высказать, но о чем они молчат. Вдруг отец и мать возникали прозрачноглазыми. Он засматривал в их лица и бросался ласкаться. Они были захвачены ясностью своего состояния, и потому, даже когда пытались приголубить сына, от прикосновений их ладоней он зябнул и поскуливал, будто кутенок, который радостно выкупался в ручье, а выскочив на берег, попал в струи холодного ветра. Неуютность, вызванная бесчувственной лаской родителей, не затмевала от Курнопая проницаемости их глаз. Хотя и украдкой, он высматривал оранжевые протуберанцы вокруг отцовских зрачков. Мамины зрачки напоминали розовые луны, роговица – звездное зерно, под которым в черно-фиолетовых глубинах лучился свет.
Зато глаза бабушки Лемурихи высветлялись чаще. В красивой коричневе как бы проявлялись колеса праздничных велосипедов: желтые, зубчатого узора покрышки, спицы, перевитые лентами разноцветного пластика, зеркально-белые шестерни, окруженные голубой цепью.
Курнопай выпытывал у бабушки, откуда у нее очень часто глаза-родники. Она догадывалась, что внук желает видеть почти всегда прозрачными не ее глаза – отца с матерью.
– Откуда? – переспрашивала Лемуриха тоном, обжигающим слух. – От верблюда.
Раздосадованная Курнопаем, она, по обыкновению, принималась за уборку квартиры. Все делала срыву: мокрой тряпкой шлепнет о керамическую плитку так, будто из высотного ресторана для богачей выбросили на мостовую залитый вином палас, рванет за угол сервант, протирая пол около стены, сервант винтом по паркету, ни дать ни взять – бешеный автомобиль на ливневом шоссе. Знаешь, что не запустит в тебя шваброй или щеткой пылесоса, но опасаешься, на всякий случай таскаешь с собой павлинье опахало – заслониться.
Едва придут с завода Ковылко и Каска и спросят, будет ли она их кормить или самим за собой ухаживать, бабушка, не отвечая, подскочит в бамбуковом кресле, на вязальную спицу наткнулась, да и только, и вызверится:
– Пооткровенничали вчера… Столик-то в баре на крючке. Мало вам, что Хоккейная Клюшка квартиру прослушивает. Теперь его холуи пленку крутят. Он щадит. Его холуи поскалят зубы над вашей откровенностью, глядь, кто-нибудь поверх головы бармена тудаваши мыслишки доставит. Загребут ведь.
Они успокаивали ее. Кабы надо было загрести, тамхватило бы сведений самого бармена.
Темная вода прискорбия заполняла глаза родителей.
24
Странно явился Миляга. Опередил негритянку, в отличие от нее совсем не запыхался, с задором спросил Болт Бух Грея:
– Нужда во мне?
Вдохновенная невинность, мигом уловленная Болт Бух Греем, изумила его. Грубый властелин взвился бы. Главсержа не проведешь даже на гипнотической искренности! Утонченно умен! Не суд вершить приготовился. Поощрять Милягу, невзирая на то, что он заслуживает жесточайшей кары. Да, он, потомок и наместник САМОГО на этой земле, вызвал старательного врача Милягу, жаль, по упущению медицинской администрации пока не награжденного орденом «За возвеличивание здравоохранения». Инициатива превосходна, предложенная начальством. Однако все во вселенной тяготеет к исключениям, не отменяющим гармонии. Врач ничего не обязан выверять без благословения свыше. Но ежели он предугадывает вероятность государственного предначертания и позволит себе инициативу, здесь, хотя спрос с него будет, преступления нет. Верней, оно есть. Но поскольку он предусмотрел вероятность отмены антисонина головорезу номер один и совершил отмену, необходимо было довести до вождя народа Самии о причине содеянного. Вождем он признан любимцем САМОГО. Что характерно для Курнопая, он назвал его вождем в безантисониновые дни, что указывает на правильность инициативы: понимание Курнопая не приобрело особого криминала. Невероятный чин можно присвоить властелину, в диковинное звание возвести, но поименовать вождем властителя дано только народу. Курнопай – головорез номер один. И ежели уста Курнопая нарекли кого вождем, это – мнение народа Самии. Для чего внедрен антисонин? Дабы народ полней выявил свои известные и скрытые достоинства, осознанные и стихийные сущности. Достижения, обобщенные социологами, экологами, футурологами, психиатрами, информаторами, укрепили курс, взятый на овладение андами и гималаями трудоспособности. Трудоспособность одна создает национальный продукт, прибавочную стоимость, рыночные цены, устойчивость национальной валюты. Что духовность по сравнению с трудом, производящим бензин, сталь, хлеб, виноград, емкости для консервирования продуктов? Пустота и мрак без светил. Главврач Миляга, вы предвидели, что Курнопай будет активней мыслить ради служения державе без антисониновых уколов?
– Подыгрывать вам не буду, потому что радуюсь казни, как самоубийца смерти, – сказал Миляга с такой прозрачностью, что воображение Курнопая восприняло его слова, как разноцветные камушки на сером речном дне. Мигом позже Курнопай поразился отрадной высветленности дымчатых глаз Миляги. Задолго до водворения Курнопая в училище термитчиков, детям, отличившимся на телестудии, показывали в порядке поощрения фильмы о полярных сияниях. У еще не свергнутого Главного Правителя было мнение, что народ Самии не сможет дать правильную научно-религиозную оценку полярным сияниям, поэтому фильм следует демонстрировать лишь в порядке поощрения всем слоям, проявившим неразмышляющий патриотизм. На экране вспыхивало, возникали радужные зигзаги, аркады, торосы, присутствовал, господствуя, творя перемены, синий цвет, красный цвет, фиолетовый цвет, он взметывался, перебегал, бликовал, распылялся.
В чистоте Милягиных глаз отворилось полярное сияние. Искавший среди курсантов друга и отчаявшийся его найти – приспособленцы, чинодралы, завистники, равнодушные обормоты, предатели, – Курнопай обомлел от открытия. Вот он, друг. Не просто тот, о ком ты мечтал, а тот, кому ты тоже необходим. Не побоялся Миляга осадить всевершителя. Не заробеет, буду спасать. Жизнь отдам, только бы ему уцелеть.
Болт Бух Грей, как ни крепился, все-таки рассвирепел. Не из-за чувства чести, из-за спеси. Правда, Курнопай спесь от Болт Бух Грея сразу отгреб: выкопаю иногда, чего в человеке не замечал. Не может быть спеси у правителя. Спесив лакей. Впрочем, история не обходилась без правителей с лакейскими ухватками.
– В чем не собираетесь подыгрывать?
Под воздействием бешенства выбледнело лицо Болт Бух Грея, оквадратился подбородок, «рога» висков, заостряясь, приняли винтовую форму.
– Пресса полна словопрений обо всем, что бы ни вводилось в годы вашего правления.
– Пресса – зеркало действительности.
– Не забывайте о зеркалах комнаты смеха.
– Комический нюанс присущ прессе. Я сержусь на поросячий визг восторгов, на помпезность типа «Грандиозное новаторство эры Сержантитета», «Эпохальный препарат антисонин», «Всемирно известный реформатор социально-классовой динамики держправ Болт Бух Грей». В этом нюансе детство служителей прессы. Оно привлекает красочностью. Пойдите на выставку детских рисунков, и вы скажете: богатство цвета и фантазии. Имеете возражение?
– Я не верю в детскость прессы. Хочу сознаться, господин верхжрец, укол головорезу номер один я не сделал из сострадания.
– И это сострадание? Бодряк, военный превращается в неврастеника с вихляющим сознанием, в отступника сексрелигии. Организм Курнопая бодрствовал в заданном стальном ритме. Вы нарушили режим, ввергнули любимца САМОГО в зону гибельных нарушений, поставив державу перед невосполнимым уроном.
– Заданный режим и есть чудовищное нарушение природного человеческого ритма.
– Природные ритмы человека меняются. Они зависят от обстоятельств бытия. Многие общества были и остаются многослойными. Каждый людской слой жил и живет в своем ритме. Ритм крестьянина не совпадает с ритмом чиновника, рабочего, банкира, супруги банкира. Это – общественная несправедливость. Почему фермер должен вставать до солнца и ложиться раньше? Я поломал эту несправедливость установлением единого ритма деятельности.
– Чтобы установить, нужно проэкспериментировать. Как вы сделали? Хоп-хоп, мустанг в галоп.
25
Под вздыбленным брюхом носорога, ниже того места, где оно смыкалось с земным шаром, проюркнул монах милосердия. Когда, угнувшись и заголив сутану выше коленных белых луковиц, монах милосердия еще готовился прошмыгнуть под гранитом, он напоминал контрабандиста, наряженного в чужую одежду. Едва он упал на колени и воздел к Болт Бух Грею глаза, его облик очистился от пронырливости: прямо-таки вестник ангелов.
– Ваше секспреосвященство, прошу простить и пощадить меня, грешного.
– Про-о-ща-ю, ща-а-жу, – с церковными басовыми раскатами пропел Болт Бух Грей.
Монах милосердия вскочил, отряхнул полы сутаны.
– Дорогое секспреосвященство, я – счастливчик! Довелось слышать ваш анализ касаемо антисонина. Просвещение сексрелигии в нем нуждается. Теперь касаемо врача Миляги. Всем клиентам санатория он вкалывал антисонин по графику. Я понарошку пробовал сачковать. Находил и вкалывал.
– Похвально, – торжественно молвил Болт Бух Грей. – В чем кощунство?
– Стремился увиливать от укола. По месячному графику «Большой барьерный риф» у главного врача утром. Ходишь за ним со шприцем до позднего вечера. День каторги.
– Святой отец, вы понятия не имеете о каторге. Что вы думаете об его потворстве головорезу номер один? Вы представляете, мой персональный любимец настроен не посвящать Киву Аву Чел. Девочка рисковала навлечь мой гнев на родителей. Я желал стать ее посвятителем. Она добилась переадресовки своего посвящения Курнопе-Курнопаю.
– По канонам сексцеркви он совершил деяние, за каковое положено отлучение. Второе: проигрыш в престижности. Слов нет, престижно получить посвящение от Курнопая. Но получить престижность от вас, господин Болт Бух Грей, – несопоставимо. Кордильеры и вирус проказы.
Болт Бух Грей насупился, но под его прихмурью лицо лоснилось сознанием громадной собственной значимости.
– Монах милосердия, я отношу ваше признание моей значимости к САМОМУ. Но ваш сан и функция не дают права унижать Курнопая. Унизителям несть числа, милосердцев чересчур мало. Вы обязаны возвышать милостью. Курнопай – хребет в державной системе Самии. Милосердие мощнее всего проявляется через правду. Дайте анализ поступкам и мыслям главврача в период, означенный пребыванием Курнопая в санатории.
– Действительно, милосердие в правде. Правда мыслей и поступков главврача Миляги в намеках подкопного характера. Он обрывал вашего персонального любимца, господин вождь: «Умерьте командный рык». Ничто не молвится зря. Презрение, в частности, к воинскому воспитанию термитчиков. Патриархальному – скепсис, яд, чужестранному – объятия души. У японцев блестящее воспитание, поелику стремительное, у нас дома – тягучее, как сок гевеи, поелику слишком долгий инкубационный период. У японцев мальчик опустится на парашюте разума с попаданием на местность в три квадратных метра, у нас дома мужчина промешкает и раскроет парашют разума перед землей, расшибется или покалечится. Не патриотизм хвалить японцев за раннее развитие, на родине – не замечать Сержантитет, где сплошь заседает юность. Вашей, господин, молодости не признавать.
На пункт сексцерковного опроса, завербован ли, Миляга с апломбом распинался, что никем не завербован. Второй подкоп: глумился над тем, что кого-то куда-то завербовали. Философии экзистенциализма далеко до сексрелигии, но ей было дано свыше открыть закон: все мы в плавании на борту глобального корабля. Он, видите ли, не на борту.
Он внушал головорезу номер один кляузу об эре духовного удушья. Подкоп под свободу, каковую внедрил САМ и развивает единственный мыслитель Самии Болт Бух Грей…
По мере того как монах милосердия излагал представление о Миляге, Болт Бух Грей восторженно сучил ногами. Он поклялся клятвой верховного жреца, что полностью выслушает монаха милосердия, но так как все вокруг, едва он стал властителем, лишь того и ждали, чтобы он аттестовал их слово и дело, разумеется, аттестовал одобрительно или хотя бы поощрил намеком, то он и привык прерывать слово и дело, дабы не упустить что-нибудь существенное. Правда, ему не хотелось во мнении тех, с кем постоянно общался, девальвировать значение одобрения, поэтому поначалу он либо делал строгие оговорки, либо нагонял туману для произведения ужасти, а потом уж возливал на умы, замороченные хмелем начальстволюбия, этакие ликеры и бренди похвал.
– Ну-ну-ну, служитель секскульта, – остановил он монаха милосердия. – Послушать вас… Жаль, в Самии не карают за досужие домыслы. Прете вы, как бык на матадора. Находить, что мы в эре духовного удушья, – искажение умственного видения. Я не из тех, кто свободу рассматривает как всеразрешающее явление. Нет всеспасительных явлений ни в природе природы, ни в природе общественных формаций. Самообольщение – в природе доверчивых людей. Они составляют абсолютное большинство любого народа. Поверьте мне, Миляга, свобода – всего лишь улыбчивая зависимость. Точно я говорю, подсудимый Миляга?..
Анализ, даваемый монахом милосердия, печалил Милягу, хотя ничего другого он не ждал. Но в нем сама по себе теплилась надежда на потребность человека в благородстве. Откуда, из каких потаенностей должно было проточиться монахово благородство, этого Миляга не ведал, и все же верил, что даже психика злодеев не лишена способности отворяться солнцем. Когда прерванный Болт Бух Греем монах милосердия замолчал, Миляга ждуще уставился на него. Неужели монах милосердия не перебьет Болт Бух Грея для совестливого заявления: «Но несмотря на это, главный врач Миляга предан идеям САМОГО, держправа Болт Бух Грея, Сержантитета».
Ан никак не отворялось в монахе милосердия солнце. Миляга пригорюнился: «Значит, не все, достойно характеризующее людей, способно запрограммироваться в каждом человеке? Как тогда понимать формулу Ганса Магмейстера: «Запись генетического кода – не фиксация брака в книге венчания. Книга подвергнется архивному тлену, запись генетического кода истребится со смертью человечества»? Выходит, я люблю верить, да не всякая надежда реализуется».
В момент размышления и спросил Болт Бух Грей главного врача, точно ли он говорит, что свобода – лишь улыбчивая зависимость. К тому, что монах милосердия довел Милягу до отчаяния, прибавился обескураживший его сознание парадокс свободы, отсюда, пытаясь победить разочарование, которое обескровливало смысл и его личного, и планетарного существования, он возмутился. Почему-то новый режим не допускает по отношению к себе названия военная хунта, а на деле является хунтой, проводящей политику разрушения вечных биологических основ: здоровых ритмов человека и нормальной логики. Люди должны бодрствовать и спать. Бог установил день и ночь. Создал мужчину и женщину для постоянства супружеской жизни и неразделимого с браком рождения и воспитания детей. Хунта произвела дьявольский разрыв семьи. Все порознь – мужья, дети, жены. Разрыв такой, как если бы разорвать гравитационное взаимодействие Марса и Земли, а их детей – Луну, Фобоса и Деймоса выкинуть за пределы солнечной системы.
Недвижный слушал Милягу верховный жрец, его ступни прекратили соскальзывать с носорожьего седла, будто приклеились к камню.
Вдумываясь в протест Миляги, обычно по-интеллигентски покладистого, он пытался вчувствоваться в тишину: она как простреливалась пестро-тугим треском факелов и расклевывалась клекотом грифов.
Из раздумий – под ними, набирая холод и непримиримость, накапливался гнев – Болт Бух Грей неожиданно для себя вынес позыв к осторожности, но такой, что не бездействует, а ищет сокрушающего оправдания.
– Подсудимый, вы интересовались Заполярьем?
– Эпизодически.
– Самийцам это ни к чему. Заполярье – мое хобби (довольно часто со страстью фантаста он приписывал себе увлечения, а приписавши, начинал придерживаться их). Я читал о том и проконсультировался у палеонтологов, этнографов, что племена, обитавшие в широтах Северного полюса, во время полярного дня бодрствовали до полугода, но в пору полярной ночи надолго впадали в спячку. Бодрствуя, они кормились растениями, птичьими яйцами, ловили руками дичь. Запасов не делали. Напаслись на месяцы тех же трав, дичи… Вот когда они изобрели дубины, луки, гарпуны, и стали бить мамонтов, моржей, китов, да научились хранить и оберегать запасы мяса и жира в мерзлоте, необходимость в спячке начала отпадать. Вы врач, и вам известно, какой неисчерпаемой приспособляемостью обладает организм человека при условии географической и хозяйственной необходимости. Не меньшую, если не большую роль для целей приспособления выполняет наше сознание. Согласится человек или народ с поставленной ему задачей – он способен на безграничную приспособляемость. Ясно, фактор постепенности обязательно надо учитывать. САМ поддержал программу бодрствования, народ принял и осознал. Самый дисциплинированный воин нашей армии, о чем говорит звание головореза номер один, уклонился от укола антисонином. Вы, главврач Миляга, поддержали Курнопая. Теперь вы подвергли программу бодрствования критике. На данном этапе развития самиец выносит режим бодрствования в шесть с лишним лет. Мое обобщение я доложу САМОМУ, предварительно обсудив его на Сержантитете и с лидерами фермерства. Вместе с тем это не отменяет упреков монаха милосердия в ваш адрес, подсудимый Миляга.
– Облыжное опосредствование в упреках. За ним вы приговорите меня либо к замурованию, либо к сожжению.
– К тому и другому. Сожжем, замуруем. Сексрелигиозное и уголовное следствие пока продолжается. Господин главврач, получая должность, вы подписали клятву быть самокритичным.
– Было.
– Проходя проверку на лояльность, вы были самокритичны. Почему на суде не каетесь?
– Сейчас. Проявил расчет прагматика, приспособленчество гражданина, трусливость медика.
– Сожалею, подсудимый Миляга. Вы подписали себе смертельный приговор. Ежели вы припомните, допрашивая вас, я давал вам шансы понять заблуждения и повиниться. В повинную голову автомат не стреляет.
– Не хочу. Жить без жены и детей, наведываться к любовнице, назначенной Сержантитетом, – к черту.
– Подсудимый, уясните хотя бы перед смертью… Похоть сожрет дух, сердце и экономику нации, ежели не вести ее железобетонной автострадой самоограничения и самопожертвования. У нас ведь никто не голодает, все заняты полезным трудом, выводится из кризиса генофонд нации. Мы столько воздвигли! Какая у нас производительность! Что вы думаете теперь, получив разъяснения?
– Сытость, занятость, производительность – не самые главные мерила жизни. Благородные, по вашим представлениям задачи, не есть не преступление.
– Что-что?
– Задачи оцениваются историческим результатом.
– Результат у нас поистине исторический.
– Ваш поистине исторический результат: разрушение семьи, половое гангстерство избранных мужчин и женщин, промышленное рабство рабочих и работниц, кощунство над религией, философией, культурой. Еще страшней то, что себе в угоду и усладу крохотный клан армейских авантюристов попирает бытие народа Самии, все лучшее в нем – жизнерадостность, бескорыстие, честность, трудолюбие, потребность в свободе воли, в народных праздниках…
– Стоп! – вскричал Болт Бух Грей, потом тихо, может быть, тише утреннего ветерка над штилевым океаном пролепетал в пространство: – Любимец САМОГО, мой персональный любимец, народный Курнопай, что, и ты думаешь столь отрицающим образом?
Курнопай, с презрением отнесшийся к показаниям монаха милосердия, невольно склонялся к бесстрашным рассуждениям Миляги, и все-таки он не был готов к вопросу Болт Бух Грея. Он по-прежнему находился под впечатлением согласия с вождем и ощущал его духовное превосходство.
– Мой разум, – робко промолвил Курнопай, – попал в тайфун.
– Отступник! – рявкнул монах милосердия.
– Оба, – печалясь, сказал Болт Бух Грей. – Преступники и отступники. Не простые преступники и отступники. Державной опасности! Приговариваю их к замурованию в пещере.
Болт Бух Грей соскользнул по носорожьему боку. Едва он приземлился, его, кто очутился перед Курнопаем на расстоянии удара ногой, стремительно заслонили танцовщицы. Курнопай, действительно, собирался нанести правителю вспарывающий удар ногой. Успел бы нанести, да перекрыла это намерение надежда: попросить у Болт Бух Грея встречи с Фэйхоа.
Привставая на цыпочки (негритянки были по-гвардейски рослые, сомкнули плечи), чтобы углядеть Болт Бух Грея, Курнопай так и не увидел его. В панике, – наверняка он пронырнул между выпуклостью земного шара и яростным брюхом носорога, – что Болт Бух Грей быстро окажется вне досягаемости его голоса, Курнопай хотел закричать, а почему-то заблеял, как баран, приготовленный к закланию:
– Фэ-эй-хоа… Глав-се-ерж… господин главсе-э-эрж…
Негритянки захихикали. Повеселение отразилось даже в их гипсовых белках. Нет, не хихиканье соблазнительно масленевших битумной кожей новоявленных жриц заставило Курнопая замолкнуть: внезапное ощущение безотзывности.
26
Убыл свет. Пригасили лампионы, над ними пушилось легкое сияние, такое возникает над океаном перед восходом луны. И лишь над нефритовой чашей осталось пламя. Теперь оно было алое, походило на петушиный гребень.
Темнота усилилась из-за того, что Курнопай оказался в охвате тройного кольца жриц. Шли неторопливо на клыкастое очертание скалистой горы. Негритянки болтали. Он не вникал в разговор. Прислушивался, ведут ли за ним Милягу. По шелесту босых ног, соприкасающихся с каменными плитами, определил, что ведут. Привыкший к бессонному многолюдью, он вдруг испугался одиночества, которому радовался в дни отдыха возле океана.
К болтовне жриц он не стал бы прислушиваться, – наловчился курсантом отсекатьсяот трепа, происходившего в казармах, – если бы в ней не было напоминания о родной телестудии, где бабушка Лемуриха точила лясы с женским персоналом, по-наркомански трепливым, импульсивным. Эти были тоже откровенны, только то, о чем и как они говорили, отталкивало грубятиной, пострашней курсантской. Курнопай испытывал перед их болтовней убийственную незащищенность. Ворсисто-мягкий, как новые фланелевые портянки, голосок главной жрицы сожалел, что у нее все еще живы четыре поколения предков; голосок лелеял надежду, что однажды предки предпримут морское путешествие на атомоходе и совместно пойдут ко дну, напоровшись на айсберг, и тогда из низкой касты музыканток она перейдет в заглавную касту монополисток, и заведет гарем мужчин, и будет его менять каждые полтора года. В среднем кольце шла высокая толстушка. Она проклинала мораль своей матери, которая вынудила ее забраться в эту страну непостижимых для иностранки джунглей национального запала и революционных преобразований. Было бы куда разумней делить с матерью страсть отчима, чем выталкивать ее по прихоти старозаветного эгоизма из демократической страны в хунтократическую.
Внутреннее кольцо, наверно, было подчинено шедшей прямо перед ним протобестии с плечами штангиста? Она щерилась, когда Болт Бух Грей вынес Курнопаю с Милягой приговор. Ее злорадство обидело Курнопая, и почему-то как вставились в его память ее выпученная верхняя челюсть и грозди иссиня-черных волос на лбу. Теперь она оборачивалась к нему; грозди волос плюхали об лоб, зубы выстилались навстречу, будто мины веерного миномета. Хищное удовольствие протобестии от сознания близкой его гибели становилось все алчней.
«Почему? – попытал он у себя. Ответ не приходил, как не приходит из глубины Филиппинской впадины отзвук сброшенного с корабля многотонного камня. Тут он вспомнил о САМОМ и направил мысль к мраморному сооружению, где, по словам бабушки Лемурихи, жил, не обозначаясь, великий САМ: «Надоумь. Хоть бы чем ее обидел…» Курнопай не уловил: то ли воспоследовал ответ САМОГО, то ли ему самому таким образом подумалось: «Мало ли что».
Да, конечно, мало ли что.
В другой раз на это не достаточно определенное умозаключение Курнопай отреагировал бы с досадой, сейчас оно показалось ему таким же вместилищным, как океанское ложе, а коль так – он отнес его к ответу САМОГО. И сразу чуть не задохнулся от радостного вывода: «И не требуется, чтобы ты кому-то что-то сделал или не сделал. Чаще всего судят о нас не за то, что у нихесть личные претензии к нам. Немотивированная подлость или жалость, ничем не подкрепленное недоброжелательство или возвеличивание и прочее, прочее – это ведь в природе людей».
Он остановил мысль, усомнясь в том, в состоянии ли на основе личного опыта размышлять весьма многозначно. Просто-напросто САМ, вероятно, обладает божественной способностью подменять своим миросознанием его миросознание, общее.
И хотя: он остановил раздумие, явилась неожиданная оценка тому, о чем он только что размышлял и что размышлялось ему посредством локации,производимой САМИМ. Оценка, помни́лось, возникла в его чувствах: то, что исходило от САМОГО, было полно всеотзывной мудрости, не требующей уточнений, а тому, что выдавалего мозг, не доставало убедительности, справедливости, во всяком случае, соображения, что САМ подменяет его и общее миросознание своим миросознанием.
«Отдели, – опять обратился он к САМОМУ, – твое от моего».
Отзыва не было, и Курнопай подумал о том, о чем спросил: «Мало ли что» – это он, остальное – я. Нас у него миллионы, не может он со всеми рассусоливать. Зато, пожалуй, в загадочные ответы закладывается заряд, доносящий мою собственную мысль до завершения».
Забывший о протобестии, Курнопай не успел пережить до отрадной внятности то, что сумел соотнестись с вечно таинственным САМИМ: гроздью волос смазала его по щеке, будто кистью винограда. В следующий миг она поддразнивающе осклабилась и сразу скользнула мысль: «Распутство зажирает порядочность». Опять не было ясности, лично ли он подумал или передалось от САМОГО.
«Огнемет бы, – помечталось. – Полыхнул, и от мусорниц один пепел».
Курнопаю хотелось сдержаться, и снова он обратился к САМОМУ: «Поведай, зачем допустил, чтобы женщина, хранительница рода человеческого, скромности, целомудрия, чтобы она еще девочкой становилась разложенкой без стыда и совести, исповедующей философию пакостниц? Не молчи. Нас у тебя миллионы, но я, если сохранюсь, поведу войну против растлителей, мракобесов, бандитов духа и слухачей-богачей. Зачем?»
Пробуя отсечься от спора танцовщиц, он готовил мозг для приема ЕГО ответа. Он не сумел отличить, собственный ли ум автоматически выдал ему штампованный парадокс «Чем хуже, тем лучше», – или САМ неоригинально ответил в расчете на то, что Курнопай поймет издевку над людьми, прикрывающими свою преступность или бессердечную беспомощность парадоксом, претендующим на мудрость, доступную лишь выдающимся политикам и острякам.
«ВЕЛИКИЙ, у меня был период длительного бездумья. Иносказание с ироническим кодом я не подниму. Прошу ответить без аллюзий».
«Вы – губители идей».
«Твои идеи не все кажутся здоровыми, необходимыми. Есть страшные идеи».
«Вам даешь супергениальные идеи, и те вы идиотизируете практикой. Страшных идей не даю. Даю идиотические, маразматические. А вдруг сработаете наоборот: идиотическое – в гениальное, маразматическое – в здоровое».
«А!»
«Догадка – не понимание, восторг – не доказательство».
«Погоди».
Канал для умственной связи в пространстве, воображенный Курнопаем, не принес отзыва. Лучом сознания он позондировал этот канал. Пустота.
Не совсем несчастливым ощущал себя Курнопай, невзирая на приговоренность к замурованию. Для него было страшно не то, что, оставленный в пещере без пищи (воды там, как слыхал, тоже нет, зато есть безотказный винопровод), он умрет через месяц-два, а то, что не сможет к своему пониманию приобщить отца, мать, бабушку Лемуриху. Фэйхоа и сама до всего дойдет собственным умом, но какая в том прискорбность, что он не сможет сообщиться с нею духовно, как только что сообщался с НИМ. На минуту он усомнился в телепатической проводимости горных пород, но вспомнился мраморный дворец САМОГО, куда проницалась его мысль, и отбросил сомнение.
Чувствуя, что его раздумие исчерпывается, он испугался того, что подключитсясейчас к сваре дьяволиц, и порыскал в уме, ища извлечение из духовного обмена с великим САМИМ. Извлечение обнаружилось. Прекрасно, подобно САМОМУ, пожить вне общества, занимаясь осознанием его.
Перегородка Курнопаевых дум истончалась. Противиться опасности возникнутьв ночи подле храма Любви, среди похотливого гвалта жриц, у Курнопая уже не доставало охоты, тем более что в душе вдруг, как трещина в земной коре, разветливалась тревога о Миляге.
Курнопай остановился и его чуть не сшибла протобестия. Позвал Милягу во всю мощь натренированной командным гарканьем глотки. Врач откликнулся где-то впереди, у перекрестка шлагбаумов, исполосованных, судя по жирному лоску, оранжевым и зеленым маслом. Перекрестье и цветосочетание были армейскими: нежить – места, убитые ядами, радиацией, бактериями, а также площадки, где огнем плазмотронов сжигались трупы животных и людей, пораженных чудовищными болезнями.
27
И не захотелось Курнопаю умирать, так не захотелось, что он едва не разрыдался. Жрицы замолкли перед зоной нежити.
Он твердил в училище, что опьянение от горя – враки, а теперь устыдился за курсантское высокомерие, для которого не существовало достойной народной мудрости. Именно здесь, перед нежитью, понял, несмотря на ужас сознания, что из-за лозунга «Отсчет истории начинается с революции сержантов» воспринимал прежнее бытие Самии, как бытие нежити.