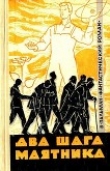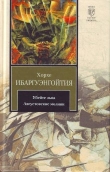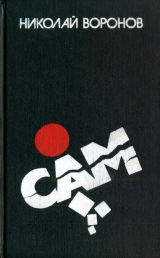
Текст книги "Сам"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)
Переживания последних дней и это заставили Курнопая выхватить из кобуры термонаган и приткнуть дулом к виску.
47
При жесткой настроенности против головореза номер один не мог предположить Ковылко, что исходом их встречи будет самоубийство сына. И все-таки он не оторопел, был готов к неожиданностям.
– Цыц! – вскрикнул он шепотом, чем и помешал Курнопаю нажать на спуск. Еще не поверив, что задержал выстрел, и боясь, как бы не спугнуть внимание сына, Ковылко прошептал:
– Нас же и обвинят…
Его шепот, повлиявший спасительно, возобновиллицо сына: была маска смертельного окостенения.
– Всех в расход пустят, – закрепил удачу Ковылко, не выказывая отчаяния, – единственный сын, и тому хана. Меня объявят злодеем хуже Хроноса. С богов, с них спрос маленький. Уничтожал своих детей – все одно ходил в богах. Я и не замахнусь – в преступники. Прости. Ты, поди-ка, и впрямь соскучился. Я-то уперся навроде муфлона.
Он троекратно поцеловал Курнопая, вялого, понуро опустившего термонаган и сожалевшего о том, что не удалось выстрелить.
Спасительна переменчивость человека. Не успел Ковылко унять дыхание после покаянных поцелуев, Курнопай уж казнил себя за эгоизм: забыл о Фэйхоа, Лемурихе, Каске. Отец с товарищами получил бы вышку,пережив судебный процесс, к которому с фальшивой патетикой приковали бы не только телезрителей Самии, но и всего глобуса. Даже Фэйхоа приняла бы смертельный приговор Ковылко как справедливый, однако Курнопая наверняка истребила бы из своей памяти. За жестокий индивидуализм. У мамы Каски есть новые дети, долго бы не печалилась. А вот для бабушки Лемурихи его уход отозвался бы неотступной кручиной. Нет, за преклонением перед Болт Бух Греем она быстро бы развеялась.
Курнопай повертел склоненной башкой, делая вид перед отцом, заодно перед самим собой, что окончательно отделывается от одури. В этот момент и подосадовал на собственное подсознание. Оно, когда подозревать о том не подозревал, захотело, чтоб он самоустранился от участия в событиях, обещавших трагические подлости, а также от будущих преобразований, чему навряд ли обойтись без вероломства, а ведь оно оборачивается крахом прежде всего для незащищенных душ.
– Сказал бы словечко про маму, – пробормотал Курнопай.
– Про маму? – как бы преодолевая сонливость, отозвался Ковылко. – Ей полегче. Ты, должно, запамятовал ее присловие: «Педали были, педали останутся»?
– Нет.
– Все идет как идет, и убиваться не надо.
– Короче, философия неизменности?
– У баб и девушек натура вроде того, из теплой смолы. Они из нее лепят, что заблагорассудится. Кто им приглянулся, к тому клеются, где надумают, там пришлепнутся. Гудрон с чем угодно вяжется. И они так могут: скальник – дак со скальником, гранит – дак с ним, габбро – дак с габбро. Природа сильна приспособлением. Женщина не меньше. Ты давеча мне: о главсерже, мол, неуважительно. Большинству мерещится – на верхушке пирамиды вольготно сидеть. Об римских цезарях читал… Некоторые завистуют: вот-де… Зря. Походы, битвы, на форумах грызлись почище тигров, сети плели противников заловить и ухлопать. Никто из цезарей, почитай, спокойного дня не прожил и редко кто своей смертью умер. Белье в стиральную машину сунешь. Там его верть-круть. Ихняя, цезарей, судьба навроде белья в стиральной машине. Но чистым оттулева никто не выходил, наоборот, в сплошной грязи и заразе. Дак почему об главсерже помянул? От неуважительности. К нему много неуважительности, не позавидуешь. Меня из пирамиды выверни, она покосится. Живенько обратно на место или другой блок туда втолкнут. С пирамиды свалишься или стряхнут, дак не больно взгромоздишься обратно. Неуважительности к женщинам у меня меньше. Вы счас, Болт и болтишки, за генофонд, считается, обеспокоились. У баб-девушек завсегда это в заботе. Отсюдова ихняя смоляная пластика. Одначе об них честные выводы нужно… Скве́рны тоже, пагубы, обмана… За роскошества и всяческие наслаждения-ублажения они скорее на что угодно идут.
– Отец, неужели ты превратился в женоненавистника?
– Не любую правду человек решается выставить на обзор другому человеку. Про обзор большинству – нечего говорить. Так-то. Наша мать обо мне забыла думать. Окромя Болт Бух Грея, для нее никто.
– Навет.
– Все тебе, сынок, наветы мстятся. Влюбилась. Трое детишек от него. Родней, чем я. Вот тебе и генофонд. До проклятой революции сержантов об этой штуке не слыхивал. И чтоб никогда не слышать. Революция? Что тогда контрреволюция?
– Вы давно с мамой встречались?
– Была свиданка полгода назад. Навроде ширмы посредь зала. Я с одного боку ширмы, она с другого. Лица друг друга видим – и все. Минут десять потолклись подле ширмы, мать ладошкой махнула: крой, мол, отсюдова. Я не ухожу. У ней в глазах бегство. Поговорить бы, наглядеться на нее, истосковался, спасу нет. Сердце из груди выворачивало. Пытка – не генофонд. Семьи разбили. Родители поврозь. Дети поодаль. Каску раз в месяц к сынкам допускают. Что там малышне без матери внушается, только САМОМУ известно. Производители выискались.
– Досада.
– Кабы досада – хорошо. Крах природного правила. Птицы и те парой живут, птенцов сами выводят, выкармливают, на крыло ставят, к перелетам готовят.
– Но, отец, не улучшать генофонд – крах Самии.
– Как, во имя чего, в каком роде? Ты видел среди зверей иль птиц калек? Здоровяки, красавицы… Выбраковка происходит без всякого вмешательства.
– Они, отец, не ведут войн, не работают на адских производствах, не пьют, не курят, наркотиками не колются, не развратничают, микробиологических опытов на них не ставят. Ты прав: как улучшать генофонд, ради чего, какими средствами? Практика генофонда сегодня вне доверия. Она для элитариев. Она, как горный кряж из шоколада, осуществляется во имя их обжорства эротического.
– Четко говоришь, сынок. Понимаешь, генофондисты-осеменители пьяными, почитай без исключения, зачинают ребятишек. Я что скажу? Генофонд хотите обогащать, дак здоровущих фермеров жените на прекрасных крестьянских девушках, рабочих – на работницах. Все слои народа должны продолжать свои линии в генофонде. И перекрестные, стало быть, браки. Генофондята вырастут, твои же, сказать, братишки, все в администраторы полезут. Кто сеять-жать будет, машины делать, агрегатами управлять? Индию ругают: касты, позор, пережиток феодализма або еще чего. А касты обеспечивают Индии лестницу быта и труда. Нет у них хозяйственной ступеньки, где бы не доставало работников. Токо опыт с генофондом – задача на столетия, на тыщи, поди-ка, лет. Живем-то уж миллионы лет.
– Четко говоришь, отец.
– Подтруниваешь?
– Хвалю.
– Ты не хвали. Нашему брату чихать на похвалу, как на детскую присыпку от пота. Болт Бух Греям нужно, чтоб их превозносили. Они балдеют от словословий, дак им и устраивайте… Ты помоги стране. Наши требования пусть удовлетворят.
Ковылко достал из кармана комбинезона свернутый вчетверо портрет главсержа. Оборотная сторона портрета была заполнена шарахающимися из стороны в сторону каракулями.
Пункт о незамедлительной отмене антисонина Курнопай прочел с восторгом, потому и вскинул над плечом кулак. Добавление к первому пункту Ковылко накропал карандашом (милая, конечно, отсебятина), оно вызвало у Курнопая ухмылку. Отец предлагал сохранить формулу антисонина на случай, ежели когда-нибудь космический корабль отправится в путешествие на прародину САМОГО. Чудны́ все-таки люди! Сколько лет неверие в САМОГО крутится в отцовом сознании, и внезапная приписка про неосуществимую скоро мечту.
Вторым требованием было возвращение к прежней рабочей смене – она не составляла больше трети суток на ядохимическом производстве. Опять же Ковылко приписал карандашом, что до ликвидации черных смогов смена не должна превышать шестой части суток.
Третий пункт воспринимался как извинение с привкусом мольбы: «Промежду нас совсем нету типов с корыстолюбивыми замашками, однако, сами посудите, господа державные сержанты, как трудяге ломить работу досшибачки без получек?» И тут отец не утерпел и добавил: «Покуда самийцы жили на подножном корму, у них был меняльный период. Завелись города – сразу деньги. Зря пишут, что они отпадут в обеспеченном обществе. На самом-то деле зажиточный человек держится за деньги цепче безработного, або трудяги с маленьким окладом».
Доказательство не пахло наукой, но Курнопай, которому втемяшивали в училище, что экономические отправления не зависят от психологии людей, согласился с отцом. Неожиданно для себя он решил, что все начинается с психологии, а также определяется ею, хотя хозяйственные структуры создают видимость о своем всесилии. Вдобавок он подумал о том, что если бы все определялось психологией народа, это было бы замечательно. Когда всему установитель одиночка или олигархия, тогда везде самовластие единицы или групповая психология. Прежде чем Курнопаю далась эта мысль, в его воображении промелькнули храм Солнца с чуть сутуловатым юношей, задравшим лицо к скульптурным картинам на песчанике (юноша – Черный Лебедь, будущий Главный Правитель), и затуманенно довольный Болт Бух Грей, сидящий на мужском символе из базальта, скрытом, как и две девчонки – Кива Ава Чел и Лисичка, под шелком знамени.
Взаимосвязь воображенных Курнопаем правителей невольно преобразовалась в сексрелигию. Будь кто-нибудь из них по-фермерски нравственным, продолжалась бы вековечная мораль, обусловленная строгими обычаями земледельческих народов и охотничьих племен. А закабаление промышленных рабочих, оно, наверно, возникло под воздействием мировых империй, тысячелетиями относящихся к народам, будто к преступникам, приговоренным к пожизненной каторге.
Кто-то притормозил движение его рассудка. Не ошибся. Притормозил в момент, когда он приближался к выводу, что горстка сержантов, с молодой ловкостью прикрываясь именем САМОГО, благими намерениями, наукой, изловчается притворничать еще искусней, чем закоренелые политиканы, потому и превратила народ в этаких сиамских близнецов, один из которых трудробот, другой сексробот.
Тому, чье вмешательство в мир его сознания он ощутил повторно, понадобилось это не столько для прикрытия Сержантитета, сколько для защиты Болт Бух Грея.
Курнопай смутился. Ему помнились и отречение от Болт Бух Грея, и интеллектуальная обольщенность, вызванная его державной и космической философичностью. Чтобы оправдаться перед совестью, Курнопай мысленно сказал: «Я нападаю на Бэ Бэ Гэ, не отвергая в нем деятеля и мыслителя. Здесь лишь в малой мере вина держправа. Здесь (мудрец этот Ганс Магмейстер!), пожалуй, террор аппарата.Правитель только ставит задачи. Подчиненный ему аппарат может быть ленивым, завистливым, подлым, умеющим их извращать и бойкотировать».
– Сынок, дополнения ты после обмозгуешь, – послышался нетерпеливый голос Ковылко. – Я вылез в руководители забастовкой. Поправки накалякал…
– Ты, отец, не оправдывайся. – У Курнопая создалось впечатление: не заговори Ковылко, ему бы, едва он выразил свое отношение к Болт Бух Грею, что, несомненно, было воспринято,открылось, кто затормозил движение рассудка.
– Сынок, читай пункт о семье и браке.
Напоминания не раздражали Курнопая. Тревожится Ковылко, как бы головорез номер один не переменился. Невзирая на желание успокоить отца, стремился осуществить свою пытливость, вот и спросил САМОГО, не ОН ли пооберег Болт Бух Грея от неприятия им, Курнопаем, его благотворных устремлений. И когда эфир, куда, видя вдали то мраморное здание, Курнопай излучил свой вопрос, промолчал,да еще и со значением недовольства, лишь тогда он прочел последний пункт, где содержались те же мысли, до которых он дошел самостоятельно: восстановить семьи, отменить запрет на браки. К этому пункту отец тоже сделал добавление. Хотя носило оно личный характер, тем не менее Курнопай воспринял его как общее и свое собственное: «Труд, генофонд, материальный достаток – все эти вещи стоят беспокойства нашего народа. Но если есть о чем больше всего страдать – о порушенной возможности у людей жить парой, любить, рожать, растить ребятишек, храня друг другу верность. Без любви, семьи, верности не может быть родины, продуктов труда, праздников, сержантитета».
48
Все равно Курнопай одобрил бы петицию, но без последней приписки он не вдохновился бы для разговора с Болт Бух Греем до убежденности, отбрасывающей сомнения.
Нажатие клавиша высочайшей связи, и Болт Бух Грей отозвался:
– Верховный слушает.
Тон похоронный, трескучий, словно гортань полопалась, как пойменная глина Огомы в период лютого жара. По всей вероятности, возможен переворот, ежели события отворятся реками крови?
– Учитель, докладывает персональный любимец, внук Лему…
Он осекся из-за обращения «учитель».
– Продолжайте. САМ ждет вашей информации.
– САМ?
– Чему удивляться? САМ относит вас к опорным офицерам армии. Нужна достоверная информация. Я уже уличил во лжи на грани предательства двух генералов. Вслепую руководить нельзя. Часть подразделений, на преданность коих полагался, перешла на сторону забастовщиков. Адъютант Пяткоскуло просил полк, дабы покончить с вами, Курнопа-Курнопай, и с впавшим в крамолу Чернозубом. Любимец САМОГО, страна перед опасностью развала. Не допустите гражданской войны. За неделю нас скушают соседи. Разведка донесла: на уровне министров иностранных дел соседи произвели раздел Самии на пять кусков.
– Подавятся.
– Рад слышать.
– Главсерж, есть здравый ход.
– Спасай державу, головорез номер один. Я поверил в твою политическую хватку, когда ты помешал спалить деревню племени быху. Ты предотвратил мировой скандал. Мое имя теперь в числе наигуманных имен земшара.
– Сегодня перед папой я почувствовал себя пацаном… Учитель, мы должны принять условия забастовщиков.
– Условия, чья суть – измена революции сержантов?
– Не зря ж, эх, я саданул Пяткоскуло в пах! Полагаться на меня – значит забыть донос карьериста. Верховный, я привожу заключительную часть условий, нацарапанных Чернозубом: «Без любви, семьи, верности не может быть родины, продуктов труда, праздников, сержантитета».
– Аргументы?
– Хомо сапиенс существуют три миллиона лет. Семейные кланы и семья не меньше миллиона. Гены!
– Убеждает.
– Антисониновый предел совпадает с пределом бессемейности.
– Биоритм – гениальное открытие трудяг.
– Нет – иронии. Да здравствует полный серьез.
– У Сержантитета серьеза полные штаны. Хо-хох. Ориентируясь на характер твоего поведения, я решил, что следует отменить антисонин. Еще аргументы?
– Уступка создаст равновесие между верхами и рабочим классом, иначе крушение, потому что смолоцианщики решили умереть.
– Не рано ли торжествуешь, Курнопа-Курнопай? Неизбежны консультации с владельцами монополий, с профессурой экономических факультетов, социологами, экологами… По науке…
– По науке без науки.
– Непочтительный каламбур. Необходим аргумент, опирающийся на учение САМОГО.
– Все невежественное – научно, все научное – невежественно.
– Г-хым… Восхищен! Научное, изживая себя, становится невежественным. Что отрицалось как невежественное, становится научным. Вы были облечены САМИМ, Курнопа-Курнопай. Подтверждаю непререкаемую свободу действий. Минутку. Конечная инстанциядает о себе знать. Возьмет и не даст согласия. Попробую склонить.
Надежда то мерцала в глазах Ковылко, то исчезала за скорбной дымкой. Желание утешить его за ожидание, прежнее и нынешнее, заметалось в сердце Курнопая, едва главсерж приостановил их разговор. Курнопай терпел и пробовал настроить себя на горестный исход. Он не забыл, хотя антисониновая замуть катилась по каналам памяти, о мыслях, по которым выходило, что САМ бывает равнодушным, отстраненным, а в чем-то и безумным.
– Генерал-капитан, – раскатом грома пролетело в шлемофоне, – счастливчики мы с тобой. Наш план получил одобрение САМОГО. Сумей осуществить. Я положился на тебя. В последующем, будь любезен, положиться на Учителя.
– Клянусь полагаться на Учителя, господин главсерж!
49
Радуясь, Ковылко с Курнопаем начали так подпрыгивать и обниматься, как футболисты, только что забившие гол. Уверенность в том, что еще никто в циркене знает о случившемся, увеличивала их торжество. Каким восторгом охватит души рабочих, когда они, отец и сын, объявят о победе забастовки! Будут скакать на кроватях, как на батутах. Ой, кабы кто-нибудь не свалился вниз, на базальтовые конусы. В день-то раскрепощения, в день возвращения надежд – и смерть. Что страшней, полопаются тросы, рухнет купол.
Почти готовые к гибели всего цирка,они перестали прыгать, соткнулись лбами, заплакали. Однако мгновение спустя они очутились среди ликования и выкриков: «Победа!», «Проклятье рабству!», «К женам и детям!», «Долой черные туманы!», «Концу света не наступить!», «Воля!»
Курнопай взял на изготовку мегафон, чтобы предотвратить общую смерть. И замер, зачарованный. Пространство меж куполом и кроватями было заполнено людьми, точно поднебесье птицами. Они парили, разбросив руки, управляя лапами и пальцами ног, будто хвостовым оперением. Какой-то старик, подбородок колом, ухо раструбом, голенький, в ботинках носорожьей кожи, почему-то зашнурованных, катался по воздуху бревном, как по траве. Три русых парня отбивали чечетку на гладильной доске; один из них воспроизводил кастаньетами дробь каблуков. Для танца, требующего лаковых туфель, брюк со «стрелками», накрахмаленных манишек, темных жилетов и фраков, босые лапы и клетчатые трусы до нелепости не подходили, и все-таки наблюдать за ними было приятно. Клиенты бионических девиц плыли на спинах под куполом, дрыгались, натягивая на себя одежду. Недоумевающие девицы просили их вернуться. Плановое время не использовали, газировкой не угостили. Девицы стояли на подоконнике, но последовать за клиентами не решались. Кореянка попрядала пальчиками в воздухе, пробуя его на ощупь, но уплотнения в нем не ощутила. Она встревожилась от предположения: если трудягам вернут жен, то наступит безработица. Галдели. Ее столкнули с подоконника в зал. Ничего подобного. Жены не владеют приемами «Кама-Сутры».
Жестом пренебрежения Ковылко хлопнул сына по затылку.
– Слишком много чести… Ты на братьев по классу гляди. Запоминай, какое счастье приносит милосердие. Школили-муштровали в училище, ан не выщелочили из сердца кровной среды.
Неохотно Курнопай отвлекся от наблюдения за девицами.
Ковылко подосадовал на себя: «Дряхлый дед я, что ли? Парнем-то я в джунглях, где, кроме моего отца, и человеками не пахло, и то все девок искал. Эх, возраст…»
– Ты извини, отец. В училище заедало однообразие. У нас этогоне было. Чудо в этом есть. Прямо живые существа!
– Первая примерка, сынок. Настоящие куда милей. Корень смысла какой? Пол своего требует. Но работа-то без сна выцеживала из нас силы до основания. Ну, иногда что-то там затерпыхается… Их и понаделали на каждый завод, в исследовательские институты, клеркам банков и торговых фирм… Расход на девицу махонький – в сутки порция мороженого и стакан газировки. «Экономика на службе рабства» – вот как мы про это смекаем. Так что не приходи в раж. Это дело, с какой стороны ни глянь, издевательство. Знаю, у тебя-то по молодости терпежу вприбав к беззаботности хоть отбавляй.
– Чистый мой Ковылко, ты прав. Неосведомленность оборачивается кощунством. Ты сказал: школили-муштровали меня, но любви к родной среде не истребили. Да не знал я нашу среду. Моей средой были мальчишки, бабушка Лемуриха, вы с мамой и телестудия. Если что доброе во мне и отложилось, оно из ваших с мамой печалей, когда вы приходили из бара, и ты настырничал в разговоре с бабушкой да с барменом.
– Во-во!
– Не в среде суть. В отложениях чувств. Ты правильно сказал о сострадании. Чувства главней. С изменением среды чувства не отпали.
– Ага. Э, не упустить бы! Ты молодчина, сынок. У тебя нету наслаждения от власти. Ты нас от смерти отвел. Удовольствие! Да еще какое! Круг этого редко у кого не летала бы душа. Твоя – нет. Горжусь тобой. Они вон бесятся навроде медвежат. Думают, само собой далось. Кабы не ты…
– Полноте, отец.
– Ты рот мне не затворяй. Не подчиненный тебе. Я должен известить товарищей.
– Ни в коем случае.
Ковылко не послушался Курнопая. По-ораторски громогласно он объявил, что ни одно из условий смолоцианщиков правительство не отклонило, благодаря его родному сыну генерал-капитану спецвойск.
Гудроново-темными губами отец похватал воздух, как раньше хватал снег с веток бразильских сосен в горах, запалясь от ходьбы, но ему не хватило дыхания, и он провопил, давая петуха:
– Сы-ла-ааа-ва дырр-ругу народа питоммм-ц-ху САМОГО нашему К’хур… Курнопаю!
В училищные годы курсанты славили Курнопая на каждом утреннем рапорте. Муторно ему было от храпа танков, прущих бездорожьем. Но куда муторней бывало ему от рявканья: «Да здравствует головорез номер один!» – где «эр» скрежетало, дробилось, растиралось в прах.
Теперь он испытывал другое: стыд и щемящую неприязнь. Столько лет прожито отцом в отторгнутости от вольной волюшки, а он вдруг орет славу тому, кто чудом удержал себя и полк от расправы. Всегда была в отце мера достоинства. Тут он сам, Курнопай, виноват. Сказал бы, ведь безграничны полномочия, что они, подобно труженикам всей державы, совершили рабочий подвиг. Собственно, и сейчас не поздно.
И Курнопай сказал. Только видимость славы в том, что он сумел убедить главсержа прийти к соглашению с забастовщиками. На самом деле его поступок, как и оказанная ему Болт Бух Греем поддержка, обговоренная с великим САМИМ, есть всего лишь легкое искупление за самопожертвование смолоцианщиков.
Сказал и поклонился рабочим от имени державы, да прибавил еще, чтоб они глубоко осознали себя, что произнесенную им правду подтверждает воздух: когда б не были они праведниками, он бы не держал их, как земля.
И смолоцианщики, до сих пор не отдававшие себе отчета в том, почему держатся в воздухе удобней, чем астронавты в космосе, прониклись собственной святостью и попросили Курнопая отпустить их домой хотя бы на денек. Он понял, что понимание дается людям в тяжелых муках (как маялся недавно сам, чтобы додуматься до простых выводов) и дал им отпуск на месяц.
50
Завод Каски, как и завод отца, вынесли далеко за пристоличные городки. Приказав полку возвратиться на место постоянного расположения и прихватив Ковылко, Курнопай отправился за матерью на вертолете главного администратора смолоцианщиков. Главадма, арестованного забастовщиками вместе с членами правления, заперли в зале свиданий. Поскольку главадм и не принял требований рабочих, и отклонил просьбу их делегации связаться по телефону с министр-сержантом, руководящим промышленностью («Лажа. Ничего не достигнуть. Необратимость. Вас отстреляют, как леопардов, отведавших человечины»), Ковылко хотелось усовестить его примером сына. Но Курнопай отложил встречу с ним, чтобы повидать мать с братьями и отвезти их домой. Для присмотра за главадмом и членами правления он оставил втоиповцев, тоже арестованных забастовщиками.
Каска опечалила сына. Еще не ответив на его приветствие и не прекращая работы, она сказала, чтобы Чернозуб не смел показываться ей на глаза. Отец склонил голову к плечу – грусть, недоумение, покладистость. Педали под ее ногами ходили плавно. Тело маячило над поручнями. Валкость и устремленность велосипедистки. Манипулятор опрокидывал на конвейер каски. Они уплывали, качаясь, как спасательные посудины летчиков, потерпевших аварию над океаном.
Курнопай отыскал в себе мальчишескую повадку: прищемил мочку уха пальцами, с беззаботным удивлением расширил глаза.
– Что стряслось, ма?
– Не подлаживайся.
Огрызнулась не на кого-нибудь, кто долго отсутствовал, а на сына, это было оскорблением для Курнопая.
– Не виделись ведь с незапамятных времен.
– Чернозубу лучше убраться подальше от греха.
Той поры, когда Каска бывала строптивой, Курнопай не мог помнить. Она выходила замуж за Ковылко с унизительным сопротивлением, дескать ты получишь все, что нужно, но сперва нагуляйся, потом завязывайголову. С помощью Лемурихи он уговорил Каску к замужеству. Обманом он зачал ей ребенка. Как она ругала его за простую оговорку, как нападала за маломальскую оплошность в приготовлении еды: сама на кухню не заходила – тошнило от запахов, от вида кастрюль и газовой плитки, как била по спине сумочкой на улицах, в подземке, в кинотеатре, если ей перечил… Рождение Курнопая (чуть не умерла, думала наказание от САМОГО) словно бы подменило ее. Благодарила Ковылко за обман, была с ним ласкова, нежила сына, хозяйничала по дому с желанием, даже Ганс Магмейстер, дававший тогда иллюзионистские сеансы в баре, не внушил бы ей такого рвения.
Ведо́мый сыновней тоской, не укрощенной и уколом «Большого барьерного рифа», Курнопай не допускал, что не уймет Каскиной ненависти к отцу. Столь полярной перемены не допускало в женщине домовитого типа душеведение Ганса Магмейстера. В подобных случаях он предлагал воздействовать не укоротом, а вкрадчивой, для блезиру покорной настоятельностью.
– Пусть останется на чуть-чуть, ма.
– Остаться на чуть-чуть… – Она умеряла себя. Сын явно пресек ее нравность, не желавшую скатываться к неприличию. – Ты знаешь, кто с кем оставался на чуть-чуть до введения сексрелигии?
– Откуда мне знать?
– Взрослый стал.
– В чем взрослый, в чем и младенец.
– Я про Чернозуба. Думаешь, мне не известно, какую он пилюлю преподнес державе. Подрыватель сержантского строя хуже предателя. Полез в политики, в вожди. Не с его выставкой. Никто за ним не потянется. Из-за зубов одних отвернутся.
– Не отвернулись.
– Тебе откуда известно?
– Я только что был на смолоцианистом.
– На поруки выпросил смутьяна?
– Не потребовалось.
– Зря взял на поруки. Воспользовался отношением Болт Бух Грея. Чернозуб подвел себя под термонаган. При Главправе от него и пепла бы не осталось. За пять лет почти все перевоспитались. Чернозуб как па́стился на Главправа, так па́стится на главсержа. Все условия: трудись ради Самии.
– Спешишь, ма?
– Четыреста касок надо додавить.
– Ну их. Из-за твоего пророчества: «Каски были, каски останутся», – Самия только и способна быть страной отчаяния.
– Ты стакнулся с ним? Изменил САМОМУ, главсержу, присяге?
– Стакнулся.
– Бунтовщики, изменники, прочь!
– Стакнулся со всеми: с папой, с Болт Бух Греем, с великим САМИМ.
– Тебе отец дороже…
– Мужская солидарность, ма. По этой же самой причине мы возьмем тебя на содержание. Детям будешь отдавать душу.
– Ими без меня занимаются.
– И плохо. У меня души бы не было без папы, без тебя, без бабушки Лемурихи.
– Что там душа? Труд – моя родина, мораль, судьба. Без детей можно обойтись. Ты был – и достаточно. Уматывайте. Еще четыреста касок.
– Будь прокляты они, ма.
– Не проклинай. На валюту идут. Самим пригодятся.
– Хочу повидать братьев, ма.
– Курнопа, ты отступник. Ладно, ты наведайся к братьям. Чернозуба к ним не подпускай.
Ковылко переминался с пятки на пятку. Сожаление в его глазах сменила оскорбленность.
– Зачем не подпускать?
– Теперь раскрылось! – закричала Каска. – Ненависть заставила Чернозуба поднять бунт. Свел счеты с главсержем. Все равно САМ не позволит затронуть моего Болт Бух Грея. Люблю.
Мчалась Каска в гору бешеней самых выносливых гонщиков. И стремилось в будущее ее клиновидное от немыслимой истомы лицо.
Брели между штампами поникло. Никуда бы лучше не идти: рухнуть и умереть. Скорбно качал смоляной головой Ковылко. Плакал головорез номер один к удивлению штамповщиц, они считали его бессердечным.
51
К детскому дворцу шли стеклянной галереей. Арками изгибались от стены к стене лиловые глицинии. За исключением дней, когда находились в джунглях на термитных стрельбах, Курнопай не видел не то что цветов – травки. Теоретики воинского воспитания рекомендовали истреблять на территориях училищ любую растительность, вплоть до мхов. Считалось, что она, пробуждая в курсантах лирические эмоции, вместо цементирования характера разжижает его.
Хотя больше полумесяца провел на побережье, тоска о природе саднила в сердце. Грозди, родниковый аромат глициний сбилипотерянность Курнопая. Он бросился к цветопаду. Сунуть в цветопад лицо, надышаться до забвения. Перед этим мигом он вдруг подумал: «К чему надежды, если распад материнства?»
Собственное несовершенство человека, точно крик в каньоне, почти всегда пробуждает эхо. Несовершенство отзывается в нем завистью, обидой на себя, ущемленностью, унижением, поиском ложного оправдания, местью.
Ковылко был полон гордости за сына, достигшего бескровным путем принятия требований смолоцианщиков, захотелось и ему внушить Курнопаю, что отец у него тоже не лыком шит.
В начале антисонинового периода, когда завод перенесли на загородную площадку и понастроили вокруг новые цеха для видоизменения производственных результатов, нагрянул к ним держправ Болт Бух Грей.
Пока завод готовили к пуску, Чернозуб обучался в профессиональном центре на машиниста двересъемной машины. Его определили на коксовую батарею. Через неделю он, снявший узкую и высокую печную дверь и установивший вертикальную в дырочках ванну,через которую коксовыталкиватель выдавливает свежеиспеченный пирог,увидел четверку военных в больших чинах. Смогов не было, еще дозволялось включать пылесосы, газоулавливатели, разгонную вентиляцию. День народился солнечный, и все державные начальники шли ослепительно парадные.
По знаменитым рогам,лоснившимся с задором, он узнал Болт Бух Грея. Случалось, что верхние коксины пирога, ало-красные, окутанные пухово-голубым огнем, переваливались через край ванныи, сухо звеня, падали на рельсы, чугун шпал, железобетон фундамента. Чтобы не обожгло кого-нибудь из сержантов, Чернозуб метнулся им навстречу:
– Назад! Сгорите!
Они спокойно встали, кроме помощника держправа и телохранителя. Эти поваживали головами, как королевские кобры перед наскоком на врага.
Болт Бух Грей козырнул. Чернозуб снял шляпу, катанную из шерсти ламы, и поклонился. Вспоминая о поклоне, он страдал после от стыда, жмурясь покаянно и мыча так протяжно, будто звук мучительности исходил из самой глубины чрева.
– Вы достославный Чернозуб, чей сын головорез номер один Курнопай? – осведомился Болт Бух Грей.
Не вежливость ощутил за вопросом Чернозуб – расположение. Не показывая виду, что растрогался от интереса правителя, который возлюбил Курнопу, он утвердительно приспустил веки.
– Мечтал о знакомстве, гражданин Чернозуб. Наслышан о ваших достоинствах.
– Какие там достоинства?
– Не будем дебатировать. О ваших доблестях в труде, да умилит вас информация, я довел до великого САМОГО.
– Ха… Но, ну, не.
– Человеку моего положения необходимо верить.
– Я? Вам? Не.
– Курьез.
– Себе не всегда верю.
– Парадокс мною осмыслен. Весьма локален охват дел, зыбко самосознание личности. Ответственность гражданина сводится к ответственности за собственное «я». Мои дела – вся страна, моя ответственность за «я» самийского народа.