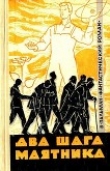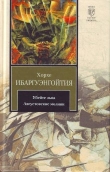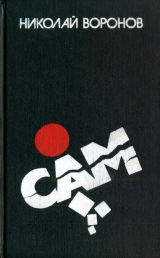
Текст книги "Сам"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
– Так-то оно так…
– Наслышан о вашей самовитости. Генерал-капитан Курнопай тоже строптив. Ваш ориентир – индивидуальное воззрение, то бишь субъективное. Учет всеобщих забот основан на объективности воззрений. Почему я глава народа Самии, державы, армии, религии, партии фермеров? Я сообразую персональное «я» с жизнью отечества и каждого индивидуума.
– Коли б так…
– Вы сомневаетесь, гражданин Чернозуб?
– Вы признали меня самовитым. Отсюдова мне-то без сумления ни в коем разе…
– Строптивцу, дабы он проникся мерилом объективности, присущей верховному вождю, необходимо пересадить «я».
– И мое «я» всех берет в учет.
– Ежели бы вам пересадить «я» Главного Правителя накануне самоубийства, тогда бы вы уяснили, каково «я» всеобщее. И не сомневались бы во мне.
– Плохо, что ль?
– Прекрасно.
– Откудова недовольство?
– Оттудова, в чьей системе моего влияния на Самию вы пока не разобрались.
– Подумакиваю… – промолвил Чернозуб, прикидывая, вылепить или не вылепить то, что просилось на язык, и вылепил, потому что помощник главсержа слишком старался делать страшно своими ловкими цвета жженого кофе глазами. – Подумакиваю… Самия пляшет под вашу сержантскую дудку.
Властителю ничего не стоило отобрать у Ковылко свободу, дом, семью, а теперь свести его и «я» сына к жизни, закупоренной в личных заботах, потому он и подкусил его, однако Болт Бух Грей польщенно рассмеялся и сказал, что может гордиться собой, поскольку власть в обществе осуществляется двуедино: народ в общих целях воздействует на правителя, правитель – на преданный ему народ.
– По-вашему получается, вы стоите на одной доске с народом? Вы даже навроде поглавней?
– Любопытный поворот. Ответьте, господин независимейший Чернозуб, сопоставимы ли Наполеон и народ?
– Не.
– Молодцом. Те, кем повелевал Наполеон, испарились. Наполеон был и есть. Он олицетворяет тот самый народ, который испарился. Народ остался бы безымянным, не влейся он многомиллионной массой в имя Наполеона. Пока я не съездил в Париж и не посетил Дом инвалидов, я не понимал причин культа Наполеона. Прах Наполеона чрезвычайнейше оберегаем! Он, по-моему, в восьми гробах, два из них цинковые, девятый – саркофаг из красного порфира. Для Франции лишиться праха величайшего императора текущего тысячелетия – лишиться национального значения на земшаре.
Изящный помощник с величественной печалью слушал Болт Бух Грея. Едва главсерж замолк, помощник сурово погрозил пальцем Чернозубу.
«Ты-то, стервец, помолчи», – про себя огрызнулся ему Чернозуб.
Ненатуральными казались Ковылко до смехотворности и Болт Бух Грей, и помощник, и главный втоиповец Бульдозер, явно испытывавший сладость от его дерзостей, но в то же самое время пугавшийся их, и телохранитель, державший ладонь на миниатюрном автомате. Чтобы поддразнить их, он решил отлить пулю погорячей:
– Д’боятся французы, кабы Наполеон не вылез, д’не втравил их в новый разор и позор. Зачем бы замуровывать во столько гробов? Пробовал, видать, вылезть. После каждой попытки вылезть они и нахлобучивали новый гроб на неугомонного Бонапартишку.
Болт Бух Грей частил по-девичьи плотными ресницами. Или был обескуражен вывертом строптивого машиниста, или не находил, как выкрутиться из разговора. Вдруг он воодушевился лицом, правда, в перекосе сверкающих плеч продолжало ощущаться смятение:
– За что почитаю оригиналов, так это за неожиданные ракурсы в суждениях. С оригиналами умом не расслабишься.
Завосклицали помощник, Бульдозер, телохранитель, соглашаясь с Болт Бух Греем и косясь на Чернозуба, кто бочком уже двигался к двересъемной машине. Коксовый пирог, пылая, с сухим звоном пролетел через ванну – скоро закрывать печь.
Простонародье скромно от природы. В прямом смысле от природы. Скромны прерии, реки, хребты. Гордыню им присвоил человек. Но лишь тогда оно тщеславно, когда ему довелось общнутьсяс кем-нибудь из сановников, родовитой знати, плантаторов, финансовых королей, кинозвезд, знаменитых марафонцев, дизайнеров, телекомментаторов… Не обойдется тут без хвастовства, даже без кичливости и привирания.
Ковылко был польщен. Сподобилось поговорить с вездесущим повелителем! Да что поговорить – поспорить, вплоть до того, что всевластный подрастерялся от его выбрыка.И зачем, в самом деле, нахваливать Наполеона? Горше нет, если страна или отдельный человек поставлены в зависимость от воли единицы. Тьму-тьмущую парней и семейных мужиков забирал в солдаты. Хочешь возделывать сад, камень тесать, ткать сукна або ладить качели для младенцев, торговать конями, строить корабли, рисовать картины, в науки вникать, чтоб и себе там чего-то придумать, нет, кукиш с перцем. Давай в казармы. Подготовка, там и на войну. Убили. Наполеон не родил, не ро́стил – и взял распорядился твоей судьбой. И не задумался, имел ли право. Народ, вишь, испарился, он – нет. Из девяти гробов не испаришься. Бедные мы, бессильные. Кто ни проберется на верхний стул, тот и помыкает нами, как ураган пчелой. Тем и крепят право на бесправие народа перед наполеошками. Хитер ты, франтишка Болт Бух Грей, да он, Ковылко, не сплоховал и ловко подсадил тебя. Может, в черном мраке твоей башки начнет светать?
Думая, Ковылко щерился. Помощник не утерпел и сказанул держправу об удовольствии, которое доставила беседа папаше Курнопая: расскажет внукам, попросит передать далеким потомкам.
Здесь и случилось событие, которым перед сыном хотел Ковылко самоутвердиться. К нему, отъехавшему на двересъемной машине, еще палящей от коксового накала, подошел правитель и осведомился, почему в невидимые зазоры меж дверями и рамами печей сочится желтый дым.
Ковылко уже изжил минутное тщеславие и сердился, что поддался вредной заморочи.
– Газуют печи, – жестко отозвался и встал к Болт Бух Грею спиной, мол, недосуг болтать.
– Так надо?
– Так ли, сяк ли… – буркнул Ковылко.
– Поопределенней.
Вежлив Болт Бух Грей без нажима на верховность своего положения.
– Необходимо зачеканивать зазоры. Не успеваю, потому и газуют печи. Мой помощник заболел. Дали бы персонального.
– Зачеканка с какой целью?
– Герметичность обеспечивает самолучшее качество кокса.
– Герметичность?
– Ага.
– Из которой пирог вытолкнули – газовала?
– Куда ей деваться?
– Кокс годный получился?
– Сойдет.
– Не надо переживать за негерметизм?
– Вы про совесть?
– Совесть, господин Чернозуб, поверяется обстоятельствами. Сойдет, так надо ее выжигать.
52
Ковылко передохнул, прежде чем закруглить разговор в галерее дворца младенцев.
– Закон-то герметизма, сынок, Болт Бух Грей взял из моих слов.
Вон к чему вел отец. Смешнуля. Умен Болт Бух Грей, потому и додумался до закона герметизма.
Пожалковал про себя Курнопай о претензии родителя, тем не менее слукавил, заметив, что взятокиз числа полезных. У отца бы идея герметизма пропала, у вождя с колес осуществляется.
Здесь-то и ждал Курнопая подвох. Отец возмутился его легкодумностью. Душегубно применил герметизм Болт Бух Грей: на пять лет как замуровал народ. Самолучшая польза, и трудяге ясно, в сочетании герметичности с обеспечением разгерметизации. В пустую печь засыпают угольную шихту, загерметизируют ее, созрел коксовый пирог – выдадут его, благодаря разгерметизации. Чередование замуровки с размуровкой – и есть жизненное существование. Взять нашу планету. Вулканы выбрасывали из себя всякие вещества, чтоб создалась земная кора со всем необходимым для существования – с почвой, водой, камнем, металлами. И атмосферу надышали вулканы. Д’если б Земля все время была как запаянная, откуда б взяться облакам, океанам, горам, животным?
Подтрунил Курнопай над доказательствами отца. Теперь он знает, кто действительный виновник длительной антисониновой загерметизации.
Отец не стал отнекиваться: ненароком подал Болт Бух Грею однобокую мысль, с тем внушил и то, что сходный кокс можно выпекать при газующих печах, из-за чего отчасти и доработались до непроглядных смоговых заглушек.
Курнопай с отцом пошли дальше по галерее. Они обнаружили уютные, ловко замаскированные беседки, предназначенные, судя по инициалам, для свиданий членов Сержантитета. Не остановились. Их подгоняла тревога.
Возле турникетов из нержавейки, за которыми находились бронированные ворота – они не распахивались, а раскатывались, – обеспокоенно шушукаясь, толклись маршалессы из войск охраны детей-генофондистов. Все беременные, но ладно затянутые. Подбирались они, как манекенщицы, по трем статям (перекличка с курсом на три Бэ): длинноногость, талия в обхват мужских ладоней, высокая грудь. Неоглашаемой внешней нормой для охранниц детей-генофондистов были иссиня-темные мерцающие волосы и греческий профиль. Сексологи-эстетики, основываясь на опросах образцовых производителей, относили эти цвет и профиль к супервозбудительным.
Едва Курнопай с отцом появились из-за навеса глициний, переплетшихся с обвойником, маршалессы страстно зашептали: «Головорез номер один!» – за-встряхивали головами, заповорачивались на каблучках, демонстрируя профили, выпуклости, овалы. Метания, порхающий блеск волос довели возникшую в сыне и отце вожделенность до завораживающей неприкаянности. Оба остановились, позабыв о том, кто они и куда шли, томительно запотягивались к красавицам, целуя и оглаживая воздух.
Чувственное беспамятство не помешало Курнопаю заметить внезапную перемену в поведении маршалесс. Они, точно бы намагничиваясь от его ладоней, подвигались к нему с накаляющимся расположением и плавнеющими жестами и вдруг начали отдаляться, мельком поглядывая не туда, где за турникетами находились дети-генофондисты, а вправо и влево от турникетов, где сквозь прозрачную броню дверей виднелась колонна женщин, одетых в ситцевые комбинезоны.
Женщина, успевшая быстрей других маршалесс приблизиться к Курнопаю и отдалявшаяся от него медленнее их (зеленые глаза, как вытянутые виноградины, просвеченные солнцем, крестовый кинжал, черненая рукоятка уютно приладилась в междугрудье), выскочила стремглав наружу; возвратясь, от потрясения не могла говорить и только выбрасывала по направлению к женской колонне руки, они напоминали ветки, трепещущие на ветру.
Курнопай было пошел туда, но маршалесса догнала его с опасливой оглядкой:
– Спрячем вас. Не поручусь… Следуйте за мной.
– Д’что стряслось? – спросил ее взволнованный Ковылко; его щеки обескровились до желтины сернистого газа.
– Демонстрация. Каска и ее сын Огомий несут плакат: «Смерть предателям державы Курнопаю и Чернозубу».
– Плакат? Когда успела? – тоже взволновался Курнопай.
– Клянусь смертью, – промолвила женщина и схватилась за черненькую рукоятку с готовностью вонзить кинжал в собственное сердце.
Остервенелым отчаянием зажегся взгляд Курнопая, лишь только охранница сказала о том, какой плакат несут Каска и Огомий. Это насторожило Ковылко: «Злодея воспитывали… Чего-чего ни внушали… Кабы не сорвался. Ребенка еще стопчет не хуже танка».
И Ковылко приготовился схватить сына; если поймет, что не совладает с ним, позовет на помощь охранниц. Но не потребовалось удерживать Курнопая. Благородство женщины, странное для нынешней армейки, обычно куда более ретиво-жесткой при исполнении служебных обязанностей, обернулось в сыне признательностью:
– У вас рыцарская душа, маршалесса. Пусть растерзают нас. Ага, папа?
– Верно, сын, – согласился Ковылко и покаялся: «Ловко он меня купил. Да ведь сын. На мою сторону перешел. Чего там… Теперь нам никуда друг от друга».
Едва они выбежали через бронедверь, манифестация остановилась. Почти одновременно работницы забормотали:
– Головорез номер один!
Словно бы слухом постороннего человека, он выделил в их бормотании изумленное неверие, обожающий восторг, любовную оторопелость. Пробились к его слуху и еле уловимые неодобрительные шепотки. Прежде чем заметил мать, Огомия, двух братьев поменьше, чьих имен не знал, досадливо подумал о том, что и тут замечают лишь главное лицо. Еще в училище он назвал это человеческое свойство лидероманией.
Отчаянием отозвалось в душе Курнопая то, что Каска, склонясь к Огомию, закрыла его лицо своей головой.
То ли передалось, то ли догадался, только горестно смекнул Курнопай, что мать подучиваетОгомия. Невольно лапнулся за кобуру термонагана, и, чтобы в безвыходных обстоятельствах не применить оружие, отбросил его к стволу айланта, росшего близ стеклянного перехода.
Когда Каска распрямилась, Огомий вяло поднял над головой твердый пластиковый флажок. На флажке был портретный снимок Курнопая в парадной форме головореза номер один, по которому через глаза и эполеты был выдавлен ядовито-розовый крест. Это означало, что Курнопай перечеркнул преданность державе и подлежит уничтожению. Неуверенность в том, что Болт Бух Грей не знает и не предполагает, что штамповщицы решили уничтожить его, возникла в сердце Курнопая. Поверх цветастых косынок он заметил единственный в стране сверхзвуковой кальмарик-вертолет, приданный лично главсержу.
– Медь, – запищал Огомий зажатым, ну прямо зажатым, как палец дверью, голоском. Он выронил пластиковый флажок и дернулся, чтобы наклониться, но не смог, и Курнопай догадался, что Каска тянула Огомия за волосы на шее, чтобы он закричал. В тот же миг дошло до Курнопая, что его братишка не захотел закричать «смерть», а пропищал «медь».
Рев Огомия должен был унять злобу матери, невероятную для нее в прежние годы даже с перепоев, однако Каска обнаружила мстительную непримиримость, оттолкнула в сторону Огомия, не обратив внимания на младших сыновей, заплакавших навзрыд. Она принялась топтать флажок с намерением разодрать его. Так как пластик проявлял неподатливость, начала строчить по нему стальными каблуками. Она поутихла бы, если бы ей удалось повредить портретный снимок сына, но пластик, подобно каскам, делался прочный, и она, рассвирепев, гаркнула:
– Растоптать отс-ца и сы-на.
Она выставила перед собой кулаки, бросилась по направлению к Курнопаю и Чернозубу. Никто из работниц – все расстроились из-за того, что она пригребла к взрослой манифестации своих детишек, – не побежал за Каской. Остервенело оборотившись, она пригрозила им:
– Покаетесь у меня! Плазму по вам выпущу! – и бросилась к термонагану, лежавшему в тени айланта.
Расстояние до термонагана как от Курнопая, так и от Каски было одинаково. Недавнее впечатление от ее гонки на педалях штампа сорвало Курнопая с места. Чуть промедлишь, мать, при ее невероятной быстроте и силе в ногах, опередит.
Все-таки успел он домчаться до термонагана раньше матери. Оказалось, что не одно и то же – жать на педали, штампуя каски, и бегать.
Он воткнул в кобуру термонаган, застегнул молнию, ждал приближения матери, уже воздействуя на нее волевым успокоением.
«Медленней, медленней, мама. Встанешь – молчи. Демонстрируй растерянность. Я буду говорить. Твое дело повиноваться».
По установке Ганса Магмейстера, мать по отношению к Курнопаю была правящим организмом, то есть биосенсорный ее аппарат обладал родовой от него защитой.
Курнопай взвил в себе волевой диктат до энергетического предела, но мать так и не замедлила бега. Ему даже пришлось скакнуть в бок, а то бы она сшибла его. В свирепости ее лица угадывалась непримиримость.
Через миг, сдерживая себя от гнева и готовясь помешать ее намерению отнять у него термонаган, стал наборматывать (установка Ганса Магмейстера) увещевание:
– Столько лет разлуки, а антисонин не истребил тоску по тебе, мамочка моя родимая. Вознагради за обездоленность хотя бы тем, что очнись от вражды. За твоей агрессивностью – антисонин, нервная перегрузка, духовное заблуждение…
Они ходили кругом: она – нацеливаясь на кобуру, он – следя за ее движениями, отмечая про себя то, что манифестантки превратились в зрительниц, а также то, что красавица охранница призывает маршалесс последовать за ней, а они толкутся возле двери без веры, допустимо ли вмешиваться в раздор сына с матерью, которые оба близки Болт Бух Грею.
Как бывает в обстоятельствах куда более опасных по вероятным последствиям для тех, кто завязан в них, личная симпатия одного человека способна возобладать над соображением осмотрительности, объединяющим группу людей, привыкших к повадкам отстраненности от всего, что не имеет отношения к их прямым обязанностям. Удалось Корсаре, так звали с девчонок прекрасную маршалессу за книжное увлечение морскими разбойниками, склонить охранниц произвести на время задержание Курнопая и Чернозуба.
Охранницы оттеснили Каску к Огомию. К нему, выглядывая из-за его спины, льнули младшие братишки. Чтобы окончательно урезонить Каску и очистить площадь от демонстранток, Корсара порекомендовала им быстренько вернуться к обязанностям, чтобы и впредь они могли быть спокойны за их привилегированных генофондят. Хотя Каска увела сыновей на завод, женщины не спешили рассеиваться, и поэтому Корсара увещевала Курнопая вместе с отцом пройти в карцер для провинившихся маршалесс, а он, будто она не к нему обращалась, делился с отцом заурядным открытием, но, увы, только что совершенным. Дескать, механизм управления и отдельным человеком, и массами прост до примитивности: опирайся перво-наперво на то, без чего мигом начинает их прижигать чувство катастрофы; тех же матерей припугни намеком, что за их своеволие расплачиваться детям, и они выполнят самое постыдное требование.
Говорил он это не столько из-за овечьей податливости демонстранток, включая и его мать, – чего спрашивать с женщин, если и мужичьем зачастую правит овечья покорность, – сколько для проволочки: уже готовился к посадке кальмарик-вертолет. Вдруг да сюда заявится Болт Бух Грей, и тогда само собой отпадет необходимость переться в карцер.
В карцер пойти пришлось. Наверно, предосторожность вынудила вертолет сесть возле костела, похожего на граненый карандаш, втиснутый неочищенным концом в кубический ластик.
53
Пока телохранители не выстроились плечом к плечу, наводя пистолет-пулеметы на толпу, Болт Бух Грей не выпрыгнул из люка. Оттуда же спустилась Фэйхоа. Болт Бух Грей не поддерживал ее, это умерило ревнивое подозрение Курнопая. Невидимые за стеной телохранителей, Болт Бух Грей и Фэйхоа ускользнули в костел. Помощник главсержа протиснулся сквозь стену телохранителей и от себя ударил по воздуху веткой орхидеи. Повеление было определенное: мгновенно очистить площадь. Курнопай подумал, что помощник не заметил его, и со словами: «Господин державный сержант!» – приветно помахал рукой, но помощник повторил сабельную отмашку веткой, затем, пробежав рысью до костела, слышалось, как екает его селезенка, встал перед дверью с видом неистребимого защитника державы.
УмылсяКурнопай. Бодрясь (досада была обжигающая – ноздри выкруглило, опаляло дыханием), побрел за Корсарой. Маршалесса сникла от перемены правящего отношения. Любимчика обожают, покуда властитель к нему благоволит. И все-таки противно было помнить, что именно она собиралась отдать жизнь за него, одушевив себя официальной любовью. Неужели даже чувство самопожертвования заражено и подпитывается чинопочитанием? Маршалессы смотрят пантерами. Ковылко надулся. Наверно, думает, что сын опростоволосился, доверясь согласию Болт Бух Грея принять условия забастовщиков? А то и может думать хуже: якобы он завязан с верхами в обманную игру против рабочего класса. Как жить, когда люди уведены от истинного восприятия? Судить не потому, каков ты есть, а потому, что измышлено о тебе начальством – вот как чудовищно изломалось сознание в Самии. И отец, подозрительность… Невмоготу. А с ним что творится? Хотел умереть. Сейчас был бы замурован в пещере, нет – подчинился команде. Ничтожество. Человеческое в нем подчинено службистскому. Человеческое противилось, службистское восторжествовало. Отец не верит… Нужно ли верить? Тешить себя преданностью Фэйхоа? Всевластью все доступно. Рабским всеподчинением сломлены души. Что бы остановило Болт Бух Грея, пожелай он Фэйхоа?
Остановил Курнопай темнотой взлихораженное воображение.
Слава САМОМУ! Удалось Курнопаю укротить воображение, однако воля рассудка сохраняла свою независимость, словно была подчинена не его самопостижению, а целям Мирового Разума. И когда их с отцом закрыли в зале для свиданий матерей с детьми, где среди прокаленных солнцем пластиковых диванов, стульчаков, каучуковых игрушек невозможно было думать ни о чем, кроме сквозняка, рассудок Курнопая, открывавшего с подоконника оконную задвижку, преподнес ему, а не Мировому Разуму, досадливую формулировочку: «Мир обманщиков и обманутых».
Выбрык рассудка был неприемлем для Курнопая. Его училищный опыт с антисониновым подравниванием характеров и тот не сводился к единообразию курсантского поведения. И все же мозг опять и опять твердил чуждую Курнопаю формулировочку, а едва Курнопай спрыгнул с подоконника, заставил подойти к отцу и сказать:
– Мир обманщиков и обманутых.
Ненатуральность в голосе сына привела Ковылко в замешательство, но на какую-то минуту. Потом он отозвался, настроясь на доверие и бесстрашие, что еще смолоду это не было для него секретом. Курнопай взвился. Почему ж тогда ни разу не просветил его мальчиком? Он мог бы сложиться иначе. На что отец сокрушенно завертел башкой, приговаривая:
– Не, Лемуриха. Не, телестудия. Не, Сержантитет, училище, любимец САМОГО, главсержа.
Курнопай не возразил, не найдя оправдания, и пожалел, что был отторгнут от отца. При своей сметке и независимости отец помогал бы ему выбираться из социальных тупиков.
Курнопай понял избалованность непроизвольным самопочитанием, когда отец, коему его откровение было не в диковинку, обратился к нему с трудным историческим вопросом:
– У вас там, в заведенье, слыхивал, шибко богатая библиотека. Были хоть в Самии правительства, какие за народ?
– Фонд богатый. Если курсант захотел взять книгу не по программе, нарывался на допрос. Уровень допроса инквизиторский. Вели держпреподаватели спецназначения. Вертели, заламывали вокруг одного, не готовился ли к идеологическому взрыву против Сержантитета.
– Тебя, должно, не ограничивали?
– Мало ли что должно. Нас готовили к войне и оберегать режим. Любое недовольство режимом, личность не личность, народ не народ, пресекать.
– Я, сын, до чего додумался у себя на смолоцианке? Историю закапывают тайным образом, навроде клада: кабы народ не раскопал, д’не воспользовался ее золотом. Наивно?
– Все благородное, в конечном счете, наивно, потому что результаты справедливых движений достаются индивидуалистам, замешенным на сладострастной любви к самим себе. Разделяешь, па?
– Нету доброго исхода благородному намерению. Не, я от себя кумекаю. Поколе существует мустанг, дотолева будут плодиться наездники. От кого-то я слыхал, в древние века у нас водились сельские самоуправления. Сообща разбирали важнеющие дела. Вот бы теперь…
Досада на подозрительность отца прошла. Угнетало горестное предположение. Неужели он, Курнопай, вероломно обманут Болт Бух Греем? Смолоцианщики схвачены, возвратясь домой, а они с отцом так хитро арестованы. Чем было обольщаться, когда Болт Бух Грей, посоветовавшись с великим САМИМ, согласился принять условия забастовки? Сперва решил принять условия, затем передумал. Под видом помыслов обо всей стране решительно покарает рабочих и его, кто перекинулся, якобы из-за Ковылко, на сторону забастовщиков. Нет, скорей главсерж обоснует его «измену» крамольным стремлением к неподчиненности. Едва в ком-то из курсантов проявлялась независимость, командпреподаватели говорили о нем с приговорной омерзительностью:
– Неуправляем.
И о нем, Курнопае, подвыпив, бурчали (откровенность провиантмейстера), что, хотя он неуправляем, топтануть его нельзя: держправ скальпы поснимает.
Болт Бух Грею доносили (секрет – кто?) о строптивой самостоятельности головореза номер один, чему нет сомненья, он радовался. Таким и должен быть. Со мной рядом ему стоять. Наверно, Болт Бух Грей не сомневался в том, что уж им-то Курнопай будет управляем, но история с посвящением Кивы Авы Чел поколебала эту уверенность. Тогда помиловал, сейчас не простит, даже поторжествует, что в решительный момент покончил с опасным строптивцем.
К вымороченности отнес Курнопай свое внезапное сострадание правителю и Фэйхоа (если с ними САМ, то ЕМУ он не сочувствует – «пожинает» собственную вину): бедные, раздирает их души неизбежность не медля принять решение. Корить себя Курнопай не стал. Найди он на смолоцианистом другой ход, мог поставить оцепление вокруг «цирка» и повести затяжные переговоры по каждому пункту требований, тоже, не исключено, находился бы в костеле и маялся над тем, куда повернуть события. Вослед за этой мыслью явилось раскаяние. Прямолинеен он, есть ведь дипломатичность, та же уклончивость. Жизнь – не шахматы: безграничны ходы. Нужно ли с такой легкостью напрашиватьсяна кару властелина, тем более что он вытащил тебя, по мнению провиантмейстера, на державный пьедестал. По логике вещей не осложнять надо ситуацию для Болт Бух Грея, хоть он и семи пядей во лбу, а разгребать ее. Врагу бы он осложнял ситуацию – куда ни шло, а то ведь благодетелю, для него преданность любимцу оборачивается риском потерять власть. Неблагодарен он, предательски неблагодарен. Справедливый человек за одно то, что Болт Бух Грей назначил ему в посвятительницы невинную девушку, а после в нарушение религиозно-политического установления Сержантитета освободил ее от посвятительства, за одно это он должен был бы осуществлять с неистовой преданностью всякое пожелание и поручение предводителя. А что он? Другой бы мечтал уподобиться жертвенностью чувства Болт Бух Грею. Может, до сих пор правитель не утешился?
Курнопай ощутил в себе неудовольствие. Мало-помалу оно прочнело, оборачиваясь раздражением против той жертвенности и сомнением в предполагаемой неутешности Болт Бух Грея.
Он даже оторопел от этой переоценки, как будто где-то в его душе находился контрольный орган ума и чувства.
Помотался по комнате, теряясь от неумения ладить со своей противоречивостью. Внезапно проглянул спасительно полузабытый образ бабушки Лемурихи. Все впечатления от бабушки Лемурихи свелись к бессомненности ее. Эта черта бабушкиной натуры как бы сфокусировала ее действия, подобно линзе, собирающей в пучок солнечные лучи. Да-да, в бессомненности ее цельность.
Он не принял ее карательного прошлого, и мать с отцом не принимали, и взрослые соседи, и мальчишки…
Бабушку Лемуриху их неприятие делало замкнутой, но такой замкнутой, благодаря чему сохранялось ее несогласное с ними отношение к своему прошлому. Воспламенительно отозвалось в Курнопае то, как бабушка Лемуриха боготворила Главправа Черного Лебедя. Разве он не восхищался аналитическим блеском в размышлениях Болт Бух Грея, целеустремленностью подчинять преобразования общенародному прогрессу? Увеличение объема труда, забота об улучшении генофонда нации – это же замечательно, если бы не сопровождалось насилием, доводимым до безнравственности личности и общества. Но и это послужит возвышению державы. Социальная дрема, вызванная длительностью прежнего диктаторского правления, сменилась революционизирующей бессонностью. Люди тяготеют к эволюционной ровни фермерского существования, но приходят реформаторы, чтобы поворачивать потоки жизни в берега государственных целей. В чем-то перехлест, неумеренность… Вероятно ли иначе? Как геология планеты – сырье для осуществления всей жизни человечества, так и человечество – сырье для усовершенствования государственных структур. Вот, вот до чего ему нужно было додуматься, чтобы правильноориентироваться в вопросах сексрелигии, генофонда, забастовочных катавасий…
Чернозуб прилег на диван, всхрапывал. Курнопай повернулся к отцу с чувством враждебности и, зажав уши ладонями, прошел к окну. Он облокотился на подоконник. Оформилась мысль: «Ловушка». Не успел он понедоумевать почему «ловушка», как последовало пояснение: «Приспособленческая ловушка для независимости предержащих. Зависимость, пожалуй, самое жестокое творение социального благоприятствования, когда человек идеально отладил себя на всеподчинительность законам существующего иерархического уклада».
Протестующим удивлением оторвало руки Курнопая от подоконника и ушей.
«Я – позорник!»
Ухватка последних дней выпытывать сокровенные разъяснения у САМОГО толкнулась в его сознании, но он отказался от обращения к САМОМУ. Нет отчетливости в том, чьи ответы приходят, ЕГО ли, твои ли из ядра «я», где, каким бы качкам и броскам ни подвергалось твое самоуправление, может отыскаться совестливый отзыв.
54
У его детства было положение солнца в период ливневых дождей: пропадало вместе с небом за колоннами воды. Иной раз представлялось, что смыло солнце в океан, ан нет, промелькнет оно ломкой радугой, просверлится витым лучом, полыхнет красными лопастями, как ветряк на рассвете. Сверкучий от неунывности взгляд бабушки Лемурихи проблеснул из поры́ их телевизионного парения. Прилетят со студии, счастливо-задорные, неймется похвастать перед Каской и Ковылко, как что происходило, а те отсутствуют. Чтобы охолонуть чувством и Курнопаеву радость поддержать, бабушка Лемуриха скажет весело:
– Куда ж они запропастились? – и в зрачках у нее засверкает.
«Куда ты сама запропастилась?» – мысленно спросил он бабушку Лемуриху и рывком вскочил на подоконник.
Упование на то, что, придись быть здесь бабушке Лемурихе, он был бы спасен, распотешило Курнопая. Вон ты какой дядя! Носорог из-за тебя разгерметизировался, а все надеешься на предков.
За окном стояла пальма. Кольчатый, матовой бархатистости ствол возносился, сужаясь к лаково-зеленой кроне. Внизу, иглясь и ребрясь, росли меж камней бочкообразные кактусы. Промахнешься – пропорют до потрохов, прыгнешь ловко – спустишься по стволу. Ничто не предвещало, что у теперешнего ареста будет хороший исход, но окрыляла бабушкина бессомненность. Он стал примериваться, чтобы, пролетев над кактусами, хапнуться за вздутье ствола, которое находилось на уровне его ключиц. Куда угодит ботинками, он не очень волновался, лишь бы не попортить красивую кору.
Совсем он примерился прыгнуть, да из-за ствола высунулся Огомий. Робкая мордашка. Девчонистый. Вроде маленькой Каски. Для сынка держпредводителя слишком простоват.
Наконец-то проклюнулся в Огомии пацан. Спрятался за пальму. Руку, в которой аллигаторова груша, то высунет, то спрячет. Вкусопомрачительное лакомство – авокадо. Наверно, Каска рассказывала Огомию о пристрастии Курнопая к авокадо при странном отвращении к другим фруктам. Правда, в училище он ел любые фрукты, включая недоспелые, деревянистые и вовсе противные плоды хлебного дерева.
– Прекрати, Огомка, дразнить. Поколочу, – шутливо сказал Курнопай.
– Пока выберешься оттуда – умоломурю.