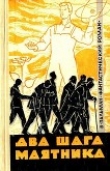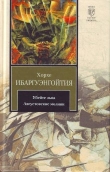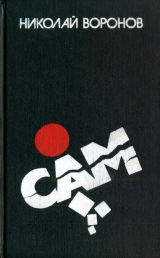
Текст книги "Сам"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
Хлюпарь выл от зуда. Командпреподаватели отпускали хлюпаря, едва его голос поднимался до волчьих нот. Хлюпарю не терпелось убежать, посрывать чулки. Просвет между курсантами воспринимался как дорога в рай. Хлюпарь бросался к просвету, за миг от мнимого спасения щиты смыкались, он налетал на них, обдирался, отскакивал. Тут же ловился за гребень, пробуя свалить щит себе под ноги, но лишь продавливал зубцами ладони, напарывался на шипы коленями, животом, локтями.
От зуда, ран, вида собственной крови хлюпарь доходил до исступления. Тогда-то он и принимался прыгать. Первые попытки перескочить через щиты тоже кончались ссадинами, порезами, проколами, правда, были больней, глубже, и это, а также скандирование из казарменных окон: «Прыщ, Pox-ля, Мра-азь. Гнус-трус», – вызывало у хлюпаря взрыв скакучести – он перемахивал три изгороди щитов. Потом был спад остервенения и повторный рывок бесстрашия, который завершался тем, что хлюпарь повисал на зубцах трехметровых щитов.
Курсанты, беснуясь, мазали кровью губы, несли хлюпаря в карцер, бросали там на сутки без присмотра и помощи. Выживал – ему оказывалась медицинская помощь, после командуч назначал его головорезом. Именно он, Курнопай, был первым хлюпарем объявлен и не только не почесался, хотя и хотел разодрать ноги ногтями, не только перепрыгнул три изгороди щитов, но и, рассвирепев, разогнал курсантов и командпреподавателей, задействованных в потехе гоп-стоп, не вертухайся,за что сам главсерж Болт Бух Грей провозгласил его головорезом номер один.
От сцен, которые память открывала перед Курнопаем, как донные валы открывают канаты водорослей, осьминогов, свитых в клубки, сигающих из наката в накат дельфинов, от этих сцен училищной казни стало щемить сердце.
Однажды, в порыве доверительности, Ганс Магмейстер понедоумевал, зачем-де Сержантитету понадобилась сия игра? У нее только два эвристических русла, и оба могут повернуться против правительства: без того лютые, подростки сделаются жесточе, без того бездуховные, они скатятся к циничному всенеприятию. Должна же быть у человека хотя бы одна цель, даже непристойная.
Курнопай, почти не ведавший страха, с беспокойством скользнул взглядом по чертовой дюжине головорезов. Пристальность, с какой они, все без исключения, смотрели в иллюминаторы, не могла успокоить Курнопая («Выучка, переходящая в противоположность»), зато была в единстве их состояния счастливая возможность: индуцировать им увещевание, нелепо-де готовиться к смещению начальника, который входил в мысленную связь с САМИМ, чтобы наставил его для безошибочных действий во благо Сержантитета и державы Болт Бух Грея.
Внушение давалось Курнопаю трудно. Он не мог сосредоточиться для мощного внутреннего напора, испытывая сопротивляемость головорезов.
Он должен их перехитрить.
«Я заболел. Явно, – сказал себе Курнопай. – Возвратимся в полк, попрошу сделать химический анализ крови. Вдруг не выживу? Нет, гоп-стоп, не вертухайся. По всей вероятности, меня укололи рафинированным антисонином? Может, не зря болтали ребята, что рафинированный антисонин колют верхушке. И все-таки другой вкус во рту: горького миндаля, а не тухлых черепашьих яиц, и налет на зубах будто от ягод терна. Не соединены ли эти звенья – работяги и медики? Не выйти ли на связь с главсержем? Уж он-то потянет за звено и вытащит всю цепь вместе с якорем. Неужели за столь краткий исторический срок вызрели реакционные элементы? Заговору не состояться. Соберусь с волей и доложу главсержу. Уж он-то вытащит цепь преступного подрыва из законспирированных глубин и отомстит за меня».
Казармы, ангары, бензозаправщики, взлетные площадки вертодрома находились среди эвкалиптовых рощ. Покуда набирали высоту и слагались в строй узором в созвездие Ориона, голубело небо, воздух пахнул душисто. Скоро, уже над равниной, серая почва которой просвечивала сквозь траву, точно шкура слона сквозь редкий волосяной покров, стало приванивать свалкой и промышленной гарью. Окраина, погрязшая в буро-желтом смоге, смердела смесью газов и разложением рыбьих потрохов. У океана дышалось полно, очистительно. Курнопай затосковал о шершаво-сизых валунах лагуны, откуда утром углядел над легкой колышенью такую ясную голубизну, что захотелось единым вдохом вобрать ее в грудь.
Худосочный вид заброшенной равнины – до низложения Главправа ее земля давала хороший урожай сорго – и тлетворный запах окраины отвлекали Курнопая от ожидания двойной гибельной опасности. Как же это так? Были поля – и нет. Было небо, пусть не без чада, теперь сплошной дым?
Генерал-лейтенанту Пяткоскуло, назначенному адъютантом Курнопая, не обломилосьполучить полк, из-за чего он возненавидел головореза номер один. Пяткоскуло решил проверить, чем дышит Курнопай, едва тот в открытую сосборил морщины на переносице, выказывая недовольство пейзажем и воздухом, и заговорил, захлебываясь от восторга, об исключительной целеустремленности Сержантитета, его повелителя Болт Бух Грея, божественно выполняющего духовно-религиозную программу САМОГО. И все это осуществляется на фоне непоследовательности, свойственной роду человеческому, и глобальной благонамеренности, что приносит пользу в условиях непонимания условий. Метод предводительства, избранный у нас в державе, противоположен всеобщему: он – труд в условиях понимания потребности в нем; искренность как источник безмерной целесообразности; постановка задач, с виду беспощадная, недосягаемая по гуманизму. Где, когда, кому удавалось достичь плодотворного сумасшествия научной храбрости?! Выискивались невежды, кто утверждал: «Барьер выживаемости в условиях черной атмосферы не способен превышать десятикратную смертельную норму». Шкалу консерваторов практика смела. Многие индивидуумы с успехом живут и работают в химической среде, во сто крат превышающей смертельную дозу. На поверку сомнительные экспериментаторы превращаются в недосягаемых практиков, в совершенстве владеющих наукой из наук – предводительством.
Прочувствовал Курнопай, для чего славословит Пяткоскуло. Изумленный, он отметил, что скулы адъютанта, твердокожие, никотиново-желтые, как солдатские пятки, порозовели, словно кожа щек.
Курнопай чуть не рассмеялся от соображения, что природа применила к скулам и пяткам генерал-лейтенанта тот же метод, которому он поет дифирамбы.
Похвала САМОМУ, Сержантитету, ведомому Болт Бух Греем, от кого бы она ни исходила, являлась мерилом политических достоинств гражданина. Она обеспечивала его правом на неприкосновенность. Если ты грабитель и пойман с поличным, но примешься ораторствовать о своем преклонении перед САМИМ и нынешними предержащими, полицейские и свидетели обязаны замереть и внимать тебе, трепеща всей душой, как раньше, до введения сексрелигии, ты трепетал во время молитвенного пения под рокот и вздохи органа. Не замрут, не станут тебе внимать, будут судимы за неуважение к власти. А ты, что бы ты ни сделал, грабя, если даже убил, кончив ораторствовать, преспокойненько удалишься; и позже тебя никто не посмеет арестовать. Но прежде чем уйти, ты еще и можешь надавать по мордасам тем свидетелям и полицейским, каковые рассеянно или возмущенно слушали тебя.
– К моему верноподданничеству я прибавлю…
Курнопай не должен был сметь задерживать течение адъютантовых излияний. Неосмотрительность. Мог бы шепнуть Пяткоскуло, дескать, не отвлекайте меня от прикидки действий, связанных с предстоящей операцией, так нет, он рявкнул так, что увеличились вибрации вертолетного фюзеляжа:
– Мы-а-лы-чать!
Умопомрачительным было не только удивление Пяткоскуло, но и каждого из тринадцати головорезов. Не случалось в их присутствии, чтобы кто-нибудь кому-нибудь когда-нибудь приказывал прекратить воздавание хвалы всем трем ступеням правящей иерархии: САМОМУ, Болт Бух Грею, Сержантитету. Коль так, их представления и действия парализованы. За этот психологический парадокс Ганс Магмейстер пообещал бы поставить ему памятник при жизни.
Головорезы, едва отделавшись от остолбенения, смекнули, ежели, мол, он прихлопнул с маху державную елейность Пяткоскуло, значит, нипочем Курнопаю обычные законоустановки: он сам причастен к триединству власти и волен поступать вкривь и вкось.
Пяткоскуло, чуть выпутался его мозг из помрачения, лапнулся за кобуру термонагана и вскочил.
– Вы арестованы, крамольный начполка.
Курнопай сидел напротив Пяткоскуло. Носок его ботинка был оправлен вороненой сталью. Этим носком он поддал ему в средостение. Пяткоскуло упал в кресло.
Курнопай разоружил Пяткоскуло, дыхание которого пресеклось. Чтобы не расслабиться от жалости, сказал:
– Развел дерьмо на ананасовом сиропе, – и велел всем приготовиться к высадке.
Головорезы было собрались надеть газозащитные маски, но Курнопай не разрешил, вдобавок приказал оставить их в салоне. Не разрешил надеть и очки с инфрапронизывателем.
45
Вертолет завис над площадью перед воротами смолоцианистого завода. Курнопай надел инфраочки. Возле турникетов проходной никого, кроме вахтера. Внизу, вспученная реактивными струями, клубилась аспидно-темная, переплетенная сернистой прожелтью мгла.
Пустынны шоссе, железнодорожные пути, покрытые лохмотьями ржавчины, пешеходные мосты на территории завода. Хотя бы на мгновение высунулась из какого-нибудь здания или вагоноопрокидывателя чья-то любопытствующая рожа.
Возвратился взглядом к площади, воротам, турникетам. Вахтер в форме цвета метана по-прежнему один, недвижен, со смеженными веками, подперся о чугунный фонарь.
Безлюдье – это один человек на огромном куске земли, придушенном строениями, механизмами, кучами сырья, готовой продукции, смрадом. Безлюдье и в его вертолете. Наверно, и он проявление безлюдья?
Неужто вахтер не слышит, как выхлопывают из труб ревущие струи, как просекают они газовую жирноту?
Моя голова, о, моя голова, тебя раздирает тоска и смятенье! Ты сразу могла бы понять, что вахтер с трудягами заодно. Конечно, он вольнонаемный. Втоиповцев рабочие поскрутили. До того допекли их втоиповцы, что не осталось у них терпения. «Барьер выживаемости»? Да можно ли ставить такие задачи? Ведь здесь, в душегубных дымах, трудиться способны лишь покорно-могучие люди, наивную веру которых затралил словесный обман. Покладист до самогубительства, трудяга, похоже, утратил надежду в протест? Упорствуй, страдай, будут жертвы. А толку? А толк, и всевластье, и роскошь без края и меры у кодлы, которая сцапала руль. Да где ж справедливость? И есть ли к ней путь?
Вкусом горького миндаля отзывает во рту, и вязкий налет на зубах, как от терна. Неужель у меня кипит котелок и при дозе «Большого барьерного рифа»? Вот счастье! Значит, и тут, на заводе, обнаружился ум? Надо медлить. И подумать, подумать. Заблуждаться опасно в обстоятельствах бунта.
Вертолет шел зигзагами над заводом. Восьмерка, раздвинувшись, следовала эволюциям флагманской машины. Над стальными вертикальными трубами газосборника тряслись крышки. Даже сквозь реактивные свисты были слышны звуки, слегка приглушаемые кирпичной кладкой на исподе крышек; из-под них оранжевыми кругами выхлопывалась гарь.
Низкий полет над газосборником, где, судя по клацанью крышек, поднялось давление, определялся инструкцией как очень рискованный: вероятны взрывы, отравления, длинное пламя.
На крошечном телеэкране, вделанном в ручку кресла, возникли три тройных ряда намекающих лиц. Пилоты выходят на экран, когда угроза для машины, ее экипажа и пассажиров диктует незамедлительный маневр.
Курнопай отмахнулся: дуйте, как шли.
Растяжки торцовой трубы (ее клапанами обычно снижалось давление в газосборнике, а теперь их некому было открыть) лопнули разом, словно подпиленные. Квакнуло. Ужас обуял чертову дюжину головорезов во главе с Курнопаем. Ракетой, нечаянно сорвавшейся с пусковой площадки, труба проломила салон, завертелась, сшибая и уродуя кресла. В хвостовом отсеке, где хранились продукты и оружие, она застряла.
Отделавшиеся легкими травмами, головорезы улыбались друг другу. Возврат боевого задора.
Но поспешили головорезы обменяться взбадривающими улыбками. Загорелись кресла. Перекосом фюзеляжа заклинило боковые двери и люки.
Курнопай бросился к пробоине в полу, выстрелами из термонагана обрезал металлическую рвань. По мановению его руки в квадрат отверстия стали выбрасываться головорезы. Опять же с помощью термонагана он отворил боковую дверь, откуда, едва приземлились, выскочил, взвалив на себя Пяткоскуло. Следом выскочили пилоты и штурман.
В кислотном дыму головорезы ничего не видели, как лунатики бродили по мостовой, заходились в кашле.
Пяткоскуло, опущенный Курнопаем на булыжник, опрокинулся навзничь и скользил на спине, толкаясь руками-ногами.
Вертолетчики – запрет Курнопая не надевать очки и маски не распространялся на них – по его приказу свели полк в одну шеренгу. Хваленой выдержки головорезов: «Умирая, держат фасон», – как не бывало: корчатся, вьются, угибаются задыхаясь.
И снова Курнопая охватило жалостью, но он продолжал сохранять решимость. Он не сумел бы тогда объяснить вразумительно, почему не отменяет приказ, приведший полк в состояние небоеспособности. Жалость и понимание того, что руководит вопреки уставу и положению о тактике подавления бунтов, было поколебали Курнопая, но все в нем засопротивлялось внутренней зыбкости, будто бы кто-то внедрился в его расслабившуюся волю.
Сосредоточась на своих чувствах, он вынес впечатление о подсказке извне,но тут же открестился от нее. Не проявило ли себя скрытое в подкорке самовнушение?
«Действую в одиночку, – сказал он себе, чтобы определиться. – Абсурд, Курнопа, абсурд!» А впечатление о подсказке упорно сохранялось в чувствах и привело к правофланговому головорезу, и заставило прошептать на ухо:
– Передай, пусть полк включит приемники. – Когда приказ прокатился по шеренге, добавил уже в микрофон, пристегнутый к запястью. – Залечь вокруг вертолетов. Не стрелять, что бы ни случилось. Ждать моих указаний.
Отдавая команду, он еще не предполагал, что предпримет и куда подастся. И только вертолетчики положили полк вокруг машин (над землей находился воздушный буфер-просвет, поэтому дышать было легче), Курнопай воспринял сигнал, природа которого почему-то сформулировалась для него как излучение человеческого мозга. То обращаясь к САМОМУ, то вступая в духовное соитие с САМИМ, который, чудилось, сам лично соотнесен с ним, Курнопай был полностью настроен на высшуювзаимосвязь, потому и усомнился в том, что сигналподал человек. Не мог он излучить сигнал с такой силой, коль от него не отвертеться. Наверняка САМ продиктует ему, как поступить.
Курнопай включил гравитонный передатчик. Без промедления отозвался Болт Бух Грей. Что-то сталось с полированным баритоном главсержа: шершав, словно горло обожгло спиртом.
– Обстановка?
– Отсутствие присутствия.
– Не разводи тьму.
– Тьмы тут предостаточно. Я вот зачем, господин Верховный Главнокомандующий.
– В темпе. Бронетранспортеров подбросить? Ракетами для острастки садануть?
– Не требуется. Мною хочет руководить САМ.
– Гордыня.
– Он уже руководил мной. Я входил с ним в соитие. Несколько минут назад он подключился к моему сознанию.
– Ударил лучом?
– Ага.
– ОН. Поздравляю, мой персональный любимец. Раньше ОН вступал в соитие исключительно со мною. ОН пользуется принципом избирательности в чрезвычайных случаях. Два-три случая на эпоху очередного правителя. Счастливец! Удостоился. Бунт смолоцианщиков взволновал и ЕГО. По пустякам не волнуется. Ежели ОН намекнет на кару – ни перед кем не останавливайся. Больше не смею советовать. Теперь не я тебе верховный.
Курнопай ждал, надеясь, что САМ прояснит ему цель и подробности обстановки.
Промедление САМОГО чуть ли не сжигало Курнопая. Он не вытерпел, укорливо напомнил САМОМУ о том, что томится, и спросил, возмутясь:
– Зачем тогда отвлек? Итак я в раздерге. Делаю то, чего не должен бы делать. Мой разум сорвал все социально-философские ограничители. Без них какой я военный?! Даже антисонин не устранил хаоса в чувствах и уме. Я уж не говорю о кощунствах, разрушительных для религии. А может, ты завихривал мои разум-чувства, чтобы проверить, на что я способен?
И опять САМ не отозвался. И побрел Курнопай туда, куда, мнилось, он был направляем. Из-за угольного холма выткнулся шпиль. На нем, понавешанные, топырились приборы, должно быть, для обнаружения присутствующих в смоге газов и для замера их количества, приходящегося на один кубический метр атмосферы. По сторонам от шпиля, сориентированные на страны света, круглились шары, осуществляющие очистку воздуха и хранящие запасы сжиженного кислорода, азота, углекислого газа.
Шпиль и шары возвышались на макушке купола. Кольцевая стена, покрытая налетом смолы, спутывала впечатление от здания как от жилого помещения. Надо было уходить от него, подобного цирку, или обогнуть, ища людское обиталище, но он продолжал вглядываться в овал стены и мало-помалу различил по впадинкам контуры дверей. Подошел к ближней двери. Ее смоляной покров вроде кто-то пробовал проскрести гвоздем. О, да это каракули. Каракули сложились в слова:
МЫ МЕЧТАЕМ О ВЕЧНОМ СНЕ. УБЕЙТЕ НАС.
46
Что-то заставило Курнопая приготовиться, чтобы войти в здание. Там, внутри, весело, потому отупляюще чуждо проверещал звонок, и дверь отворилась. Шаг через порог. Дверь, закрываясь, поддала его сзади.
Очки слетели. Затрепетал: не отыщет их в чадной тьме. Через секунду прищурился. Под куполом бело: как солнце жарким полднем, пылали прожекторы.
Чистый воздух помещения, повеивание запаха тополевых почек, покрытых клейкой смолкой, заставило Курнопая удивленно хмыкнуть. Поднял очки, всходил по настилу, сходному с подъемным мостом средневекового замка массивностью плах и тяжестью цепей. От настила сферически размыкались, чтобы на противоположной стороне свестись у другого настила, пешеходные мостики. К стальным фермам, черной решеткой отделившим купол здания от бетонной шахты, были привешены сетчатые многоярусные и многорядные кровати. Ниже кроватей хорошо просматривались из-за своей пластиковой прозрачности различного назначения службы: столовая, библиотека, телевизорная, туалеты, зал для плотской надобности. Привешенные тоже к металлическим тросам, службы находились высоко над странным полом, набранным из базальтовых конусов. Прыгни на пол оттуда, из служб, не только не устоишь на каменных остриях – переломаешь ноги.
Еще охваченный впечатлением безлюдья, Курнопай и тут настроился на горестный лад. Но когда пригляделся, его поразило то, что на доброй половине кроватей спали, что лишь отдельные кресла в библиотеке пустовали, что по телевизорной слонялись старики, угнетенные, вероятно, хроническими недугами и заточением. На экран во всю стену старики даже не взглядывали, а там стреляли по мишеням из пулевых автоматов мальчишки с девчонками, катающиеся на каруселях, демонстрировали детей-генофондистов, они красивы, ладны, ловки, азартно воинственны. В зале для плотской надобности (о чем однажды проговорился Курнопаю пьяный вдребадан провиантмейстер) скользили пары под виолончель, уютные, с ласковой гундосинкой мелодии напоминали те, которые отворяются в голосе женщины, когда она лопочет, будто бы поддается соблазну, а на самом деле плутовато нагнетает желание, и страсть уносит мужскую стыдливость…
Провиантмейстер нахваливал биоников, сексологов, художников. Они якобы создали ради трудяг, силу которых все-таки не исчерпывают ни бессонность, ни круглосуточные смены, девиц-развлекательниц, мало в чем уступающих неподдельным. Девицы мило болтали, пели интимные песенки, наигрывая на синтезаторах, дулись в картишки… Гладкостью и температурой кожи они не отличались от взаправдашних женщин. Пластика тела, правда, слегка огрублялась суставчатостью, чуждой упругостью были уплотнены грудь и живот, во время поцелуев пугало отсутствие дыхания, про душу и нечего говорить – ее так недоставало, когда человек пускался в откровенность. Создатели бионических девиц не заложили в программу их повадок сострадание или хотя бы простую способность подлаживаться под настроение клиента.
На девицах, в первый миг принятых Курнопаем за подлинных, слишком уж в облипочку была одежда, а скольжение чуть протезное, без привставания на пальцы, фигурки настолько образцовы – до искусственности, да и обликом весьма разнонациональны: кукольная кореянка, толстоволосая эскимоска, хипповая англичанка – джинсы вытерты до зияния кожи на ягодицах, в мохрах засаленного пончо куриные перья, громадногубая африканка из племени балуба, полячка с голубыми глазами, по-мавритански смуглая испанка и одна усредненная, что ли, европейка, близкая по антропологическому типу южным самийкам.
Именно европейка, едва партнер в желтом комбинезоне, плоский со спины, коснулся губами ее уха, побежала к алькову, где в сумерках томного газового освещения бурела тахта.
Преодолевая неловкость, он не отвернулся. Как все же девица поведет себя с Желтым Комбинезоном?
Возле тахты Желтый Комбинезон облапил девицу. Она вырвалась. Уставясь на нее, он отступил. Девица о чем-то известила партнера. Он прихлопнул свои ладони к ее щекам, притрагивался большими пальцами к вырезным крыльям носа. Вон оно что – крылья носа эрогенны. Вероятно, такая последовательность отношений девицы с клиентом заложенав ней сексологами? Девица переместила ладони Желтого Комбинезона себе на бедра, он пооглаживал их, после чего она распахала сверху вниз боковые молнии на кофте с юбкой и присела на тахту. Ух ты! Не желала ложиться в постель без поцелуев.
Из танца выбыли эскимоска и трудяга с буйволиной шеей. Курнопай дал трудяге имя Штангист. Хипповая англичанка и техник вида жестокого герцога Альбы не отличались от них предпостельными ласками. Сердце Курнопая затосковало от нежеланной мысли: он не знает, кто подражательней, истинный ли человек или бионический?
Курнопай отвернулся, сказал в сердцах:
– Ишь, оборудовали, гады.
На горбу мостика замаячила сутулая фигура. Втоиповец? Их училище, хотя и готовило термитчиков, часть выпуска направляло в распоряжение командования Войск Трудовой Организации Индустриальной Промышленности, откуда термитчиков вживлялив рабочую среду для осуществления спецнадзора. По шифровкам спецнадзорщиков командование ВТОИП судило о настроениях: оно выдергивалос предприятий рабочих, обнаруживших ненадежность. Выдергаибесследно исчезали. От командпреподавателей Курнопай знал, что выдергаев отправляют на особо опасные заводы, где им уготована бессрочная возможность для самообеления.
В обстоятельствах, требующих немедленных кар, спецнадзорщикам рекомендовалось выходить,чтобы ценой разоблачения тайных полномочий содействовать пресечению смуты.
Следящая сутулая фигура остановилась осматриваясь. Чувство омерзения к себе, к училищу, к спецнадзорщикам, охватившее душу Курнопая, заставило помедлить с восхождением.
«Чуть что – убью! – пообещал он себе и подосадовал на свое, некстати, обращение к САМОМУ: – Не прими за дерзость, великий. Неужели и это исходит от тебя? Я еще не определил, для чего спрашиваю, но ТЫ все равно ответишь, если осуществляешь надчеловеческую справедливость?»
Чем дольше ждал, тем упорней прибывала в нем печаль. Она подхватила сердце, точно ливневый ручей, и понесла к обрыву, откуда оно упадет и будет унесено невесть куда.
Втянуться в состояние печали, он все сильнее к ней приохочивался, помешала Курнопаю головная боль. К мозгу будто присосался луч, похожий на недавний сигнал-зов.
Чтобы утишить боль, Курнопай быстро побежал к центру подкуполья. Боль исчезала по мере приближения к следящему сутулому человеку. Старался не смотреть на сутулого, полагаясь на биополевое угадывание. Отнюдь не спецнадзорщик воспринимался им – родственный организм. Попытал у себя: «Неужто Ковылко?» И невольно перемахнул ступенек через пять, и заметил в улыбке отцовы зубы, крупные и черные, как высокие клавиши пианино.
– Долго ж ты добирался, – промолвил отец. – Покличу, тебя – тю-тю.
– Покличу?
– Про себя. Прямо невмоготу было ждать. Ты-то, сынок, хоть скучал?
– Эх, папа, папа…
– Желал ли свидеться?
– Я иногда тосковал до жути. Жизнь, отец, без тебя и мамы убога.
– Сроду не поверю. Твоя тоска термитным огнем изошла.
– Навет, папа.
– Навет на пять лет. Не многонько ли?
– Настроился против родного сына…
– Ох, ничего хорошего я не жду от тебя.
– Знает леопард, чьего буйвола задрал? Правда?
– Моя правда – правда нынешних людей труда. Во-во, буйволы мы. Буйволы в черном смоге. Леопарды – твой Бэ Бэ Гэ и ты. Мы решили умереть. И умрем. Ждал тебя из-за чего? Хочу понять перед смертью, есть ли надежда на перемены. Кончится или нет, к примеру, бессонное рабство рабочих?
– Люди рождаются для труда.
– Перво-наперво они для жизни рождаются. Труд все дает, да мера ему потребна. Сделали из труда рабскую цель. Целей-то, сынок, у жизни много.
– Помню я, вы с мамой, кроме работы, еще в одну цель метили…
– Натуга труда, аж ни к чему не остается интересу. Выпил, поглазел, восстановился.
– А не сваливаешь ты, папа, личную ответственность перед лицом судьбы на державу?
– Спирать на державу легко, невинного из себя строить – тем паче. В чем и у меня грешки наскребутся. Ты, сынок, пускал ведь кораблики из коры. Дождь схлынул, ты к ручью. Любой кораблик ручей все равно утащит. Как стал прозревать, так определил свою жизнь по детскому кораблику в ручье. Тыркайся не тыркайся – сносит течением. Вас-то с Бэ Бэ Гэ небось не сносит.
– Не ставь рядом. Он – хрустальный маяк, а я, в лучшем случае, кусок ракушечника.
– Ты, сынок, посвятительше заливай. Кусок ракушечника? Хы. Головореза номер один зря не присвоят. Пожег, поди-ка, нашего брата тыщу-другую?
– Не жег совсем.
– Ну, перестрелял.
– Эх, папа, папа.
– Не кори. Цирк рабства здеся. Месяц побыть – во всем засумлеваешься. Не то что в сыне, в САМОМ засумлевался.
– Ты и раньше…
– Возникал,подвыпив отчаянным образом… И все ж таки до такой степени в САМОМ не сумлевался. Ты ответь давай, карать прислали или разобраться? У сержантишек завсегда виновны только трудяги. Сами они не виновны и, чего ни коснись, ни в чем нет и не было у них промашек. Серый твой отец кое до чего докумекался, даже через антисонин… Разобраться или карать?
– Ты недопонимаешь, отец, роль труда. Великий САМ и держправ за концентрацию энергии ради спасения нации.
– Концентрируйте свою энергию. Нашу – шиш вам!
Чернозуб поднес огромную фигу к носу Курнопая. Фига Курнопаю понравилась.
– Кто вам поверит – для ради концентрации энергии? Для ради концентрации самоуправства, для ради потехи, наживы… Мы раскусили вас. Вы себе – царствовать, нам – гнуть горб. Вы навроде улучшить породу самийцев… Разврат это пакостников. Разврат, а подкладка – наука, религия… Ни науки у вас, ни религии. Карай. Вон спят трудяги. Приготовились. Один умру наяву, и те вон, читают, да с паскудницами…
– Погоди, папа. Ты спросил: карать или разобраться? Войска не посылают разбираться. Главсерж облек меня, САМ… Я, отец, превысил полномочия. Мой полк за проходными воротами. Сейчас бы головорезы, возьми я с собой, производили аресты, сопротивлентов уничтожали…
– Что ты наделал, сынок?
– У вас положение хуже. Отец, мы не обнялись при встрече. Я наскучался о тебе.
Беспокойный, растроганный Ковылко, едва Курнопай в тоске и радости распахнул руки, отпрянул. Ему до сих пор не верилось, что головорез номер один, проклятый им, презираемый его товарищами, сберег чувство родства.
«Схватит, – подумалось Ковылко через миг. – Ему известно, что я предводитель. Сразу нагрянут головорезы, повыдергивают зачинщиков, и опять все пойдет, как установила сержантомерия».
Было бы сыновним отступничеством пасти глаза Ковылко. Но он легко определил, что́ сработало в отце, и его руки рухнули к голеням, точно чугунные.
Ганс Магмейстер натаскивал Курнопая на психодогадливость: в нужный момент раскавычивать эмоционально-умственный удар противника или выпад сослуживца. Считалось просто раскавычивать подозрительность, обусловленную замкнутым социальным существованием. Курнопаю открылось то, чего он не подозревал за собой. О нем, называемом Болт Бух Греем народным любимцем, мнение у рабочих, как о палаче. И даже у отца, иначе он не страшился бы его. В чем искать ответ на чудовищное искажение? До чрезмерности возвеличили? Не то. Без оснований возвеличили. А, к любимчику Болт Бух Грея, властелина армейской хунты, не может быть народной приязни. Но ведь он не виноват в том, что является любимчиком и преподносится самийцам головорезом номер один, на самом деле головорезом не являясь. Подмена сути для того, чтобы он скатился до этой сути? Может, и для того, чтобы он стал фигурой, отвлекающей общественный гнев? Возникнет для главсержа катастрофическая ситуация, и он заслонитсяим и еще кем-нибудь, чтобы остаться справедливым, вопреки воле которого они действовали. О, теперь такой момент! Допусти он репрессии, начнутся народные восстания, и тут уж ему отведут роль временного мола: шторм отбушует, мол ликвидируют. Но если даже все обойдется хорошо, зачем жить дальше, коль мнение о самом себе не то что не совпадает – не пересекается с мнением народа о тебе, родного отца о тебе? Не крикнешь: «Я человечный. Никого не убивал. Моя совесть, мой ум очнулись от спячки. Я болен горестями нации». А если предоставится возможность крикнуть, кто поверит и отойдет от общенародного отношения ко мне?
– Струсил, подумаешь? – оправдательным тоном спросил Ковылко. – Поостерегся. Один ото всех нас. Мы готовы умереть. И умрем. Вы превратили страну в гарем, в резервацию роботов. Все одно скоро самийцы вернутся к семейной судьбе. Работа по восемь часов. Ежесуточный сон. Уик-энд. Каждую неделю конверт с зарплатой. Какое счастье спать и видеть сны! Какое счастье получать деньги. Молчи! Правительство будет избираться. Никогда больше народ не допустит правительства путчистов.
До училища Курнопай не очень-то любил Ковылко. Зато жалел. Горестно делалось от тяжкого духа организма, отдающего смрадом и тленом, ежевечерними выпивками, должно быть, не в удовольствие, а чтобы захмелела и перестала артачиться его непокорность, от отчаянной пониклости, которая сваливала отца после несогласных слов, сказанных через отдушину бармену Хоккейной Клюшке.
Теперь, видя Ковылко в состоянии гордой обреченности, раньше не свойственной ему, и слушая его, проникнутого убежденным самопожертвованием, Курнопай полюбил отца, а жалость к нему возвысилась до сострадания. Себя же стал воспринимать с прискорбием: незадачливый сын, ненароком угодивший в среду помыкателей народа, и не усовестился, и не переменил доли.