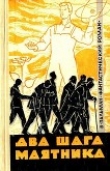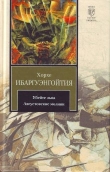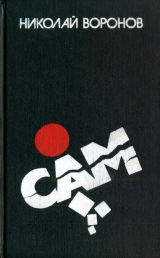
Текст книги "Сам"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)
Огомий вышел из-за ствола, вертел аллигаторову грушу перед оскаленными зубами.
Курнопай спустился на землю лучше некуда, на что Огомий воскликнул: «Прыгаешь, братуха, как бабуин!» – и протянул ему авокадо. Но Курнопай отказался. Позже полакомится, а пока хотел бы с его помощью, если имеется в костеле тайный ход, пробраться к Болт Бух Грею. Тайного хода не было. Зато Огомий, побывавший там (аллигаторовой грушей угостила Фэйхоа), вызвался провести брата к Болт Бух Грею.
С ним Курнопая пропустят. Беспрепятственностью мальчишеских надежд Курнопай переболел в училище: на фоне собственных привилегий, хотя и далеких от вседозволенности, он, совестясь, видел, что большинству курсантов почти не удается ни один бесприказный шаг. Теперь и он, как пить дать, находился в таком положении.
На всякий случай попытал у Огомия, не спрашивала ли о нем Фэйхоа. Удостоверясь, что не спрашивала, попытал и о том, присутствовал ли главсерж при их встрече.
– Был, – без охоты ответил Огомий. – Не обрадовался.
Действовать через других, к кому по-особому благоволило начальство, чтобы достичь результатов, было принято среди курсантов и командпреподавателей. На Курнопая выходилидо того часто с просьбами, которые решались запросто, без поддержки, что он бесился от возмущения и нескончаемых «замолвить словечко». Вроде бы не унижаясь, ты унижаешься, и постепенно в тех, перед кем замолвливаешь словечко, увеличиваешь надменность.
В приступе доверительности Курнопай посетовал провиантмейстеру на моральную загнанность ходатайствами.
– Накладные расходы славы, – сказал Ганс Магмейстер и заподмигивал игриво, подстраховывая себя от обвинения в нелояльности: – Не собираетесь ли намекнуть, что господство изуродовано унижением, подчинение – господством? Принцип сообщающихся сосудов. – И пожалел Курнопая, и поощрил: – Ходатай по горестным делам человечества. Почет и расстройство.
Скатился Курнопай до училищной, а может, и державной уловки: попросил Огомия вызвать Фэйхоа. Огомий охотно побежал к костелу, однако Курнопай велел брату стоять. Огомий его подождал, и они, держась за руки, направились туда вместе.
Мановением руки, от плеча до локтя буграстой, как у штангистов, от локтя до запястья конической, как столбик для игры в кегли, а в ладони длинной, как лопасть весла, помощник Болт Бух Грея послал навстречу им телохранителей. Автоматы телохранителей, приткнутые к пупкам округлыми упорами, искрились мушками из нержавейки. Когда между братьями и телохранителями сжалась площадная пустота, кипящая зноем, до десятка метров, помощник приказал всем остановиться, но братья продолжали идти. Тогда он напомнил головорезу номер один, что непослушание державному сержанту ведет к аресту и трибуналу и что в ситуациях, опасных для жизни держправа, к необъявляемому расстрелу.
Курнопай остановился, велел Огомию живенько дуть отсюда. Огомий заупрямился и удивил брата сметкой:
– Без меня тебе не уцелеть. («Что-то он знает, но помалкивает…») За убийство ребенка-генофондиста смертная казнь. И забоятся – я сынок диктатора.
– Кого-кого?
– Папки Болт Бух Грея. Он говорил маме: «Я – диктатор».
– Хоть знаешь, что означает диктатор?
– Папка говорил: «Я всем заправляю».
– А мама что? (Такую отраду отворило в душе слово «мама», будто он выпил ламьего молока прямо со льда огненным летним днем.)
– Мама забоялась за папку. Назаправляешь, сказала, раньше времени умрешь или убьют из-за ревности.
– Ага… Дуй давай отсюда!
Курнопай развернул Огомия лицом к дворцу детей, хлопнул по ягодицам, легонько подтолкнул. Чтобы не дать братишке увязаться за ним, Курнопай быстрым шагом пошел на белое сверканье автоматов. Сразу он услышал кожаный топоток за собой, и едва не сшиб Огомия, который его опередил.
– Благоразумие, головорез номер один, – крикнул помощник. – Ваш вопрос не закрыт. Потомок САМОГО и отец нации Болт Бух Грей милосерден. Жизнь Огомия священна, вы же подвергаете ее смертельной опасности. За гибель Огомия – казнь. Возвращайтесь и ждите высочайшего решения.
– Слыхал, Огомушка? Казнят за тебя в случае чего не их, а меня, так что вали отсюда.
Убедившись, что Огомия не прогнать, а возвращаться обратно самолюбие не позволяло, Курнопай надумал вызвать из костела Фэйхоа. Под предлогом, что ни ему самому, ни телохранителям отлучаться нельзя, помощник отказал в этом Курнопаю.
Тотчас вызвался слетать за Фэйхоа Огомий, но помощник велел задержать мальчишку.
Никогда раньше Курнопай не испытывал чувства мстительности (оно пробудилось впервые) и пригрозил помощнику: если не разрешит Огомию сбегать за Фэйхоа, то он сделает все, чтобы сбросить его в нети. Подрагивавший коленями помощник махнул лопастью ладони, разрешая Огомию проскочить в костел.
В ожидании Фэйхоа Курнопай настроился на то, что она появится из костела ветровым порывом. Все-таки не хотелось допускать, что за время разлуки она о нем не соскучилась.
В КОМ СПАСЕНИЕ?
Книга вторая
1
Двери с витражной вставкой иззолота-темного лика Спасителя не распахнулись, как ожидало взлихораженное сердце. Стальные, удерживаемые магнитами, они еле-еле отставали от косяков. Когда они замерли, неодолимо тяжелые, готовые тупо захлопнуться, он не предположил, что двери открывает Огомий, а подумал, сникая, о внутренней принудительности, с которой выходит к нему Фэйхоа. Разлюбить не могла, но Болт Бух Грей мог ее добиться при злорадной помощи жриц или, может, она не согласна с позицией Курнопая по отношению к забастовке смолоцианщиков и теперь ничего не испытывает к нему, кроме ненависти. Все чувства, убеждали их в училище, подчинительно мелки по сравнению с идеологическим чувством сохранения державы. Чего только не крали у курсантов из истории, но того, что ради торжества религиозно-философских и социально-общественных убеждений люди жертвовали кем угодно и чем угодно, никогда не скрывали. Никто не сомневался в правильности этого, в том числе он, и только сейчас уразумел, что и в этом нет и не бывает законченной правоты, если подходить к личности иначе, чем мы относимся к насекомым: раздавил и без сожаления попер дальше, как танк.
Дверь затворилась, никого не выпустив. Профиль Спасителя, просветлевший до лютиковой яркости, опять окрасился золотой копотью.
Курнопай по-прежнему не отрывал взгляда от двери. Хотя локационная способность разладилась в нем, он воспринимал присутствие Фэйхоа не где-нибудь, а за дверью. Там, за нею, еще кто-то находился, однако его волны не индуцировались на площадь. Их излучение перекрывал биополевой щитФэйхоа. Там, по всей вероятности, находился Болт Бух Грей и не отпускал ее.
Едва в другой раз, не шире прежнего, приотворилась черная дверь, из костела выскользнула Фэйхоа. Умудрилась выскользнуть. Встала недвижно, не то боясь унизить себя преследованием, не то после сумрака (костел был закрыт с введением сексрелигии, как и все католические, протестантские, магометанские, православные, языческие храмы) ее зрение затмил литиевый светопад. За ней из костела вышел Огомий.
Наряд Фэйхоа, лилово-розовый, как грозди персидской сирени, придавал печаль ее облику, словно Фэйхоа вернулась с похорон. До того душеразрывную безнадежность он испытал в недавние дни, что рванулся к Фэйхоа, чтобы уберечь ее от безысходности, но через миг был остановлен отбрасывающим движением ее ладоней, в котором проявился не присущий ей панический страх.
Скоро они уже находились в оранжерейном переходе, и Фэйхоа разрыдалась, чем и вызвала утешительство братьев, пронизанное гневом. Курнопай дал зарок, если Болт Бух Грей оскорбил ее, отомстить ему. Огомий обещал не признавать главсержа за своего папку. В голос она прекратила плакать, но ни слова не могла вымолвить, лишь несогласно поводила головой, и они догадались, что унимают плач Фэйхоа невпопад, и мало-помалу замолчали. Тогда она и открылась, от чего разнюнилась. Она так и сказала: разнюнилась,и Курнопай смекнул, что в годы их разлуки бабушка Лемуриха учила Фэйхоа не нюнить от приступов тоски.
Не оскорблял ее верховный правитель. Не им возбуждена опасность теперешних обстоятельств. Чрезвычайное заседание Сержантитета потребовало от Болт Бух Грея отдать приказ о водворении смолоцианщиков на завод, о полном разжаловании Курнопая и отдаче под трибунал, о неоглашаемом расстреле Чернозуба (этим должно начаться пресечение вольнолюбивого разгула в среде рабочих и студенческих масс), о введении в стране военного положения. Они скоропалительны по причине эмоциональности, тогда как в настоящий момент требуется для овладения народом аналитическая тонкость. Отец Кивы Авы Чел, всегдашнее эхо Болт Бух Грея с их фермерского детства, внезапно выступил с предостережением: нельзя сейчас прислушиваться к доводам державного правителя, он погряз в наслажденчестве и не в силах поднятьсознанием, заземленным на сексуальные извивы и на властительские удовольствия, то, что необходимо стране, чтобы выкрутиться из хаоса и восстановить гармонию. Сержантитет предложил Болт Бух Грею в течение десятой части суток определиться, в противном случае его сместят и вышлют в одно из соседних государств.
Растерявшийся Болт Бух Грей прибегнул к провидчеству Фэйхоа, и она, составив правителю гороскоп, внушила ему, готовому слинятьперед нажимом соратников, пока он контролирует телевидение и печать, незамедлительно объявить о роспуске Сержантитета и обратиться за поддержкой к народу и армии. Болт Бух Грей хотел заручиться мнением САМОГО, да не тут-то было: САМ не ответил. Ни для кого из правителей ни в какие времена не исчезал САМ. В разные эпохи менялись ЕГО установки, но САМ ОН для любого из правителей был вечно ПРИСУТСТВУЮЩИМ. И вот ОН трагически безотзывен. Немилость? Отречение? Опала? Или, что безнадежней, предвестие всенародной катастрофы. Не однажды она читала о состояниях беспамятства, в которые впадают автократы, испугавшись за себя. Это состояние она назвала «спазм потери власти». У Болт Бух Грея тоже случился спазм потери власти. Она, чтобы он очнулся, вызвала вертолет и приказала пилоту лететь сюда, где в костеле находится тайная аппаратура для связи с великим САМИМ. От подъема в воздух спазм ослабел.
К средине пути, увы, Болт Бух Грей отдал перестраховочный приказ арестовать смолоцианщиков во главе с Чернозубом, а также с их попустителем генерал-капитаном Курнопаем. Она, у которой нет человека родней, чем Курнопай, рискнула вызвать в Болт Бух Грее уязвленность. Наслажденец, мягко сказать, растлитель, притворяется первым государственным деятелем. Как он бесился?! Стакнулась с завистниками из армейской мелкоты, самопожертвования не оценила – пальцем не притрагивался, любя ее одну, соперника возвысил до небес, оберегал, как не берег себя, дважды спас от смертельной кары.
Ничтожно он повернулся.Давай-де нырнем в Мимасо. Граница довольно близко. Оттуда улетим в Женеву, куда отправил в начале года сбереженья. Они скромны, зато никто не придерется из государственных и международных юристов: из казны не взято ни монетки. Обоснуются на юге Франции, купив виллу и виноградники. Ведь, право слово, как говорит его отец, он виноградарь от природы. Ему ведом тайный мир лозы.
Фэйхоа ему: «Себе покой и негу, самийцев – под сапог молоденьких хлюстов, в огонь братоубийственной войны. Я скорей погибну, чем родину оставлю в трагическую паузу. Мне только бы склонить страну к спокойствию и очищенью».
Своеволие соратников затмило веру Болт Бух Грея в счастливую развязку смуты. Борьба за перемены и хотенье перемен – всегда для предержащих смута. Фэйхоа не согласилась народное сопротивление под смуту подводить, как бы ни думали убогие чины, усевшиеся в кресла воротил. Ему на то, что сдвинулось в стране, смотреть лишь можно как на необходимость высветления судьбы самийцев. «Смогу я высветлять народную судьбу через насилие, в союзе с держсержантством», – втемяшилось ему в сознанье, закрученное страхом, как тайфуном. Насилие – ухватка деспотических режимов, обычно приносящая и власть, и славу тем, кто шел на адские кровопусканья. А миром порешить судьбу народа – опасный путь, встал на него – потеря власти. Усовестить хотела Болт Бух Грея: время ль думать, утратишь власть иль сохранишь? Умри, уйди в ничтожность, но сохрани народ. Хы, сохрани народ? Да он же, тот ее народ, он истолкует жертвенность как подлость, и, не чихнув, спокойненько забудет.
Спорили, срываясь на крик, до мига, когда она, чумная от безнадежности, рванулась из костела, чтобы хоть одним глазком взглянуть на Курнопая, а там – и смерть ей в радость.
Как вырвалась за двери храма, явилась ей решающая мысль (она подумала, что осенило не без влиянья САМОГО), что человечество течет двойным потоком: поток мортистов («морт» по-латыни «смерть») и витовцев поток, а «вита» – «жизнь». Мортисты устраивают жизнь и управляют ею средствами убийства: убийства тела и убийства духа, но только не себяубийства. Себе они, конечно, – процветанье и жадно потреблять земные удовольствия, в историю внедриться под видом благодетелей народа и человечества. Кто витовцы? Увы, их было мало в сферах управленья людского бытия. Простонародье – земледельцы, кустари от шорников до мастеров игрушек, рабочие индустрии – несметные массивы витовцев. Жизнедающий мир, жизнедержащий, жизнеспасительный, да горе – он подчинителен издревле мортистским семьям султанов, цезарей, князей, миллиардеров, фюреров, премьеров… О, мортисты – искусники по части психологии. Ласкают витовцы в сердцах идею самоотреченья и бескорыстных подвигов. А кто внушил? Мортисты. С актерским благородством! Она осмелилась сказать главсержу, что он пока мортист, хотя и от рожденья витовец. Ну сохранит он власть, вконец спаявшись с держсержантством. Ну замаскирует в годах преступные удары по народу. Но рано или поздно его разоблачат и проклянут. Вот пусть откроет себе возможность к витовству вернуться, державу витовцев создать. С тем она и выскочила из костела.
Что Болт Бух Грей надумает?
В обнимку стоя перед кустом форзиции, где желтыми крестами горели свежие цветы, они не ждали счастливого исхода. Огомий, кто душою принял печальное волнение Фэйхоа, подкрадывался к синему шмелю, чтоб высмотреть, куда он прячет жало. Он палец приближал к шмелю и ерошил ему загривок. Рассердится и жало обнаружит. И рассердился – ужалил в палец. Когда от яда, подобного разряду молнии, Огомий беспонятливо вертелся, в дали оранжерейной дымки возник его отец и крикнул:
– Я с вами, Курнопай и Фэ, и ты, наследник мой Огомий! За нами САМ и весь народ.
2
Как и тогда, возле храма Солнца, Болт Бух Грей вершил суд в одиночку. Правда, здесь был свидетелем Курнопай, почему-то названный диктором телевидения почетным.Он сидел справа от Болт Бух Грея, Фэйхоа, объявленная тем же диктором советницей-гуру державного правителя, – слева. Свидетели со стороны армии сидели наискосок от Курнопая, свидетели со стороны народа – наискосок от Фэйхоа; в переднем ряду, в форме державного медика в ранге министра – перламутрового батиста колпак с машинными отпечатками тела мужчины и женщины, какими они воспроизводятся в анатомических атласах, красный халат, голубые брюки, белые сандалеты – сидел врач Миляга. Среди народных свидетелей находились Кива Ава Чел и Лисичка. Голову Кивы Авы Чел охватывал золотой обруч, но теперь он был усеян цейлонитом, который, не лучась, таинственно зелеными тлел угольками. Кива Ава Чел, едва Курнопай встречался с нею взглядом, вытягивала пухлые губы, будто нацелованные, и что-то непроизносимо говорила, напоминая о пещере, где вроде бы принес ей счастье. Эх, мог бы принести, да не желал. Не без укора и раньше в холодке души затепливалось чувство. Что в нем возникало – не поддавалось логике. Пусть благодарность (пренебрегла Главсержем), пусть породненность (а что такое близость, как ни момент, которым началась единокровность тела, духа?), пусть неотделимость судеб (покуда живы, их память обоюдна) – и тем не менее все это к черту…
Рядом с Кивой Авой Чел оставалось свободное место. Туда, угибаясь, прокралась бабушка Лемуриха. Курнопай соскучился по бабушке, да подосадовал на нее. Слишком уж угадывалось в угибаниях намерение подластиться к властителю, будто бы она страшно виноватится за опоздание. Был в училище курсант, умевший заискивать и тогда, когда находился в строю и командпреподаватели к нему не обращались. Опальный Ганс Магмейстер дал определение этому виду заискивания солнечного раболепства:просят или не просят – все равно лезет в глаза со своей всеугодливостью. Солнечным раболепством шибало от того, как кралась меж рядами бабушка Лемуриха. А в том, как она сразу вольготно ощутила себя – ее опоздание не вызвало неудовольствия Болт Бух Грея – и сверху вниз запосматривала на генералитет, Курнопаю открылась в ней уловка, присущая придворным, которые признают за людей только предержащих лиц, а всех остальных подчиняют собственному влиянию надменностью повадок, ненаказуемым панибратством.
«Избаловалась. Приспособленчество наоборот, – печально подумал Курнопай и опротестовал сам себя: – А на телестудии?»
Вот по бабушкиным губам он распознал, что не прочитывалось по губам Кивы Авы Чел: «Беременна Кивушка-то!» Не уверясь в том, что Курнопай понял, она выкруглила ладонями Кивушкино брюхо и рассияла.
«Чему радуется? – Курнопай был огорчен и тут же спохватился. – Лажа. Поддалась влиянию прихвостней. Эх, бабушка, бабушка!..»
Центр обширного просвета между рядами свидетелей от армии и от народа занимали подсудимые. Шестнадцать человек, одетых в сажево-черную одежду арестантов, вместе с четырехугольным ограждением из мореного дуба походили на куб, верхнюю часть которого, как бы слегка поднятую над деревянным квадратом, составляли колпаки, лбы, глаза. В переднем ряду сидел Бульдозер, обросший бородой, по-ассирийски заплетенной в тонюсенькие косички. Узор бороды, выпущенной за барьер, достоинство величественного лица соотносили его с барельефной скульптурой царя Ашшурбанипала. Неподозреваемо меняются люди. Когда скользили над океаном и, увы, не любовались тем, как судно распластывало плотный мехтумана, Бульдозер был мрачноват, рефлектировал из-за трусливой осторожности, и, поди-ка, едва Болт Бух Грей издал приказ о роспуске Сержантитета, возглавил мятеж за восстановление деятельности Сержантитета под предводительством Ава Чел Брукса. Поднявшийся на смотровую площадку правительственного небоскреба Ав Чел Брукс прокричал в мегафон для ближних площадей и проспектов (радио и телевидение контролировали головорезы из войск морской пехоты, подчиненной лишь одному Главсержу) о том, что революционный орган руководства, новаторски найденный в условиях свержения Главного Правителя, продолжит исполнение обязанностей, затвержденных великим САМИМ и сегодня опять им одобренных. Он же, ради усовершенствования аппарата власти, посоветовал ввести вместо поста Главсержа, как не зарекомендовавшего себя современными контактами с многомиллионными массами граждан и гражданок, двуединое сопредседательство в лице его, Ава Чел Брукса, и главнокомандующего войсками ВТОИП доблестного мудреца Бульдозера. Союз предводителей державы и воинского руководства промышленным трудом призван обеспечить движение общества к благополучию и взлету.
Ошибка Ава Чел Брукса и Бульдозера заключалась в том, что они попытались сохранить ненавистный самийцам орган хунты нижних чинов без обеспечения политических и экономических перемен. Власть, давшаяся им легко и не встречавшая противодействия, гипнотизировала их: представлялось, что, как и раньше, она сама по себе обеспечит им господство. Они ориентировались на машинальность подчинения, присущую народам во все эры человеческой истории. Революции эпизодичны, потому тревожиться не о чем, особенно же в условиях, когда отторгнутый хунтой главарь улизнул из столицы. Осведомленный о мятеже, затеянном Бульдозером, а также о том, что Бульдозер стакнулся с Авом Чел Бруксом, главсерж выступил из тайной телестудии, находившейся в соборе, с обращением к народу. Благо текст обращения был заготовлен Фэйхоа в тот день, когда забастовали смолоцианщики, и в резиденцию пришла шифровка, извещавшая Болт Бух Грея о требованиях рабочих. Тогда Сержантитет вел себя подчинительно по отношению к своему верховоду. Обращение шло от имени САМОГО, ЕГО потомка и вождя Самии Болт Бух Грея. Изъятый из обращения Сержантитет он решил не свергать – распустить якобы на основании закона. Роспуск Сержантитета устранял враждебный народу орган насилия, мишень для ненависти. Шаг Болт Бух Грея воспринимался как деяние справедливца, которого подвели соратники. Не лишенный проницательности, Болт Бух Грей, несмотря на то, что колотил его колотун («Смахнут, как мы смахнули Главправа и предадут надругательству тело, расхлестанное автоматными очередями и прожженное из термонаганов»), похмыкал над сладкой верой народов в благие намерения и добрый гений самых разорительных, самых убийственных, самых коварных тиранов. Перво-наперво в его обращении объявлялось о запрете медицинского препарата антисонина, а вследствие этого – об отмене курса на три «Б»: БЕССОННОСТЬ, БЕСКОРЫСТИЕ, БЕСПЕЧАЛЬНОСТЬ. Дальше давалось право супружеским парам на возврат к семейной жизни, на шестиразовую, по восемь часов, трудовую неделю и на возобновление института бракосочетаний в обрядах, нравственных, красивых, неторопливых, сложившихся в тысячелетиях. Сексрелигию Болт Бух Грей не захотел отменить, и, хотя мандражировал, что упускает время, вымарал из текста все, что относилось к ее прекращению. После торжественных слов о восстановлении прежних религий и культов Болт Бух Грей, уже не страшась ничего, сладострастно написал, потом прочел фразу, где продлялось действие любви-религии, обусловленной развитием передовых наук типа философии медицины и социологии моды, а также творческими потребностями раздираемого скукой человеческого сердца.
Так что доблесть Бульдозера, возбужденная тщеславием и скрепленная сопредседательским жестом ретивого тираноборца Ава Чел Брукса, только способствовала спасительному возвышению Болт Бух Грея и теперь дала повод Курнопаю думать о державном правителе при всех его вымороченностях как о единственном из хунты руководителе, способном на благоразумие, пусть и вынужденное.
Перед барьером, по бокам от Бульдозера, сидели монах милосердия и Ав Чел Брукс. Настырная мордочка монаха милосердия, еще жирная в санаторную пору, и то воспринималась как лилипутская, а сейчас она была до жути маленькая, будто побывала в руках горных уругвайцев и ее опять приживили на его туловище. Мины, менявшиеся на рожице монаха милосердия, отражали его брюзгливость, мстительное несогласие, яростную правоту. В санатории для державистов,то есть для тех, кто занимал ключевое положение в своей среде или кому предопределялся высокий чин (объяснение Фэйхоа), на монаха милосердия было возложено Болт Бух Греем слежение не столько за точностью антисонинового режима, сколько за неблагоприятным психофизиологическим воздействием этого препарата на образцовых людей страны. Хотя он не имел причастности к измене Сержантитета и к бунту раскольников-втоиповцев, его снова привлекли:заметь он вовремя симптомы антисониновой усталости и предскажи, какими последствиями они чреваты, не случилось бы ничего непредвиденного. Монах милосердия по-прежнему стоял на том, как показало вторичное следствие, что он отправлял обязанности с непреклонностью, иначе любимчики власти, поощряемые крамольным главным врачом Милягой, совсем бы не кололисьи приучились бы жить не по тем законам, каковые предписывают другим, а по законам индивидуалистического хотения, вызывающего недовольство сословий и приводящего к общественным катаклизмам. Отрицал он и обвинение в непредсказанной им социально-политической ситуации, которая чуть не ввергла отечество в хаос. И не мог предсказать, находясь в условиях для избранных, тогда как недовольства правительственным курсом накапливались в студенческой и рабочей среде. Против этого довода монаха милосердия выдвигалась улика, которую следствие находило неопровержимой: донос на главврача Милягу и головореза номер один Курнопая, едва не приведший их к замурованию. Следствие взывало к монаху милосердия, чтобы признался в халатности по отношению к государственному заданию. В противном случае – высшая мера наказания. Фэйхоа не знала о системе ежемесячных отчетов на предмет лояльности, установленной Болт Бух Греем для гражданских, военных и политических организаций. На термитчиков такие отчеты делал провиантмейстер, отсюда и заискивания командпреподавателей перед ним, а также его всераспорядительность продуктами, приносившая ему обильные капиталы. Недаром поговаривали о том, что он владелец фирмы по выделке экзотических кож и мехов. Наедине с Курнопаем он любил поговорить о красоте животных, которых видел во время кругосветного путешествия: о золотых пандах, голубых песцах, утконосах, о газель-дамах, баргузинских соболях, зебрах Греви, тасманийских дьяволах, о вилорогах, бородавочниках, каланах, массайских жирафах, гиббонах «вау-вау». Не обладая хлебосольностью и приятными манерами провиантмейстера, монах милосердия строчил отчеты, первостепенным условием коих (установка Главсержа) должна была быть холодная беспристрастность. Службисты, подобные монаху милосердия, запираются, отметая вину, до самоотрицания, потому и способны прибегнуть к разоблачениям секретных предписаний. Неприязнь Курнопая к монаху милосердия не мешала желать ему мужества, которое хоть в чем-то покажет Болт Бух Грея, вышедшего из событий незапятнанным, как не такого уж ангельски чистенького деятеля.
Достаточной ясности об Аве Чел Бруксе у Курнопая не было. Согласно недавним показаниям, он станет сетовать, что не сумел уловить завершения курса на три «Б» и усомнился в социально-исторической чуткости своего вождя, кто без отлагательства придал державному кораблю новое направление, притом спасительное.
По внушению дочери он будет толмить тоном невинно-заблудшего руководителя фразу с ловким подтекстом:
– Все мы оказались близорукими, кроме держправа Болт Бух Грея.
Еще утром Курнопай был убежден, что эту фразу придумала Кива Ава Чел, но сейчас он подосадовал на собственную непрозорливость. Глупындревич он глупындревский: автор-то сидит рядом. Ему сделалось до того обидно, что взбрендилось написать об этом Фэйхоа, а записку не свернуть, чтобы содержание, прежде чем передать ей, успел схватитьцепкоглазый Болт Бух Грей. То-то взбесится присвоитель общей славы. Народ ощутил смертельную непосильность существования, чему хунтисты сразу дали фигуральное определение: «Пираньи контрреволюции нацелились сожрать правительство!» А теперь вся пресса только и вещает о том, что почти постоянно Болт Бух Грей находился в оппозиции к Сержантитету и через своих сторонников из среды армии, трудовых классов и студенчества вздыбил цунами общественного недовольства, и народ торжествует. Что торжествует – не уточняется. Уточнением легко побудить кого-нибудь из пытливых журналистов, телеобозревателей, политических комментаторов к выявлению причинных связей между тем, что было и что сталось. И откроется: народ торжествует по поводу того, что его великолепно надули. Так пускай он предается неведению и социальной эйфории. А отсюда, с суда века, по справедливости втемяшат ему, сидящему перед телевизорами, что торжествует он, прежде всего, благодаря гуманизму и чуткости Болт Бух Грея. И начнется это с фразы: «Все мы оказались близорукими, кроме держправа Болт Бух Грея!» То есть не только Сержантитет, но и все-все, включая Ковылко и смолоцианщиков, генерал-капитана Курнопая, прозорливую Фэйхоа, сумевшую преодолеть растерянность Болт Бух Грея…
Болт Бух Грей не начинал суда из-за того, что ему не нравилась колористическая настройка телевизора, где на экране был виден только он. Еще вчера, когда они втроем обсуждали возможный ход суда и наказания, Курнопай обратил внимание на то, что в картинной шевелюре властителя как бы проточилась через весь кумполлегкая струйка седины, а сегодня она уже вилась яркой полосой со лба на затылок. Вероятно, он находил тускловатым мерцание седины. Надо было, чтобы седина ослепляла, как автомобильные фары в темноте. Тогда, мол, врубитсяв сознание народа, ценой каких переживаний далась победа над его врагами. Полоса обозначилась подобно тропинке высоко в горах в минуты первоснежья, но блеск так и не появился, и Болт Бух Грей, на миг отключив изображение и звук, крикнул настройщику:
– Выметайся отсюда, ничтожество нерадивое!
Едва тот побежал из зала, страшась жестокой кары, Болт Бух Грей забормотал: «Общество… Никто ничего как следует не умеет… Общество дегенератов, ничевоков, расхитителей, гурманов, бездельников… И туда же – против политики обогащения генофонда».
Даже среди кораллов лагуны Фэйхоа не было такой беззвучности, какая установилась, как только сомкнулись за теленастройщиком двери зала. Люди, находившиеся в зале, были при крупных чинах. Большинство из них, не причастное к сановной деятельности до свержения Главправа, пользовалось после революции сержантов правом критической неприкосновенности: подчиненным и прессе запрещалось их изобличать за служебные преступления, даже затрагивать шутливым намеком за недобросовестность, согласно устной аппаратной инструкции, по догадкам, исходящей от САМОГО и от верхов, заслуживших у него персональное доверие. Теперь они, кто привык не сомневаться в своих достоинствах, восприняли выражение правителя: «Никто ничего как следует не умеет…» – как политическое и поворотное. Они приушипились(словцо бабушки Лемурихи обозначало три оттенка единого человеческого состояния – рассеянную пониклость, печальную сосредоточенность, интуитивное прозрение близкой беззащитности), потому и установилась такая телесная и воздушная немота.
В грубой, не свойственной Болт Бух Грею повадке почудился Курнопаю психологический прессинг, изобретенный Гансом Магмейстером.
– Справедливо я изрек или нет? («Он, прессинг») – спросил Болт Бух Грей и огнеметным взглядом оглядел зал. – Справедливо ли? Кто за это – поднимет руку. Право на голосование предоставляю всем. («А здесь уж принцип всевозможности, внушаемый заглавным чинам, народу, соратникам, армии».)
Будто по команде выставились руки над стрижеными головами преступников. Улыбка торжества отворила помидорно-красные губы Болт Бух Грея. В миг, когда на его отклячившуюся от растроганности губу выкатилась слюна, Бульдозер опустил свою руку на барьер, и она, с ладонью напряженно загнутой книзу, походила на топор, которым делают подсечку на коре сосен.