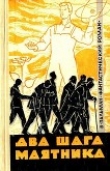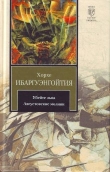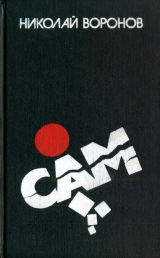
Текст книги "Сам"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц)
И вдруг Курнопай почувствовал, что непереносимы больше события этого дня. Он должен исчезнуть отсюда, чтобы не приняться полосовать вогнутым ножом всех, кто накинется на мясо бизонов.
Пока он укреплял в душе решимость – взять и сбежать, черные жрицы подхватили его и понесли, чтобы усадить в кресло, подобное планете Сатурн с кольцом. Еще издали он начал просить Болт Бух Грея ради доброго исхода праздника отпустить его к океану. Тот, следя за блондинками, вчера изгнанными, а сегодня несущими серебряные котлы, всклень налитые густым алым зельем, не остался безразличен к словам Курнопая. Он угрюмо заметил, будто бы опасается задерживать народного любимца в застолье: Курнопай может зарезать его, хотя полчаса тому назад назвал отцом нации.
Болт Бух Грей ошибался, предуготовив ему роль своего убийцы. Курнопай даже в состоянии умопомрачения не мог ударить человека, однажды умственно его изумившего.
По-мальчишески сердито Курнопай буркнул, что при всем при том он гораздо благородней, чем это может представиться прозорливцу.
Черные жрицы отгородили застолье от толпы прозрачным пластиковым забором. Сверху они натянули тонкую металлическую сетку. Как индеек, кшикая, они выгнали за забор блондинок, и те, заигрывая с породистыми юношами, начали слоняться перед толпой. Что-то от охранниц было в их шагах. Когда в кольцо воздуха между забором и толпой заскочил вихрь, под хитонами блондинок, им раскинутыми, оказались крошечные никелевые автоматы.
Верховный жрец притронулся к золотому ковшу. Толпа принялась щелкать ладонями. Славила Болт Бух Грея. Чудная невообразимость была в ласкательных именах, которые выкрикивались: Бриллиантовый Леопард, Горный Тур Величья, Голубой Водопад Солнечной Эпохи, Вечный Активист Генофонда. После кратких пауз мощно скандировалось: «О-тец нацьи, о-тец нацьи!» – но это почему-то раздосадовало Курнопая.
Славили Курнопая, Милягу, посвященок. Ужаснувшись тому, что забыли о САМОМ, Курнопай воскликнул:
– Да здравствует великий САМ! – и встревожился: «Скоро, наверно, все имена наглухо закроет имя Болт Бух Грея?»
САМ, похоже, возбудил в нем мысль о несуразном поведении. Ему подумалось: «Болт Бух Грей – император удовольствий, а его чествуют. Миляга и я счастливчики, нас – тоже. Посвященки из выкормышей неги окутаны маревом счастья, им – обожание. А сами-то массы? Счастья у них пылинка, обездоленности с лихвой, а мы их не славим».
Вскочил Курнопай, гаркнул, перекрывая взлохмаченный ор толпы, аж в двенадцатиперстной кишке засвербило от истошности:
– Сы-лава ны-ароду САМ-МОГО!
Ответом Курнопаю было задорное содрогание неба и земли.
По ритуалу верховный жрец после дотрагиваний до паха посылал пастве воздушные поцелуи. Наступило молчание. В долине до того стало тихо, что было слышно, как отражаются солнечные лучи от храма и человеческих голов.
Болт Бух Грей заговорил о верности. Ею-де крепнет нерасторжимость САМОГО и его наместника в стране, слитность Сержантитета и народа, спаянность всех граждан отечества. И ею, верностью, крепнет любовь. Не просто любовь – с большой буквы. Поскольку он, Болт Бух Грей, единственный, за исключением САМОГО, теоретик сексрелигии, он обязан провести различие, дабы не порождалась путаница между любовью с большой буквы и обиходкой, то бишь повседневным, как еда, зоологическим чувством, точно названным сексом. Любовь с большой буквы предполагает неизменность женщины своему владыке – мужчине. Тут, надо подчеркнуть, он развивает известное положение «Кама-Сутры». Другое положение, где утверждается, что мужчина раб любви женщины и верен ее богу Кришне, не ей, а ее богу, он, верховный жрец, обогащает чистой сущностью. Любовь с большой буквы осуществляется взаимной верностью. Мужчина, исполняющий долг посвящения, не является изменщиком. Что касается секса, здесь сверх приемов «Кама-Сутры» он не имеет добавлений. Так вот, он хочет сказать народу, что Самия объявляет любовь Курнопая и первой советницы держправа Фэйхоа любовью с большой буквы. Он смеет сознаться перед народом в том, что, питая влечение к Фэйхоа и делая все необходимое для улучшения генофонда нации, он пожертвовал ее головорезу номер один. К любовной верности Курнопая можно с убежденностью добавить его верность идеалам САМОГО, ему, потомку-наместнику САМОГО, армейской клятве, и в общем. Что бы еще он отметил в праздник посвящения? Сегодняшний энтузиазм продемонстрировал верность самийцев сердцевиннейшей из религий. Докладывая САМОМУ о празднике, он заверит его и впредь спокойно полагаться на потомка-продолжателя, Сержантитет, на всеобщую сексрелигиозность народа Самии, равную национальному патриотизму.
Болт Бух Грей предложил причаститься к напитку посвящения, сделанному по его рецепту на крови зубробизона, кагоре, толченом рубине. Пьют посвятители, за ними – посвященки, далее – остальное застолье. Представители самийских масс покамест выпьют в своем воображении. Позже, при выходе с территории храма, каждый причастится рюмкой этого напитка.
Вслед за причастием Болт Бух Грей поцеловал Курнопая в подбородок, сказал, что к океану он поедет на его белом автомобиле, напоследок шепнул, что всем сердцем завидует ему.
Ехал медленно он и рванул вдруг на всех скоростях, словно кто-то ее мог похитить. Дымка близкого к океану каньона просквозила из ущельной своей низины, и невольно он тут тормознул.
Арабиса белые венчики возникли на кромке обочины, а дальше была пустота. Случайность спасла или САМ уследил, что погибнуть он может: левей повернуть ни за что б не успел. Ладно, ладно, чего уж там каяться. Постыдство последних событий нелепо аукнулось в сердце.
33
Холод вознесло по белесой стене ракушечника. Из нее выступали винтом панцири древних моллюсков. Долго ли, мир, ты продлишься? Люди долго ль продлятся?
Ярким таким же днем кто-нибудь наклонится над срезом дороги, где все тот же арабис цветет, и обнаружит угрюмо стену из человеческих костяков.
Дьяволиадностью зараженные, мы беспечно природу хороним, а она все равно в отложения нас, в отложения запечатает вместе с камнями. Вот и получим мы герметизм.
Оголтелая скорбь улетучилась из души. Дана еще людям возможность оставаться на свете. И ты – лишь случайное проявленье единства различных полов, созерцаешь невинный арабис, каньоны, вдыхаешь туманный поток пропастей на пути к небывалой, которой, к печали, не повториться в веках, к почти неизведанной Фэйхоа.
Исключение ты, раз не стала чужой, Фэйхоа, странно преданная для времен, в чьем потоке на стрежне бесправие тела, кощунство над внутренней волей, столикость, в оргазм заключенная вера, немилосердие к правде и чести…
Одиночеством накатил готический склон в глаза. Обманулся? Ты весь поглощен собою, своим, а то ведь могла просто спускаться женщина из селенья в селенье. До чего же мы крутимся сами в своем? Ах, проклятье, не научимся мыслить себя среди множества целей и бессчетных существований.
О, за кедром желтеет полоска одежды. Затаилась. Пускай обомрет от испуга, что скрылась, подразнив его сердце. Аравийка, балийка, японка, да ты все девчониста в милых повадках, а его-то мальчишество испепелилось в термитном огне.
Аукнул. Теплея, вернулся из гор его собственный зов. Ярость радости оборваться просилась в рыданье. Лихорадочно вдруг повернуло к соседнему кедру. Ослепило сиянием жемчуга. Увидел истомленное мыслью лицо.
До чего же родные глаза эти карие с апельсиново-тонкой оранжевостью белка и ложбинка меж крыльцев, угловатых и гладких.
Льдом, о, САМ, о, великий отступник от душ человеческих, отдает ее грудь, позабывшая поцелуи. Никакие идеи, как бы ни были оправдательны, не заслуживают уваженья, если девушка честности все еще не жена. Исполинскую нежность он ей принесет, пусть она отливается в спелых, как манго, детей.
Коричная коричнева подевалась куда-то. И тело ее белоснежно теперь. Овдовелые женщины, где-то читал, высветляются духом, и взором, и телом. Лишь познала его, и разлука на годы. Почти что вдовство.
Ах, какая неистовая приспела любовь. Милованья откроют ему до кровинки, до жилки, до косточки всю Фэйхоа. Не забыт аромат этот ласковый, учащающий пульс, – земляники и ананаса со сливками, аромат Фэйхоа.
34
Холодком предвечерним их встречал океан. Отдельность свою он чувствовал, отражая их в фиолетовых водах прибрежья. Ликовали они глазами, поворотами плеч и поступью, всем своим состоянием обоюдности, возникшей затем, чтоб завершиться бессмертием.
Агавы, обложенные каменьями, тянули к тропинке медные трубы цветов, и мерещилось, что исторгнутся звуки из них, подобные кликам в стаи сбивающихся лебедей, почему-то кружащих в беззвездные ночи над океаном.
Включив нажатием клавиша электромотор, Фейхоа направила катер к хрустальному маяку. Шелест воды, завихриваемой винтом, не заглушал ее голос. Завораживал он Курнопая своими мелодиями, подобными пению иволги. Она увлеклась изучением неба. Нужно было узнать созвездия зодиака, чтобы навостриться в составлении гороскопов. Главсерж и приспешники, волнуясь за власть и себя, стали впадать в оккультизм. Она не астролог, а пифия. Предсказания охраняют ее независимость.
– Эх, здорово!
– Кстати, от самодовольства освобождают туманности. Когда я впервые навела телескоп на скопление звезд в Андромеде, подумала: «Да чего мы кичимся друг перед дружкой, изображая величие, обеспеченность, бессмертие, красоту? Пыльцою вселенная видится. Самые крупные звезды ее гораздо светимей и жарче, чем Солнце… То кто мы? Невидимость, невидимей микромира». Гороскоп отражает сомнительность свойств у планет и созвездий. Пока мы не ведаем о влиянии звездных скоплений на нашу планету и влияния Солнца на планету и нас не умеем постичь. Изображать из себя оккультистку, направлять Болт Бух Грея и его окруженье – хитрить, скажет он. А пристало ли честной натуре хитрить? Ради добрых надежд надо в мире хитрить, потому что злонамеренность на планете изощренно лукава. Бесхитростные аистята становятся жертвами аллигаторов. Сроду искренностью и простотой народы гордятся. Таится погибель в откровенности для народа в те эпохи, когда он доверчив. А впрочем, он обычно неосторожно доверчивый. Ясно, бдительные народы бывали и есть, но, чуть что, лишь едва зазевались они, властелины ввергали их в черный обман – столетья недоли. Кабы обманы не являлись извращеньем сознания, где за святыню – подлог и бойням кровавым придается возвышенный смысл, то тогда бы на простодушие она не глядела как на опасную выморочность. Но пускай он не думает, что нет у нее догадок о влияньях созвездий и Солнца, спутников и планет на Землю и человечество.
Нежность от присутствия Фэйхоа, оттого, что недавно подчиняла себя его чувствам, и, конечно, оттого, что мог он в любое мгновение призывно скользнуть ладонью по щеке ее гладкой и притянуть в поцелуе и унести на руках в салон, и она и не вспомнит за ласками, что мчатся они на маяк и вот-вот разобьются. Из-за этого не вникал в заботы ее ума, хотя были ему сродни.
«Астрологиченька вынужденная моя, – он страстно подумал до пресеченья дыханья, – страдание мысли людской совсем исчерпалось. Наслаждение чувства приспело, неотвязное, как простоватая честность народных людей. Наслаждение, что впадает в насилие, как победить его людям, ему?»
Странным Курнопаю не показалось собственное побуждение, и совесть себя не обозначила, когда, отключивши мотор, он вскинул ее на плечи, будто рыбак марлина, и спустился в салон, где держался полосчатый сумрак из-за опущенных жалюзи. Ожидала, должно быть, что он проявит бизонью безудержность? Ни обиды, ни робости он не заметил: готовность, равную ненасытимой его охоте.
…Океан выстлался перед закатом.
Растерян был Курнопай внезапно: в лед, да и только, вмерз их катер. Уста, пересохшие от поцелуев, на губах даже ощущались пленочки заусениц, прошептали ошеломленно:
– Океан бездыханный!
Тотчас к нему выскользнула Фэйхоа. От бортов отслоились круги, но быстро сгладились, и снова обозначилась прозрачная отверделость.
В отличие от губ Курнопая, губы Фэйхоа росно мерцали, как на горах утрами горицветы, оттенком в гранаты Бразилии. Ни разу она не видела океан застылым и с безотчетностью повторила слова Курнопая: «Океан бездыханный!» – и Курнопай услыхал влажное, электрически соблазнительное пошелестывание губ Фэйхоа.
А едва началось движение воды, они изумились тому, что присутствовали в точке такого покоя, который как гармоническое равновесие между ними и катером, катером и океаном, океаном и земным шаром, планетой и Солнцем и, пожалуй, между Солнцем и нашей вселенной.
Краснотой предзакатности пронимало маяк, из-за чего в нем стала еще черней спираль лестницы из чугуна. Радостно они проскочили шлюз и, глядя на замкнутую дугу мола, кричали:
– Свобода! Свобода!
Океан устремился к берегу. Течение, а шли они наискосок ему, было единомассивно: ни потока, ни струинки. Катер сносило, и, чтобы не напороться на риф, оба зорко замечали, дивясь быстроте воды, как длинно она вытягивает канаты разлохмаченно-пестрых водорослей и как, не поддаваясь приливу – подхватит, завертит, раскромсает о рифы, впарывались в него сарганы, барракуды, акулы, дельфины, зубаны, макрель, лунорыбы.
Опасность мешала им разговаривать. Если бы даже не нужно было проявлять осторожность, то и тогда бы они больше молчали – очнулась душа Курнопая для стыда и раскаяния: «Бесновался…» – а Фэйхоа печалилась о безудержности Курнопая…
Пересекая залив, въехали в тень сизой горы. Гора называлась Двуглавой. Ни в чем Курнопай не искал сходства. Его глаза, истосковавшиеся о природе, где не обозначало себя присутствие рыбаков, сборщиков водорослей, камнетесов, упивались скольжением волны и перевивами ее цвета, ловили, словно могли отснять, виды воды и земли, куда вставлялись, как в кадр кинокамеры, то альбатрос над винтовым горизонтом, то пиния, выросшая на зубце скалы.
Но едва очутились в тени, Курнопай уподобил гору мужчине и женщине. Сидят около океана, приникнув друг к дружке; им уютно, счастливо, настолько уютно, счастливо, что живут они лишь самими собою; и если чудится, будто задумались об океане, то это от сумерек: начальная темнота всему придает думный облик. «Как хорошо им! Вместе всегда бы и всегда воедино. А у меня? Что у меня? Всего лишь легкий вдох ненадежной свободы».
И сердце прожгло тоской, будто один он теперь, дни встреч оборвались, возвращается в армию. А Фэйхоа-то сидела рядом, на корме. Печально он повертел склоненной башкой. Чистое наваждение – поступь его сознания. И все-таки надо было удостовериться в том, что он не отозван из отпуска, не один, а вместе с заветной своей Фэйхоа.
Курнопай приник щекой к ее нахолодавшему плечу. Фэйхоа отклонилась. По-детски пожаловалась:
– Больно.
Рывком притиснул ее к себе, уткнул подбородок в плечо как раз над острыми косточками, где оно смыкалось с предплечьем.
– Пусти.
– Не отпущу.
– Вонзилась щетина.
– Неужто!
Она (откуда берется при боли женская нежность) чуть-чуть провела кончиками ногтей по его щетине. Он услышал потренькивание и замер. И запрядали пальцы по щетине. Как прыгучие звуки цитры звенели они для Курнопая и уносились по ветру, сплетаясь с контрабасным брунжаньем мотора, с валторновым наборматыванием воды.
Подножье горы приближалось. В гротах мелькали летучие мыши, зимородки, бакланы, чайки, зовущиеся бургомистрами за важность повадок и за внушительную величину клюва и головы.
Вода уплотнилась, черна. Брызги, отшибаясь от каменной кромки, глядятся смолой.
Щелкнула клавиша управленья. Мотор, переходя на малые обороты, заворковал.
Впереди из воды выступали скалы, похожие на фрегаты.
Щемящая настороженность возникла в душе Курнопая и вдруг обернулась дознавательским тоном:
– Ты здесь пасешься?
– Что значит «пасешься»?
– Ну, часто бываешь?
– Бываю.
– Зачем же?
Реакция головореза номер один, хваленая-перехваленая на страну, не подтвердилась: выпрыгнула из катера яростная Фэйхоа, а у него и рука не взметнулась для хватки. Исчезла она в воде, и тогда только метнулся он за борт и ринулся на оранжевый неподалеку шелк.
Отвальные волны мешали его погруженью и относили в сторону. Но Курнопай, раздирая тугие потоки, – от гребков пузырилась вода, как от подачи сжатого воздуха, – рвался и рвался на тускнеющие желтые колебания.
Вынырнул. Никого. Собрался опять погрузиться. Появилось ее лицо, не полностью – лоб и глаза. Наверно, предполагала незамеченной скрыться, чтобы проклял напраслину.
Углядев Курнопая поблизости, в отчаянии полувыбросилась из воды. Потихоньку катер двигался на фрегаты. Не того испугалась, что разобьется о скалы (из пластичной стали обшивка корпуса, для подстраховки в бортах надувные полости), испугалась того, что откат от горы тут уходит с такой косиной, что катер обминет камни и подастся в простор океана. Возвратиться отсюда сумеют через хребет. Но на виллу никак не попасть, нужен ключ от нее, – остался на катере, – он же шифр для электронной охраны: прибыли гости,и воспрещающий знак для пограничного патруля – в зоне не появляться.
И метнулась вдогонку за катером Фэйхоа. Не плыла, а бурунила воду, подобно дельфину, когда он, заметив восходное солнце, летит на него, подгоняемый резвостью.
Курнопаю вдруг взбрендилось, вот и отлично, что нежданно суденышку выпала воля. Заточенье лагунное, наверно, осточертело? Закричал он приказно:
– Стой, Фэйхоа! – И едва его голос разнесся по вогнутости горы и раздробился в выси возле голов мужчины и женщины, живущих самими собой, обрадованно заорал: – Ура! Всем троим повезло на свободу.
Но Фэйхоа неслась, догоняя катер, его нос разворачивало на простор.
Сумасбродная щедрость Курнопая пресеклась мигом позже. Стайка рыб проскочила под ним, стукая по ногам. Не впервой это было ему. Мальчишкой, купаясь в накат, попадал в косяки, что кормились на отмелях, мутных от взвеси. Поначалу на берег выскакивал, потом понарошку пугался – дрыгался, отгоняя непрошеную мальтву.
Теперь прознобило страхом. Отвык. И внезапность. И может быть, рядом хищник. Опасность пораскатилась в нем, точно взрыв. Даже поозираться выдержки недостало. Метнулся вослед Фэйхоа. Из торпедного аппарата выметнуло, да и только. После, вышучивая себя, он говорил Фэйхоа, что если б акулы за ним гнались – отстали б в секунду.
Катер развернуло, она выскочила на корму и выдернула из воды Курнопая.
Давая понять, что не простила ему, велела переодеться в спортивный костюм. Каких только не было там костюмов! Отобрал белоснежную водолазку и черные брюки со «стрелками», об которые, как принято было подзуживать в школе над аккуратистами, можно порезать ладони.
Тем временем Фэйхоа причалила катер к мостику и побежала к вилле.
Замерзла. Влажный шелк облепил ее тело и вызывал озноб.
Сияние сарафана, удивительное без электричества и луны, возбудило в нем нежность. Покаялся. Не простила. Дважды перед нею преступник: ладони спалил и усомнился в ее чистоте. Бывает ли горше для ожидания, чем неверие в то, что оно совершилось всему вопреки? Ладони, ладони и пламя на них – вот откуда, наверно, белизна ее тела?
35
Фэйхоа исчезла в коридоре виллы. Курнопай отправился ее искать. Над дверью, где по синему фону было написано темперой созвездие Ориона, горело табло: «Покои только для САМОГО». Дверь с изображением храма Солнца была слегка приоткрыта, хотя над нею горело табло: «Покои Болт Бух Грея». Курнопай решил, что Фэйхоа специально приоткрыла дверь, чтобы он сообразил – можно войти. Через тамбур, где, наклонясь, пронырнул под металлической аркой, похожей на красно-синий магнит, попал в зал для заседаний. Посреди зала возвышался трон резной слоновой кости, возле стен стояли кресла фисташкового дерева; чуть выше каждого из кресел был привинчен медальонный портрет из золота, оттиснутый на чекане, члена или членши Сержантитета, кому предназначалось сидеть на этом месте.
«Чтоб не перепутали», – усмехнулся Курнопай. Внезапно ему вздумалось подурачиться. Он взбежал по ступенькам к трону. Уселся. Трон как под фигуру его подгоняли. Приятно поразился глади и теплоте слоновой кости. Кхекнул, словно Сержантитет лясы точил, забыв о присутствии своего предводителя.
– Сегодня властью, вверенной мне САМИМ, сексдуховенством, моим народом, мы обсудим, как прошло державное посвящение, произведенное персонально мною, моим любимцем генерал-капитаном Курнопой, главврачом государства Милягой. Поелику сан верховного жреца вне обсуждений, попрошу выразить мнение о посвящении, произведенном Курнопой. Есть пожелание попросить родителей Кивы Авы Чел…
Курнопай отыскал взглядом портрет отца Кивы Авы Чел. Кольчатые волосы, четырехугольное лицо, дырочки-ямки на щеках. Перебежал в кресло под портретом. Помялся, не претендуя на готовность к ответу:
– Не могу не посетовать на каприз нашей Кивочки. Она еще спохватится, она еще пожалеет, от какого посвятителя уклонилась. Глупышка лишила себя и наш род возможности причаститься к духу и плоти потомка САМОГО.
Курнопай перебежал на трон и грозно промолвил:
– Но-о… Я засомневался, относится ли вашенская генеалогия к народам рацкатегории.
– Относится, отец нации, всенепременно.
– К народам эмоцкатегории.
– Рацио у нас всегда определяет всех и вся.
– Но-о… – и тут же вернулся в кресло отца Кивы Авы Чел и как бы подхватил грозное «но», однако придал ему интонацию удовлетворения:
– Но, сетуй не сетуй, акт посвящения совершен и не кем-нибудь – любимцем САМОГО, персональным любимцем Болт Бух Грея. Не был бы я истинным приверженцем сексрелигии, выросшей из революции дворцовых сержантов, если бы не отдал должное вашему знанию, повелитель психологических прорв человеческой личности. Посвятитель Кивочки генерал-капитан Курнопай сложился в чувственном отношении по генетическим законам прошлого: он не испытывает полового влечения к той, каковую не любит. Вы поняли это с непревзойденной проницательностью, посему приказали Курнопаю как военному посвятить Кивочку. Ход на грани магии. Здесь вы – неслыханный психолог и невероятный режиссер. Любовь у Курнопая не появилась. Зато, образно выразиться, орудие вскинулось на зарю. Не могу не посетовать, что на долю Кивочки выпала инициатива… Как бы то ни было, посвящение – благодаря вам. Применяя вашу теорию герметизма, с удовольствием говорю, что разгерметизация девственности произведена во имя герметизации общества, народа, индивидуумов. Вышеизложенное заставляет предложить Сержантитету установить главсержу, держправу, верхжрецу звание главного государственного теоретика, главного психолога, главного режиссера. Да здравствует предводитель Сержантитета, гениальный, глобальный Болт Бух Грей.
Ухмыляющийся Курнопай возвратился на трон, вообразив, что обхватил ладонями рогатые висы, твердые и гладкие на поверхности от лака, буркнул, подергивая уголками губ:
– Кто за то, чтобы присвоить мне, главсержу, держправу, верхжрецу, звание главного государственного теоретика, главного психолога, главного режиссера, прошу голосовать.
Не взглянув на Сержантитет, объявил:
– Единогласно. Теперь слово членше Сержантитета, матери посвященки… – Курнопай замолк – наскучила собственная забава.
36
Надо было искать обиженную Фэйхоа.
Из зала заседаний он прошел в гостиную без окон. На стенах серебристый атлас, на нем вышиты голубые сороки, красно-синие зимородки, крапчатые скворцы, на черном оперенье которых зеленый, фиолетовый, коричневый лоск. У всех атласных птиц брачная пора: охорашиваются, обираются, спариваются. На столике возле белой софы лежала стопа красочных книжек журнала «Черная пагода». На каждой из обложек был Болт Бух Грей запечатлен. Он глядит сквозь колесо из песчаника, на спицах которого скульптурные ордера: он свился по-осьминожьи со студенткой из Канады, приехавшей в Самию на сексканикулы; он, бешено нагой, идет по бушующим травам, мерцающим от солнца, к женщине, ждущей на краю пропасти, он закладывает пуму согласно досамийскому культу животных, когда их народ звался чичуд, значит, природопоклонник.
Курнопай слепнул на мгновения из-за темного чувства, которое испытывал, рассматривая обложки. Он зажмуривался, чтобы зрение восстановилось, и тогда слышал набатный звон сердца. Едва прозревал, от прилива крови к вискам боялся сойти с ума.
Курнопаю хотелось впасть в забытье. Он прополз до подушки, уткнулся глазами в ее холодящий атлас. Глаза почему-то заболели на самом донышке.
«САМ, САМ, нужно ли это знать?» – спросил он невольно в своем сознании.
Вроде бы ответил: «Смотри».
В усталой вялости ответа была двойственность. Можно было толковать ответ как напутствие узнавать ради постижения сущностей жизни; могло быть и другое объяснение: смотри-де, твое дело, – выраженное с безразличием изверенности.
«САМ, САМ, к кому же тогда обращаться?»
«Есть к кому».
«К Болт Бух Грею?»
«Разве только властители разрешают сомнения?»
«К Фэйхоа?»
«Не бывает ни для кого из нас важнее любимой женщины».
«И для тебя?»
«И для меня».
«…«любимой женщины»? Ты ведь обретаешься в сферах духовности… Что тебе частная любовь? Неужели она для тебя выше чувства Всеобщей Любви?»
«Одно не исключает другого».
«Неужели тебе до сих пор интересно обладание женщиной?»
«Приятно».
«Кто же ты есть?»
«Нужно ли тебе знать, кто я?»
«САМ, САМ…»
Пространство связи словно бы перекрыло ворвавшейся в него кометой – мысль завихривало, уносило невесть куда.
Осязание атласа отвлекло Курнопая от попытки возобновить общениес великим САМИМ. Отдыхая от сложности, вызванной в сердце ответами САМОГО, Курнопай пообещал себе не обращаться к НЕМУ подольше, пока не иссякнет терпение. А еще он пообещал себе не задавать САМОМУ лобовых вопросов. Вероятней всего, на эти вопросы для народных людей наложено табу! Глупо. Пять лет он прожил в мире запретов, а мозг его ведет себя надзапретно.
Его организм затосковал по антисонину. Хотя рядом не было и не могло быть противного ему монаха милосердия, он, впадая в наркотический транс, мучительно промычал в подушку:
– Ам-м-пу-улу «Боль-шо-го барьерного риф-фа…» Коли – быст-тре-е!
Он приник к софе с предощущением сладострастности. Ужаснулся, что испытывает то, чего раньше не испытывал. Тем более страшным представилось это Курнопаю, потому что где-то поблизости находилась желанная Фэйхоа.
Поднимаясь, он задел рукой что-то жесткое, спрятанное под подушку. Вытащил оттуда книгу в переплете из кожи носорога. Кожа была выделана под песчаник храма Солнца – норчатый, кубастый, бурый. Тот снимок, на котором Болт Бух Грей смотрел между спицами колеса, повторялся золотым тиснением. Название книги было составлено из узорных веточек оранжевого коралла и полированного гагата: «Кама-Сутра». На титульном листе ниже названия давалось уточнение: «Надписи, высеченные на стенах индийского храма Солнца, прозванного Черной Пагодой».
На странице за титулом возникла акварель. Она была легкая, сквозная, лучилась как марево. Чем пристальней Курнопай вглядывался в рисунок, где юноша и девушка, прикрыв светящиеся от нежности веки, соприкоснулись друг с дружкой в чуточном поцелуе, тем отвратительней ему казались события последних дней, чему он был не только свидетель, но и соучастник.
Акварель передавала начало любви, которому чистая застенчивость так же присуща, как невинность солнечному теплу на восходе. Ведь вот они, юноша и девушка, целующиеся впервые, притронулись друг к дружке губами, о, нет, очертаниями губ, а Кива Ава Чел зажирала его губы своими, с виду по-девчоночьи маленькими, целомудренными. Поддаваясь ей, и он зверел. Ее насильничество, кажется, приживилось в нем. Как он заламывал Фэйхоа – стыд, стыд. Акварель называлась «Наслаждение ароматом цветка». Как справедливо, тонко, спасительно. Ой, спасительно ли?! Болт Бух Грей много раз, наверно, любовался рисунком, но что изменилось в его натуре? Да и ему, даст это что-нибудь ему? Сейчас думает о бережной ласке, а наступит время близости, будет бесноваться наподобие барса, который настиг и загрыз муфлона.
Да и любит ли он Фэйхоа? Тогда пытка, поругание – что? Погоди, неужели акварель всего лишь райский вход, за которым находится преисподняя? И неужели детство – святое преддверие жизни перед ее адом?
Курнопай робко переворачивал страницу. Увидел золотой посев букв, растущих на ровном поле шершавого песчаника, осмелел и обрадовался, прочитавши знакомые слова: «Женщина создана для мужчины и должна быть ему верна. Мужчина – властелин женщины и раб ее любви, он верен ее богу Кришне, которого познает лишь посредством любви».
Подумал, как будто не сам, а кто-то внушил ему это извне.
«Мужская уловка для неверности. Она-де ему верна, он – только богу ее, Кришне. Ну и ну, мужички!»
«Познавай «Кама-Сутру» лишь с тем, кого желаешь». (Этих «кого» у людей болтбухгреевской породы несть числа. Предписание для бесстыдства.)
«Кама-Сутра» требует всей жизни. Познание «Кама-Сутры» бесконечно, как бесконечны блаженство, идея познания бога Кришны».
(Стройное соображение! Как жаль, что он не имеет глубокого представления о Кришне.)
«О «Кама-Сутре» не говорят, но отдают ей всю глубину души и тела».
(Почему не говорят? Запретно? Невыразимо? А, о таинствах не говорят! Молчат же святые отшельники о духовном соитии с Богом. Вероятно, молчит Болт Бух Грей о духовном соитии с САМИМ? Может, в том, о чем молчат, есть приятность для посвященок и неприличие для непричастных? Отдавать всю душу «Кама-Сутре», выходит, обездушивать ее. Да, пожалуй, потому что «Кама-Сутре» не отдают «пороки тела». Отдают достоинства, чистоту, его здоровые силы.)
Курнопая лихорадило. Глаза перескакивали через посевы букв, были нетерпеливы.
«Познавая «Кама-Сутру», освобождаешься от пороков тела и обретаешь блаженство».
(А у нас что? Эх! Отец так любил маму. И она… Гибнут от тоски. Поневоле душа сосредоточится на одном, если оно отнято.)
«У желающих три цели: познание, любовь, богатство».
(Есть же нежелающие. Аскеты и еще кто-то.)
«Начало жизни – познание, середина жизни – любовь, конец – богатство».
(Почему «начало жизни – познание». Ведь у меня не начало жизни. Я прожил, кажется, тысячелетия. Познание – вся жизнь. Похоже, в этот период самое жадное познание. Почему середина жизни – любовь? Я полюбил в начале жизни. Мог бы полюбить гораздо раньше, если бы увидел Фэйхоа. Почему конец жизни – богатство? Если в конце жизни чаще всего нищают. В смысле опыта судьбы – другое дело. А, в смысле познания «Кама-Сутры»! Впрочем… Что-то говорили ребята, что у индуистов человеческая смерть – начало самосовершенствования души, которое приводит в сферу богов.)
«Влечение человека имеет три источника: душу, разум, тело».
(А, здесь собственная душа как тройственный источник влечения женщины к мужчине, мужчины к женщине. Сужение мира влечения.)