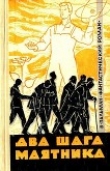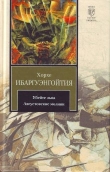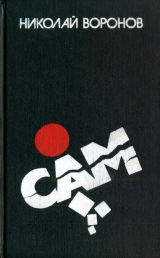
Текст книги "Сам"
Автор книги: Николай Воронов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 31 страниц)
– Фэ, ты тонкая женщина.
– По-вашему, по-солдатски, фигуристая.
– Я о внутреннем чутье.
– Случай не требует внутреннего чутья. У Кивы Авы Чел выразительные губы. У бабушки Лемурихи красноречивые жесты. Кстати, замужество Кивы Авы Чел было предрешено. Болт Бух Грей, ты знаешь, небезразличен к ней, но он спокойненько отфутболил бы ее любимцу САМОГО, когда бы его политическая хитромудрость потребовала этого. Жениться на дочке своих врагов? Неслыханное благородство! Растрогает и купит сердца всех слоев общества, в первую очередь – простонародье. Бабушка Лемуриха недаром исповедует культ правителей в большей мере, чем культ САМОГО.
Курнопаю было сложно разговаривать с Фэйхоа. Она почти не узнает его и волнуется, как бы в отходеот самого себя он не преступил надежные границы обоюдности.
Еще трудней давалась ему униженность Фэйхоа. По-прежнему он любил ее, но недовольство переменами гнетуще отразилось на его чувстве. Он не дотрагивался до нее. Едва Фэйхоа начинала ласкаться к нему, вопреки сдержанности (сдержанность она привыкла превозмогать и стала поклоняться ей как одной из основ человеческой чистоты), он отрезвлял ее непроизвольность:
– Не надо.
Фэйхоа затаивалась, в обиде сникала. Курнопай переставал ощущать ее телесное и психологическое присутствие и горевал, когда она пухово, как мышка, выскальзывала в коридор и неприкаянно бродила по вилле.
Проверяя, тут ли она, он подавал голос.
– Фэ?
Она не отзывалась, но сразу, будто предрассветным ветерком, повеивало ее сенсорным электричеством. Замирая, она ждет, а его хватает только на тревогу.
И венчание не освободило Курнопая от неприкаянности. Зато после свадьбы воспрянула Фэйхоа. Видать, Бог и САМ желают, чтобы их супружество было платоническим. Плотское содержит в себе заряд сумасшедших сил, доводящих интим до изуверской изощренности, из чего вырастает или парное нравственно-умственное падение, или взаимная ненависть.
Курнопай не согласился с Фэйхоа, хотя про себя восхитился ее готовностью к безгреховному браку. Он сказал ей, что они будут жить по закону нормального установления природы, когда он распутает ситуацию внутри себя. Фэйхоа не опротестовывала Курнопая, но укорила в том, что он ее разлюбил.
Он бы накричал на Фэйхоа, если бы не дорожил мыслью, связанной с нею и придуманной им в день, когда она склонила Болт Бух Грея на сторону забастовщиков. Человечество делится на две основные части: на абсолютное большинство – по методу сходно-общих заинтересованных недовольств и поступков, на меньшинство – по принципу бескорыстно индивидуальных побуждений и результатов. Отнесенную к меньшинству, он тогда же наделил Фэйхоа неподозреваемым раньше в людях достоинством: царствуя, не царствуют.
– Фэ, – промолвил он и одобрил в своем голосе просительную интонацию, от которой отвык за пять училищных лет. Эту интонацию он воспринял как возрождение, о чем, постыдно, постыдно, лишь слегка переживал и, скорбея о шаткости собственного характера, жестко сказал:
– Нас натаскивали на производство обысков. Облажу, учти, каждую пядь виллы. По запаху найду. Ампулы антисонина пахнут плодом дурьяна.
– Не дам антисонина.
– Удивляюсь бедуинам. Тысячелетия живут в пустынях. Жара и пески. Другой народ давно бы осел на благословенных землях, остров заселил бы в Индийском океане. Только аравийская земля могла создать такую прочную натуру, как у моей Фэйхоа.
7
Курнопай распахивал коридорные двери и не находил лестницы вниз. Фэйхоа осталась стоять на прежнем месте. Он, забывший о ней, психовал. Двери оглушали хлопками, похожими на взрывы.
Чем злей Курнопай отшвыривал от себя двери, тем неукротимей была его взбешенность. Фэйхоа с ее униженным видом, словно бы замуровавшаяся в кристалле его памяти, продолжала беспокоить Курнопая.
Дверь, выводящая к горному хребту, оказалась закрытой на замок. Как и парадная дверь со стороны океана, она была сделана из фисташкового дерева. Училищные технари предпочитали стальным шестерням шестерни для редукторов, включая танковые, из фисташки. Курнопай сообразил, что без ключа ее лишь вышибешь тараном, но задержал руку и устыдился нахальству своего поведения лишь тогда, когда дверь саданулась о тупорылый ботинок правой ноги, а язык железного запора, выдранный с корнем, грохнулся перед порогом.
Нет, бредя́ к Фэйхоа, не видел Курнопай в ее взгляде укора. Намерение уняться, служить всецело ее зовам вдруг потерялось и устрашило его. Он запрезирал себя от непрошеного уяснения, что в этой потере воли над чувством он супротивничал приказуБолт Бух Грея не возвращаться, пока Фэйхоа не понесет. Время от времени переживая из-за посвящения Кивы Авы Чел, где он был непроизвольной стороной, Курнопай уверялся в собственной невиновности, но тем не менее вина оставалась в нем, да еще и отзывается ущербностью, коль он начал комплексовать в обстоятельствах, не имеющих оснований для самоугнетения.
– Не совладал с собой, – сказал он.
Фэйхоа вчуже молчала. Не пожелала, чтоб он оправдался, а может, и не пожелает. Слыхал от ребят в училище, будто у тех, кто втюрится, годами ждет, любовь при оскорблении исчезает в одночасье.
Притронулся к локтю Фэйхоа. Она отдернула руку и вскинула перед грудью с готовностью ударить наотмашь.
– Бей, – глухо вымолвил он и поник.
– Мужчина не смеет так говорить. Возвращайся в пещеру. Подвала на вилле нет. Построена на кораллах. Бар, и прекрасный, есть, да не про твою честь. Ты будешь сидеть в пещере, я буду пить. Надерусь до чертиков. Каска спасала душу выпивками в баре. Была Фэйхоа трезвенница. Будет Фэйхоа алкоголичка.
В пещере Курнопаю не сиделось. Вилла стояла перед ним такая картинная, что невмочь было удержаться от соблазна вернуться туда. Он вскакивал с каменного пня. Оплавленной поверхностью пень смахивал на магнетитовый метеорит.
Идя к вилле, Курнопай понемногу сбавлял шаг. Пень тем сильней притягивал его, чем дальше он уходил. В конце концов поворачивал обратно, бродил под деревьями, посаженными обочь пещеры для предохранения от слоистых отломов, сползавших с височных круч горы. То, что деревья могли защитить от скал, вызывало ухмылку: и сами были способны, если не угрохать, так покалечить. Иглистый плод аноны, величины баскетбольного мяча, угодив в плечо, сломал бы его.
Когда Курнопай не хотел выступать в телестудии, единственное, чем бабушка Лемуриха заманивала туда, – анона. Он выбирал в кафе солнечный столик. Белая мякоть добытого из холодильника плода мерцала наподобие инея. Но он получал удовольствие не столько от поедания ягодно-кисельной мякоти, сколько от меткого нажима зубами на косточку, добытую из нее.
Кафе всегда кишело людьми. Он целил в бокалы с вином, под кожаные подметки, в точеные из дымчатого хрусталя очки бизнесменов, за пазухи дам-аристократок. Он пытался стрелять косточками незаметно для бабушки Лемурихи. Но разве скроешь от нее какую-нибудь проделку? На обратном пути, в вертолете, ее глаза то и дело посмеивались. Вспоминала, как брякнулся диктор в лаковых штиблетах, как встряхивалась покупная мулатка, оттянув над животом платье, и вскрикивала: «Ох, кусит наездник!» Как внучка кальмароподобного плантатора, вертлявая задавака, которая считает, коль она ездит на «мерседесе» и на шофере, одетом под матадора, стало быть, принадлежит к чудесным людям Самии, как она потребовала вызвать полицию: какой-то террорист покушался на ее зрение – был недолет, косточка стукнулась о фужер.
Ах, анона, анона! Нет, не в аноне закавыка, дело в нем. Вот сейчас поставь его к стенке, даже угроза смерти не заставит есть серединку аноны, истаивающе-маслянистую, вкуса горной клубники. Лет ему мало, а потребность в счастливостях жизни ничтожная, будто он все отведал и всем пресытился.
Мимо Курнопая стрельнул зимородок – куцехвостый ракетоплан. И сразу движение в красноземе, и выскочил краб, боком-боком помчался в сторону моря, скорость рысачья. («Если ипподром все еще существует в столице, вот где забыться в игре!») Задержался возле кокосовой скорлупы. О, да это пальмовый вор. Чего-то вроде схватил? Не схватил, взмахивает меньшей клешней, прямо по-человечьи зовет: сюда, поскорей. С чего это он подзывает опять?
Значение во взмахах. Да что там значение?! Разумность. Неужто он знает тайну? А, бред, раскиселился мозг. Наверно, отводит от сладкой поживы? Ему б пожирать панданус, как я уплетал анону. Покуда не пахнет панданусом, висят вон какие посудины, набитые вкуснотой, подобием в крем-брюле.
Чего размахался, клешнятый? Булыжником трахнуть! Постой, если бестия подзывает… Хитрюга и есть хитрюга! А что – и подамся. Значенье во взмахах, забота.
Он приближался – пальмовый вор перебежечкой к урезу воды. После песочком по отмели дул, не прекращая коротышкой-клешней подзывать. Вывел за норчатый камень: всверлились моллюски. И поскорей под деревья, где краснозем и бомбеют плодами панданусы.
К серому камню тому подходил обмирая. Вдруг погубила себя Фэйхоа. Цельных людей исступленная чуткость в поисках смерти не ведает страха. Сам он… Нескромность, нескромность, стервец!
Не обманул разнорукий. Манил, как мальчишка, полный сердечного сострадания. Тут Фэйхоа. Боязно видеть ее наготу. Прозолоть нежной коричной смуглянки, памятной по лунно-сизым покоям в день посвящения, лишь сохранилась на острых лодыжках. Веки смеженные тик лихорадит, горестный тик, безнадежность в нем бьется.
Как-то застигнуто глаза приоткрыла. Легким прыжком поднялась. Темна и уродлива рукавица на правой руке. Не рукавица – ловушка хоккейного вратаря. В ловушке, похоже, коралл. Странный коралл? Приоткрываются челюсти стиснутой рыбки. Боже ты мой, ужас ныряльщиков – бугорчатка. Меж бородавок и рытвин на самом хребте спрятаны мерзких тринадцать колючек. Хватит одной колючки, чтобы, вонзясь, выпрыснуть гибельный яд.
Бешено выкрикнул: «Брось!» Не подчинилась, пятясь к лагуне. Не приказал, потихоньку взмолился: «Пожалуйста, выкинь». Все отступает, и слезы ручьем, и ловушку со смертью поднимает к груди, к этому совершенству мира, где не смеялось дитя. И кинулся, чтоб умереть, но спасти Фэйхоа. А бугорчатка отброшена в воду: так Фэйхоа испугалась, что вредный страдалец Курнопа погибнет вместо нее.
8
Раскаяние о том, чему в уме и сердце Курнопая не было определения (неужели до́лжно виноватиться за непонуждаемость состояния?), оказалось могучим чувством. Его влияние напомнило антисониновое, с той, правда, разницей, что бодрствование не отменялонежности. А тут, чем сильней ты проявляешь ласку, тем она неукротимей; и если вдруг возникнет намек на убыль ласки, обратно, откуда ни возьмись, укор – и вот оно, раскаяние, и такая радостная страсть из-за наплывов виноватости.
Несет его путями превращений. Нет-нет, простором превращений. В океане одиночный парусник не без цели, не без руля, но проследи его дороги. У него, у Курнопая, изменчивость внутренних движений естественней, чем у прелестной Фэйхоа. От трагической обиды, увы, девчоночьи смешной, скорей потешной, – превращение, в котором не осталось и горестной колючки и не заметишь страдания, во всем неустающая согласность.
Раздоры между Каской и Ковылко были нечасты, отходчивость родителей он относил к глумлению. Теперь он понимал – прощение не унижает, не заключает издевательства. Напротив, было б изуверством непрощение. За моментом прощения – беспамятство великодушия, и людям доведется испытать всю сокровенность счастья.
Теченьем дней как бы тащило Курнопая к кольцу атолла, едва скрытому под водой, и он, раздирая океанский мениск, вставал на риф и, словно очнувшийся от глубокого сна, дивился тому, что он сам и Фэйхоа, находящаяся рядом, забыли думать о катастрофе, по странности предотвращенной пальмовым вором.
Ненасытимой была для Курнопая близость Фэйхоа, и он корил себя за то, что очутился в новой крайности. Нельзя же терять чувство дня и ночи, совсем не выбираться из пещеры. Он копил волю, чтобы настоять на купании, хотя бы минутном, после отлива, в полуразрушенном бассейне, сохранившемся с времен, когда лагуна была прибежищем флибустьеров. Но так и не сумел вытянуть Фэйхоа на побережье, даже напомнив ей о том, что в питомнике гарема она слыла чистюлей из чистюль. Его напоминание она, посмеиваясь, назвала щекотливым и солдафонским, но пообещала не обидеться. У нее зарок не покидать пещеру до вечера, каким луна пойдет на убыль. Курнопай решил, что она вкладывает в свое объяснение мистический смысл, оказалось иначе и проще – завершение полнолунья было проверочным сроком ее организму.
Фэйхоа разрыдалась и укорила Курнопая, что ему по-курсантской привычке только бы крутиться под открытым небом. Он догадался: ей не удалось забеременеть. Она опрощалась, начиная напоминать Каску добессонного периода. И хотя в нем ворохнулось одобрение: «Интеллектуалка-оккультистка превращается в настоящую женщину», – он тотчас подумал, что наверняка ему будет кисло, если Фэйхоа обабится. Во время первого пребывания в бухте, когда к ней понаведались «гости», она не прекратила погружения в океан, лишь стала надевать гидрокостюм. Курнопай замечал, что и в гидрокостюме она беспокойно действовала на акул, которых называла подружками и друзьями. Даже кархародон – Болт Бух Грей назвал его за взметывания мордой Любимцем Оводов, – обычно сопровождавший и охранявший Фэйхоа, как собака, и тот взволновывался и делал виражи (за виражами акул обычно следует нападение). Был миг, когда Любимец Оводов решительно нацелился на Фэйхоа, но Курнопай, готовый к его нападению, сунул ему в рыло острие штока, и кархародон уплыл. Фэйхоа подосадовала на Курнопая. Любимец Оводов разобиделся. Курнопай был уверен, что предотвратил гибель Фэйхоа, поэтому, чтобы она не обольщалась на счет людоедов, пригрозил убить акулу; в рукоятке штока была кнопка, нажим на нее – под давлением выбьет из сопла мгновенный яд. С угрюмой злобой реагировали на Фэйхоа и зеленая мурена, и сотовый группер, и скат-хвостокол, которых она считала безвредными домашними животными.
Тогда и на день она не прекратила погружений, уверяя его, что хищникам не только свойственна привязанность, но и чувство благодарности. Теперь, к изумлению Курнопая, она сама уверяла его в том, в чем совсем недавно он так и не сумел ее убедить. Голодный хищник позарится не то что на человека, на собственный хвост, даже если он и с колючкой в тридцать сантиметров, как у ската-хвостокола, – и наотрез отказалась входить в океан. А тем, что потребовала, чтобы он тоже не входил в океан, озадачила. В училище, где про женщин было принято говорить как о существах презренно ненадежных, он верил, судя по Фэйхоа, в их постоянство. Ганс Магмейстер, кому он однажды пожаловался на грязный суд курсантов о женщинах, сказал, опечалившись, что не лучше и женский суд.
Сам слыхал, как уста, которым бы только петь райские песни, так сквернословили про мужчин, что было бы терпимей пропустить из уха в ухо километровый поезд. Правда, Гансу Магмейстеру представлялось, что самые гнусные подлости придуманы сатанинским воображением мужчин: удержись на шарикематриархальное правление, никогда бы человечество не докатилось до изобретения орудий всемирного убийства.
От перемены в поведении Фэйхоа Курнопай склонялся к мысли о перелицовочностиженщины ради осуществления своих прихотей или из-за намерения сделать мужа подкаблучником. Решил не подчиняться. И у женатого человека должна быть свобода воли. Фэйхоа заметила ему, смиренно приспустив веки, что после выпуска из училища он упражняется в осуществлении собственной свободы воли, будто бы у других вовсе нет на это личного права. Существование, основанное на командах, которые редко кем оспаривались, повысило в нем уважение к доказательности. Не амбицию он противопоставлял убедительному доводу, а подчинение, полное радости. Радость полыхнула в его душе, но он притушил ее восприятием притворства, померещившегося в смиренной приспущенности пушистых век Фэйхоа.
– Сверхвзыскательные люди были менее всего взыскательны к себе. – Он не хотел, чтобы счастливое примирение оборвалось, и сказал это с ноткой подчинения в голосе, и вдруг подумал о том, что устойчивость семейной жизни обеспечивается внутренне-внешним равновесием, подобным равновесию между планетами, и понял, что в этом соображении заключено спасение для них обоих. – Ты критикуешь совестливо. Справедливо ли, сумею разобраться наедине с самим собой.
– Три дня ты будешь один в пещере.
Фэйхоа ушла на виллу. Боком-боком из-за аспидной глыбы базальта выбежал пальмовый вор. Короткую клешню, похожую на культю, подносил к морде, над которой топырились глаза-стебли, две антенны, усы. Что это он? А, есть просит. Курнопай порыскал по берегу взглядом. Вынос прибоя по-обычному был изобильным. Среди гребней лавы, вздыбленной, волновидной, остались вместе с водой крапчатые, с ворсистым контуром звезды, напоминающие друзы коричневых кристаллов. Нетопырь, весь в костяных наростах и шипах, удобно возлежа на дне ямы, надумал подкормиться: кивал «удилищем», выставленным из огромной башки, отчего «приманка», распускаясь, смахивала на насекомое, гребущее крылышками и ногами. Погремушкой, сделанной из уродливо-приятной рыбки, Курнопай забавлялся до поступления в школу; к стыду его, бабушка Лемуриха как-то захватила высушенного нетопыря на телестудию и рекомендовала зрителям, имеющим маленьких детей, воспитывать их природными игрушками, что и привяжет малышню в обязательном порядке к родине, к правительству. После кое-кто из старшеклассников дразнил Курнопая Нетопырихиным Внуком. Над ямой, прикрепясь присосками к теневой стороне магматического гребня, висел осьминог. Полуприкрытый глаз осьминога заметил Курнопая и обреченно смежился.
«Не трону я тебя», – мысленно пообещал ему Курнопай. Мальчишкой, увлекаясь книгами натуралистов и путешественников, он вычитал у американца, изучавшего фламинго, а потом увлекшегося ночными наблюдениями под водой, трагическую мысль: человечество, погубленное самим собой, сменит на земле осьминог, уже теперь способный переносить на суше тропическую жару и, нет сомнения, наделенный разумом. С того времени Курнопай считал осьминога наследником человека. Переждет в океане, когда улетучится радиация, и начнет закрепляться на берегу.
Принимая пальмового вора за вегетарианца, Курнопай подался вдоль отмельной кромки. Авось найдет кокосовый орех или гроздь бананов. Нашел он крупный, вероятно, индийский, мандарин с чуть раскисшей кожурой. Подкинул мандарин крабу; тот, остававшийся на месте в какой-то наблюдательной неподвижности, зауказывал клешней на фиолетовый разлом, который четко просматривался в воде между двумя скалами, поросшими водорослями. Пальмовый вор поволок мандарин за виллу, а Курнопай, заинтригованный, смотрел в разлом. До подозрительности необитаемо было в этой фиолетовости, где слоились панели солнечных лучей.
Солнечные панели взломал толчок воды, появился кархародон, скашивая планчатые боковые плавники, чтобы проскользнуть меж скал, отчего приобрел вид истребителя-ракетоносца. Сферически обтекаемый добродушный нос кархародона когда-то был рассечен, и теперь его коричневый покров белел шрамом. Тот самый кархародон – приятель Фэйхоа. Что-то в этом благодушном «приятель» противоестественное, как если бы он называл так гангстера. Слишком эгоцентрично, черт возьми, восприятие. Впрочем, не он ли сам был дружелюбен с училищным хищником провиантмейстером. Похищение продуктов, не равносильно ли оно пожиранию человеческих судеб?
Прежде чем прорезать спинным плавником полукруг в зеркальной пленке лагуны и скрыться, кархародон всмотрелся агатовым зрачком в Курнопая и странно усовестил: бархатным, полным симпатии был его взор. Вспомнилась Фэйхоа с ее соображением о немстительности хищников. Пренебрег он этим соображением. Почему-то был враждебен к обитателям рифа, а ведь ничего не случилось, сколько ни плавали с Фэйхоа. Все мы, люди, почему-то заранее враждебны ко всему на свете, что умней, неведомей, чем мы. Акул мы хулим за то, что они способны защищаться, нападать, уничтожать. А ведь мы ни с кем и ни с чем не считаемся; уничтожаем все, что угодно нам и неугодно. Да перед нами они просто невинны. Твари не они – мы. Нет, человек не умом отличается от других существ – неразумностью. Все в мире целесообразно, кроме него самого. И сам он создал собственную нецелесообразность, присвоив сушу, воды, небо, но к счастью, человек не может присвоить земную глубь. Как жалок он в попытке присвоить Время и Космос. О, погоди, он рассуждает как судия человечества. Ничего. Сейчас лишь тот с бесстрашной ясностью способен оценить, до каких всеуничтожающих изуверств докатились люди, кто поставит себя по отношению к ним в позицию планетарного судии.
Опять ту же эволюцию совершил кархародон. Догадка, что он высматривает Фэйхоа, заставила Курнопая поспешить на виллу.
На портик выскочила Фэйхоа. По державному телефону она разыскала бабушку Лемуриху. Лемуриха находилась в гостях у Каски с детьми в бывших покоях Фэйхоа. Им обоим было известно, в какое помещение вселилась Каска, тем не менее Фэйхоа спедалировала:место небожительской престижности, жалеет о нем, где прожила детские и девичьи годы. Очень ей больно отдаление от ядравласти. В бестщеславной душе всплеск самолюбия. А, ладно: все живем, тяготея к ядру.
Фэйхоа удалось зазвать бабушку Лемуриху в гости, хоть та и финтила, рассусоливая о страшной государственной занятости. Но с Каской не удалось договориться. («Не обещаю теперь, зарекаюсь обещать в ближайшее десятилетие».) Рвался сюда Огомий, и Лемуриха соглашалась его взять, но Каска, Каска…
Завтра бабушка Лемуриха обещала доставиться на вертолете, закрепленном лично за ней. Наказала Курнопаю добыть меч-рыбу или марлина, полосатого, черного, а то синего. Об эту пору что меч-рыбы, что марлины полеживают в открытом океане на солнышке.
Курнопай рассмеялся. Никак бабушка хапнула крупную должность, коль до того разважничалась, что, в крайности, требует добыть майора из пагров или дораду из спаров, изумительно лакомую рыбу, очень дорогую, рыбу президентов фирм, министров, тиранов.
Круговым движением ладоней (Забыла, наверно? Пугающий глянец ожогов.) Фэйхоа попыталась успокоить ущемленность Курнопая, но он не успокоился: мать неузнаваема, будто ее мозг вынули, а чужой пересадили, да еще и бабушка Лемуриха выставляется.
Фэйхоа продолжала смягчать Курнопаево возмущение, приправленное правительственной спесью. Бабушка верит в неограниченное внимание внука к ней, оттого и заказала знаменитую рыбу. В его училищное время она однажды хвасталась: «Курнопа, ежели что, ради меня земной шар пророет!» От большой веры заказ, от любви. Что же касается Каски, в превращении, происходящем с ней, ничего необычного: банальная, как прописные истины, метаморфоза. Несть числа семьям и родовым кланам, распавшимся по социально-политическим мотивам, правильней – из-за социальной нетерпимости, равнозначной тяжелому преступлению. Ей, сироте, обескровленной, с точки зрения родственных чувств и духовных стремлений, семья, материнство, отцовство, дочернее и сыновнее чувство представляется величайшей ценностью человеческого мира. С разрушения атома началось крушение земной материи. Разрушение семьи средствами, подчиненными целям политики и экономики, ведет к распаду человечества.
– Как все рано, – сказал Курнопай, имея в виду то, что человечество, молодое древо земной биологии, так быстро идет к завершению.
Фэйхоа подумала, будто бы он сердит на то, что она рано зазвала бабушку Лемуриху сюда, и упрекнула его за черствость. Непонимание он считал опасным условием сосуществования, поэтому, чтоб оно не разрасталось, мог предложить себе лишь смирение без самооправданий. Однако, уверяя Фэйхоа, что упрек ее справедлив, подчинился уязвленности, для чего жестко заявил, что сейчас же займется заготовкой океанской свежатинки, но начнет не с ловли меч-рыбы или марлина, а с охоты на латринов и красных майоров. Охота будет рискованной из-за кархародона, который наверняка поджидает именно его: не зря ведь он изображал приветливость.
Фэйхоа померкла. Она согласилась отпустить Курнопая, если он во всем будет слушать ее, готовясь к охоте. Заставила надеть белые ласты, белый акваланг, белую шапочку. Инструкторы подводники заказали полдюжины комплектов такого снаряжения для Болт Бух Грея. Они учли опыт японских ныряльщиц за жемчужницами: белый цвет отпугивает акул. К поясу, обложенному свинцовыми квадратами, прикрепила миниатюрный магнитофон. В нем кассета с записью свистов гигантских касаток в момент, когда они зажирали яростно защищавшуюся тигровую акулу. Взбрендится кархародону напасть на Курнопая, включит магнитофон, и хищник отступит, как от электрического поля. Вместо ружья заставила взять шток. Охотиться? Обойдется термонаганом. Одной-двух рыбин бабушке Лемурихе хватит на время гощения. Отныне сам он полностью перейдет на вегетарианскую пищу.
– Так уж сразу… – заупрямился Курнопай.
– Пы-ы-рекратить канючить, – передразнила его Фэйхоа и погрустнела.
Он пошел к берегу и, оглянувшись на Фэйхоа, с шутливой неуклюжестью плюхнулся в океан. То ли из-за редкой высветленности воды, то ли потому, что солнце стояло в зените, но было нежно-мягким, будто Каскина пуховка, которой она пудрила шею перед походом в бар, а то и, наверно, потому, что его память еще не отделалась от смога смолоцианистого завода, подводный мир показался Курнопаю полыхающе ярким, и он невольно завис на месте. Проплыла перед ним черной коричневы рыба-ангел: желтые веки, желтые линии на фюзеляже, похожие извилистой формой на лук для стрельбы. Треск, послышавшийся откуда-то снизу, заставил Курнопая посмотреть на дно. Под ним оно песчаное, и там ничего не видно, кроме глаз ящероголовых рыб, торчащих над рыжей пересыпчивой зернью. Дремотно-мирные глаза, никогда и не подумаешь, что они выслеживают жертву. Треск раздался на краю песчаного пятна. Омар, панцирь которого глянцевел в солнечных лучах, обнаруживая костяную шероховатость, давил клешней ежа и ел. Его усы (на гибкую проволоку намотали телефонный провод в бурой изоляции) шевелились с плавностью хвоста кошки, когда она лакомо жрет синицу и побаивается, что ее добычу отберут. Чем-то омерзительно повеяло. Вспомнился молотобоец, заваливший ударом кувалды бизона и вскрывший на его шее жилу, откуда ударила кровь, а он наполнил ею пивную кружку и выпил. Тем, что осталось на донце, молотобоец плеснул себе в лицо и намазал скулы, подбородок, мурча и матерно нахваливая ядреность бычьей крови. Кожа на большом и указательном пальцах, которыми он размазывал кровь, была ороговело-темная, и Курнопаю, уже отвернувшемуся от омара, захотелось глянуть на его клешни. Грандиозно овальны, подчеркнутые алым кантом.Кант создавал сфероидность клешней, словно оттиснутых из железа и покрытых мерклой зеленой эмалью. Края клешневой развилки, шаровидные и шипастые, именно ими омар разрушал ежа, тоже производили впечатление мощно-красивых. Вероятно, под влиянием Фэйхоа Курнопай настроился воспринимать хищное как безобразное. В действительности совсем не так. Навряд ли сыщешь мир живописней, изящней, дивней с точки зрения цветосочетания, формосоединения, моделирования, чем мир коралловых рифов. А ведь все живое здесь хищно.
Постыло вдруг стало Курнопаю. Рядом была такая жизнь, которая, независимо от того, как думает о ней он, сама по себе является великой ценностью и отчасти зрелищной, что всякое ее умаление, на что бы оно ни опиралось, кощунственно по отношению к природе, ведь она – универсальный способ существования для атолловой лагуны и для океана вообще, как и для земли со всем, что она составляет и что находится на ней. Поглощениемсуществует все во Вселенной, от микробов до галактик. И мы, люди, не исключение в этом, хотя и весьма ловко, нет, до стадности самовлюбленно измыслили исключительность. Не судитьему надо жизнь лагуны – постигать то, как посредством поглощения, пусть и воспринимаемого трагически, поддерживается взаимозависимость, взаимосцепляемость, взаимоспасительность всего живого.
Он увидел, как рыжая морская звезда придавила гребешок Магеллана.
Однажды телестудия наградила бабушку Лемуриху с Курнопаем недельным отдыхом возле океана. Поселились в домике водолазов, промышлявших моллюсками. Как раз шел тогда гребешок Магеллана. В воде, мутноватой от планктонного переизобилия, водолазы ходили по дну, собирали моллюсков в сетчатые кошели. На песке оставались следы свинцовых подошв. Боевитая бабушка Лемуриха сумела включиться в прибыльный промысел. Она попросила Курнопая наблюдать за собой с поверхности залива. Сквозь стекло маски он видел туманную бабушку Лемуриху, но и при этом, по ее самоопределению, матронистую вроде Моны Лизы.Тогда, тщательно следя за бабушкой, хотя был уверен, что ничего с нею не может приключиться, Курнопай назвал про себя гребешки Магеллана веселыми. Они передвигались скачками от сжатия створок, да такими длинными – футов на пять.
Рыба-бабочка, серебристо-черная, в багряных и синих крапинках, отгоняла от норы в базальтовом кубе верткого пинцетика. Шевеля ротиком, вытянутым в вороночку, насмешничает, ни дать ни взять он направился к норе. Спинной плавник, которым пинцетик при его поворотливости способен нанести опасные вспарывающие удары, напряжен до окостенелости. Бабочка нервничает, дергается, крап на боках загорается, как злые глаза. Похоже, что пинцетик не боится бабочку и понарошку почтительно задерживается перед норой. Бабочка описывает петлю и заплывает в убежище. Пинцетик грустно пофланировал вдоль норы. По глазам, скорей по очам, крупны, лучисты, можно было прочесть – пинцетик заметил, что бабочка струсила, хотя он просто забавлялся от скуки, и в нем накипала осмысленная обида. Пинцетик бродяга, но одиночество, наверно, и его томит?
Он увидел все это за какие-то мгновения и приказал себе глазеть, а не думать. Мысли мешают зрительному наслаждению. Неслух он, анархист, недисциплинированный военный. Личный приказ и то не выполнил, чтобы с гурманским удовольствием кинуться в новое размышление: «Рыбы, умея шурупить,конечно, созерцательные существа. Любовь к созерцанию создала их декоративную красоту и совершенствовала красоту тех рыб, которыми они любуются. В школе нас учили узко: сводили расцветку рыб, да и насекомых, зверей, пресмыкающихся к хамельонству как средству приспособления к внешней среде и самосохранению. Целесообразность, расчет – только и сводили к этому жизнь якобы не мыслящих существ. Какое хамелеонство, когда так заметны отовсюду эти рыбы. А жизнь жизни, ученые идиотики, состоит в созерцании и самосозерцании ради создания красоты. Это, может, всего первей. А то бы от скуки раскромсали друг дружку и давно передохли. Красота ведь заразительна. Да о чем еще у меня свербило в подкорке? Фэйхоа считает, будто бы под водой до значительных мыслей не додумаешься. У кого как. Но почему под водой? Просто тут глазеть надо, насыщать душу красотой. Это, может, поважней мыслительности? Несчастье многих людей, наверно и мое тоже, не в том, что мы не умеем думать, а в том, что мы не чутки к миру Земли и Космоса и что у нас плохо развито чувство красоты мира и мировой красоты, что у нас не хватает тонкости и такта принимать планеты, Вселенную такими, какими их создала Природа, да, вероятно, боги, а у нас в стране создал САМ. Все бы нам переделывать. Электронные часы не беремся переделывать, а того не поймем, что механизм глобального существования еще совершенней и уязвимей.