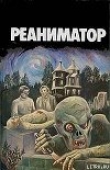Текст книги "Короткий миг удачи (Повести, рассказы)"
Автор книги: Николай Кузьмин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Помолчали. Корней Иванович зевнул, прикрыл рот рукой; потом раззевался так, что затряс головой.
– Вот разобрало, – проговорил он и посмотрел на темное небо.
Поднялся вялый Борис Евсеевич, отошел за куст, постоял и вернулся.
– А что, Корней Иваныч, – потягиваясь, сказал он, – может, пойдем, сходим?
Корней Иванович снова посмотрел вверх, почесался.
– Пожалуй.
Сонный Серьга пробурчал:
– Куда вы, рано еще.
– Да нет, время, – гораздо бодрее возразил Борис Евсеевич, роясь в привезенных припасах. – Это тучки сегодня.
– Теперь уж не уснуть, – сокрушенно сказал Серьга и посмотрел на квело сидевшего у потухшего костра художника. – Замерзли, Константин Палыч?
– Я? Н-нет, – ответил, с трудом приподнимая веки, Константин Павлович и еще плотнее запахнулся в пиджачишко.
– Тогда не спите, – посоветовал Серьга, – хуже будет. Мы вот сейчас их проводим, да костерик раздуем, да чугунок поставим. К приходу-то у нас уж все будет и готово.
– Вы не беспокойтесь, я не сплю, не сплю, – через силу ответил Константин Павлович, больше всего на свете желая сейчас разогнуться в тепле, вытянуться и уснуть.
– У нас Корней Иваныч первый спец по переметам, – продолжал рассказывать Серьга, разгребая теплую золу. – Нам бы с ними пойти, но там топь, комары заедят. Мы уж тут с вами на пригорочке, у огня…
Без устали журчавший голос Серьги не давал художнику забыться и даже стал отдаваться в висках. Константин Павлович раздраженно открыл глаза и увидел, что небо посерело и на его фоне двигаются две фигуры. Он машинально стал следить, как собираются учитель и Корней Иванович, а когда они ушли, он попытался снова задремать, но не смог, – сон пропал. Тогда он сжался до последней возможности, чтоб не окоченеть, и, как ребенок, загляделся на веселый огонек костра, разгоравшийся все сильнее суетливыми стараниями Серьги.
Близилось утро; от реки несло плотной сыростью.
Огонек, потрескивая, облизывал все новые сучья, и отблески его пробегали по угрюмому, колючему лицу художника.
Серьга сходил за водой и приладил над огнем чугунок. Присел, протянул к огню озябшую руку и тоже засмотрелся, задумался.
Далеко отсюда, вверх по реке, куда ушли учитель и Корней Иванович, послышался плеск.
– А вы, я вижу, – тихо позвал Серьга, – тоже бобылем мыкаетесь?
Константин Павлович, не отводя от огня взгляда, скупо ответил:
– Что поделаешь.
– Да-а… – вздохнул Серьга, все еще сидя над огнем и зябко шевеля пальцами руки. – Женихи.
Константин Павлович только шевельнул бровью.
– А вот на Кавказе, я слышал, – говорил Серьга, – имеются старики, которым уже за сто, а у них бабы все еще ребятишек таскают.
– Есть такие.
– Но, по-моему, тут надо все-таки разобраться!
– В чем? – Константин Павлович вытянул онемевшие ноги и чуть не закляцал зубами, – такой нестерпимый холод приносило каждое движение.
– Как – в чем? В этом самом. Ребятишек-то, может, они и таскают, но опять же старикам в этом могли и помощь оказать.
– Как оказать? – не понимал и сердился Константин Павлович.
– Ну как, известно как! Посредством, скажем, соседа.
– Ах, ты вот о чем! – рассмеялся Константин Павлович и перебрался поближе к огню. – Нет, у них там удивительно сохраняются люди.
– Значит, и нам с вами еще не заказано жениться.
– Да уж нам… – усмехнулся Константин Павлович и не договорил, заглядевшись, как огонь подбирает последние ветки. Толстой сухой палкой Серьга стал подгребать жар под самое донышко чугунка.
– Оно конечно, – рассуждал Серьга, – сейчас нам с вами жениться – не масленица. Кого возьмешь? Перестарка какого-нибудь. А это – сами понимаете… Нет, правду сказывают, что первая жена от бога, вторую люди найдут, а уж третью сам черт подсунет.
– Да, да, да, – вяло соглашался Константин Павлович, глядя, как растревоженное палкой пламя костра сердито бросается искрами в лицо Серьги и жадно растекается по закопченным стенкам чугунка.
– Вот возьмите вы опять же меня. Ну, есть у меня кума. И хорошая, скажу вам, баба. А все-таки не то. Не то, нет! Или во мне уж все сгорело? Не знаю.
– Еще найдете, – уронил Константин Павлович, думая о своем.
– Найду? – удивился Серьга. – Да вы что? Стану я искать! Я их, сучек, так ненавижу, что… А вы – искать! Скажете тоже.
– Так теперь что – и порядочных женщин не осталось?
– Нет, почему же, – уверенно возразил Серьга. – Есть. Но, заметьте, такая баба – счастье. Такая баба человеку раз в жизни попадается, и то, может, не каждому. И вот попалась тебе такая баба – держись за нее, потому как, видимо, она-то и есть от бога.
– Резонно, – вздохнул Константин Павлович.
– Помню, уж как я свою уговаривал, чтоб ребенка завести. И слышать не хотела! А как с фронта я пришел, с войны-то вернулся, – она и выходит ко мне, да вся какая-то побитая, будто моль ее поела. И ребенка впереди себя выдвигает. «Казни», – говорит. «Что ж, говорю, тебя казнить, коли ты сама себя казнила». А как вещи-то собрал, она и кинься ко мне: «Ты же, говорит, ребенка хотел, так какая тебе разница? Чем, говорит, этот не ребенок?» Ну уж тут я не стерпел. Чтоб чужого-то… – Серьга крепко провел по лицу и выругался. – Война, зараза! Все вверх ногами поставила. И вот с тех пор я как обсевок.
– А вы, я вижу, фаталист? – заинтересованно сказал Константин Павлович.
Серьга встревожился:
– Что такое?
– Ну, в судьбу верите, в приметы, в счастье…
– Не-ет! – запротестовал инвалид. – Своей судьбе я сам хозяин. Я ее, мил человек, вот где, судьбу-то свою, держал! – и он сжал тугой сильный кулак. – Потому и с войны явился, голову унес.
– Так женитесь тогда!
– Не могу, – признался Серьга. – Забыть не могу. Ведь первая любовь была. А это, сами понимаете…
– Да, – тепло сказал Константин Павлович, – этого не забыть.
– Второй раз уж не помолодеешь. Каждому свой срок положен. Пропустил – потом не хватайся. Я вот где-то читал, что какой-то профессор придумал стариков омолаживать. Не читали? Читали? Ага, значит, знаете. Ну, а у нас тут, между мужиками то есть, своя поговорка ходит. Значит, кто бросил курить – еще закурит, кто пить бросил – тот еще может выпить, но вот уж кто с бабами завязал – тому никакая сила не поможет!
Константин Павлович невольно рассмеялся:
– Остроумно!
– И вот если помните, как мы тогда у вас за поллитровкой сидели… Помните? Тогда мы с вами об яблоне вашей говорили. Цвести-то она собралась, – помните?
– А!.. Ну, ну?
– Тогда вы мне говорили, что, дескать, закон природы. А я вам и сейчас скажу – дурное это дерево, и толку от него не будет.
– Интересно, почему?
– А потому, что оно как тот самый старик. Свое прожил, а потом хочет на чужом еще пожить.
– Но ведь дерево-то цветет! И вы зайдите, посмотрите, как оно цветет!
– Да толку-то в его цвете что! – воскликнул Серьга. – Цветочки разве? И все. А ведь оно, как хорошая баба, рожать должно. Яблоки плодить. А какие с него яблоки, если оно под самую зиму, под морозы расцвело? Баловство одно. Нет, пропадет оно, и туда ему и дорога!
– Странно вы рассуждаете, – отчужденно проговорил Константин Павлович, поднимаясь на ноги.
– И не странно нисколько, – не замечая его раздражения, ответил Серьга. – Закон жизни. Как ускачут молодые годочки, да еще без всякого толку, потом хоть всем богам молись, хоть лоб расшиби – не воротишь.
Константин Павлович уязвленно фыркнул: философ! Но сказал он это про себя, чтобы не обидеть Серьгу.
Светало сегодня медленно, неохотно. На какое-то время затеплилась за лугами зорька, но потом все затянуло плотными низкими облаками. Не было сегодня и росы, и Константин Павлович подумал, что непременно быть дождю. В свете занимающегося дня лицо хлопочущего у костра Серьги было бледно; поблек и огонек. Шипели угли, в чугунке булькала вода. Далеко в лугах заржала лошадь. Снова, как и вечером, засветилась река на изгибах, но блеск воды был хмурый, нерадостный.
Неподалеку в кустах послышался треск сучьев, Константин Павлович обернулся и увидел рыбаков. Корней Иванович сильно припадал на одну сторону и с трудом протаскивал деревяшку через высокую плотную траву. Борис Евсеевич, мокрый, счастливый, еще издали поднял и показал улов.
Серьга начал ворошить и подкладывать в костер; густой дым потянуло низко и в сторону.
По сухому затравевшему откосу Константин Павлович сбежал вниз, к реке. Спокойная, ненастная вода еле-еле трогала береговую гальку. Константин Павлович постоял, сверху до него донеслись возбужденные удачей голоса рыбаков. Потом Борис Евсеевич спросил: «Что произошло?» – и Серьга долго и невнятно рассказывал.
Слышно было, как Борис Евсеевич воскликнул:
– Ну что ты, зачем же было так жестоко?
– Да вы что? – растерянно оправдывался Серьга. – Какая тут жестокость?
Возвращаться к рыбакам не хотелось, и Константин Павлович знал, что теперь он не вернется. Не получилось у них компании, не вышел дружный разговор. И он не сердился на инвалида, – просто они по-своему на все смотрят, а он по-своему. Чтобы его не окликнули, не стали искать, Константин Павлович быстро пошел по берегу, и голоса спорящих наверху затихли. Он миновал излучину реки и остался один, совсем один. Теперь можно было спокойно и без помех думать, и он думал, что в жизни его, что бы там ни говорили, еще не все потеряно. Не все, потому что он хотел теперь очень немногого. Ему хотелось работать, и верилось, что писать он будет много, упорно и обязательно удачно. Это он чувствовал. И еще хотелось иметь рядом кого-то, кто бы скрадывал, заполнял пустоту вокруг него. «Не жену, нет, пусть просто друга, родного отзывчивого человека, какую-нибудь любящую неиспорченную душу, которая все поймет, все почувствует».
Константин Павлович думал и шел все быстрее. По пологому съезду к броду он поднялся на берег и зашагал по дороге. Но не успел он уйти от реки, как его догнал неслышно спустившийся дождь.
11
– Танюша! – обрадованно закричал Константин Павлович, узнав в бегущей под дождем босоногой девчонке Таньку. – Танюша!
Это было как судьба, как спасение, – потому-то он и закричал, будто матрос, увидевший долгожданную землю. Он только что думал о Таньке, и с ней связывались его надежды, его уверенность в своих успехах. И вот – встреча!
Она услышала, остановилась и, согнутая, с поджатыми от холода локтями, долго всматривалась сквозь сетку дождя, кто это спешит к ней, разъезжаясь по жидкой грязи.
– Константин Павлович! – тоже изумилась она, подбежала к нему и, сияя мокрым счастливым лицом, схватила за руку. – Вы-то как?
– Танюша, ты же промокла, родная!
– А я корову искала. Тетку на ночь к больному увезли. Табун пришел, а коровы нет. Дождик-то какой!
– Господи, ты же простудишься, сумасшедшая! Пойдем хоть под дерево.
Она была мокра, будто искупалась, а дождь все лил и лил на волосы, на плечи, и, когда Константин Павлович отвел ее под дерево, стало лить с нее самой, лить на босые замерзшие ноги, смывая с них грязь. Она замерзла, съежилась, но мокрое лицо ее было доверчиво счастливым. Она тянулась взглядом к Константину Павловичу, а он, много передумав о ней, пока шел от реки, ужасно волновался.
– Промокла-то, господи! – ласково суетился он, накидывая ей на плечи свой тяжелый, насквозь пропитанный водой пиджак. Рубашка его тотчас промокла, потому что спасения не было и под деревом, он плечами, спиной ощутил сильный озноб, но нежность его к встретившейся Таньке была настолько велика, что он ничего не замечал, укрывал ее понадежнее пиджаком, запахивая его на ее груди, у горла. Она совсем съежилась, но скоро стала согреваться.
– Хорошо? – спрашивал он.
Она только кивала головой и благодарила большими ласковыми глазами. Он не знал, что бы еще такое сделать для нее, только бы касаться ее, укрывать, заботиться.
С волос ее капало на шею, она жмурилась и запрокидывала голову. Капли дождя были на ресницах и бровях. Константин Павлович поискал платок и вспомнил, что не захватил его. Тогда, ворча какие-то неизъяснимой нежности слова, он стал вытирать ее упругие холодные щеки пальцами. Она доверчиво подставляла лицо и переступала босыми ногами. Близко он увидел ее полураскрытые губы, влажные и свежие, подумал, что, поцелуй он ее сейчас, она только жалобно вскинет ресницы и ничего не скажет. Он опустил руки, все так же стоя близко около нее, поискал и нашел ее пальцы, они покорно остались в его руке.
– Танюша, – тихо позвал он, – вы еще не были в Москве?
Отворотив лицо к плечу, задумчивая и грустная, она еле заметно покачала головой.
– Танюша, приезжайте, пожалуйста! Нет, нет, серьезно. Дали бы телеграмму, я бы вас встретил.
– Так уж сразу и в Москву, – еле слышно произнесла она одними губами.
– А что? Нет, серьезно, приезжайте! Квартира у меня большая. Дача… Поживете, может быть… понравится. С художниками познакомитесь, это интересный народ.
Она глубоко вздохнула, распрямилась и посмотрела на небо.
– Дождь, кажется, кончается, – не сразу произнесла она.
– Да… кажется, – отозвался он.
– Идемте?
– Пошли.
Она тронулась первой, он, чувствуя обидную неловкость, чуть приотстал. Сначала она ступала неуверенно, как бы в нерешительности и чего-то ожидая, но потом пошла быстрее и уверенней. Легкие забрызганные ноги ее бесстрашно ступали в грязь и лужи.
Идти до деревни оставалось недалеко, и Константин Павлович догнал, пошел рядом.
– А чем вы зимой думаете заняться? – спросил он. Ему хотелось остановить ее, удержать, в крайнем случае не идти так торопливо.
– Чем? Работать надо, – в обычной своей манере ответила она. – Что же, меня все тетка кормить будет?
По ее тону Константин Павлович понял, что очарование тех недолгих минут под деревом уже прошло и не вернется, никогда уже больше Танька не будет с ним так доверчива и проста. И все же он, высокий, худой и нескладный в промокшей до нитки одежде, все же он решился и сказал:
– Так приезжайте в Москву. В самое хорошее время приедете. В театры можно походить, на выставки.
Он споткнулся, разъехался ногами по грязи и едва не упал.
– Вот дождь! – недовольно сказала она, оглянувшись на спутника и понадежнее запахивая мокрый пиджак.
И точно – дождь посеял вновь, мелко, но густо, расходясь все пуще.
– Вы весь промокли. – Она мельком взглянула на него.
– Ерунда, – хмуро отозвался Константин Павлович, хотя рубашка неприятно прилипла к телу и озноб достиг такой силы, что он стал чувствовать морщины на щеках.
– Заболеете еще. – Танька, наклонив под дождем голову, шла быстро и не разбирая дороги.
Дождь прекратился разом, едва они вошли в деревню. Было тихо и покойно. Из зарослей лопухов вылезла мокрая собака, понюхала воздух и побежала по стоявшим в траве лужам. Мокрые заборы, казалось, вросли в землю. За деревней в тяжелой пелене туч начали обозначаться промывины.
Константин Павлович подумал, что ему неловко показываться на глаза людям вместе с Танькой, – ни дать ни взять кавалер. А в том, что на них глазеют в окна, он не сомневался. Но Танька шла, ни на кого не обращая внимания, и он обречен был тащиться за ней по самой середине улицы. Изредка взглядывая на окна, он замечал любопытствующие лица и от неловкости глубже засовывал руки в карманы и сильнее горбился. Но, проходя мимо мастерских, он взглянул и невольно, от стыда и растерянности, придержал шаг, – широкие мокрые ворота мастерских были распахнуты, а на пороге стоял Митюшка и смотрел упорным подозрительным взглядом соперника.
12
Прогулка под холодным дождем не прошла для Константина Павловича бесследно, – к вечеру появился жар. Сестра забеспокоилась, хотела бежать к фельдшерице, но он сказал, что все это ерунда, пусть лучше на ночь напоит его чем-нибудь. Дарья достала сушеной малины и вскипятила самовар. Поила она его в постели, но скоро Константин Павлович отослал ее и, допивая сладкий душистый напиток, стал думать о том, что в чем-то он сегодня оробел, где-то не сказал нужного слова. И все вспоминал, как они с Танькой спасались от дождя под деревом.
Поздно ночью заявился Митюшка, немного повозился в кухне и уснул. Константин Павлович хотел думать и о Митюшке, но думалось совершенно о другом – о том, что в следующий раз он обязательно скажет девушке хорошие, душевные слова и она поймет их, оценит. Ведь она же очень простая, очень неиспорченная! С такой легко говорить.
Временами волнами наплывал жар, Константин Павлович начинал метаться, но в мыслях его наступала удивительная легкость, и слова, которые он обязательно скажет Танюшке, рождались сами собой и были удивительно хороши.
К утру ему стало лучше, он уснул, но скоро проснулся, полежал немного и с сожалением подумал, что это плохо, что он не пропотел за ночь. Значит, простуда еще сидит в нем. В теле была горячая сухость и слабость, но он оделся и через кухню, где спал Митюшка, вышел во двор.
Вставало солнце. Холодное свежее небо густо синело над утренними полями.
Константин Павлович походил по двору и разгулялся, – меньше болела голова, хотя стало слегка знобить. Он вернулся в дом, надел куртку, замотал шею шарфом и забрал под берет волосы. Он хотел поработать несколько часов и стал дожидаться, пока не поднимется и не обогреет солнце. Дожидаясь, он готовил краски…
На облюбованном месте под яблоней было сыро, прохладно. Вся земля вокруг дерева была усыпана мелкими белыми лепестками, – дождем обило весь цвет.
Константин Павлович посмотрел на пестрый коврик прилипших к холодной земле лепестков, на потерявшее нарядность дерево и понес начатый холст на солнце.
Вышла сестра и попеняла, что напрасно поднялся он, не вылежался, но Константин Павлович успокоил ее.
Начинать работать он не торопился – очень часто отступал на шаг, на два и вглядывался, придирчиво отмечал: вот тут надо не так, тут тоже иначе, а вообще все идет хорошо. О Таньке ему думалось уже не так легко, как ночью, но надежды были и решение поговорить с ней откровенно и напрямик созрело окончательно. Правда, девушка еще молода, но мало ли таких случаев! А с ней было бы хорошо, легко. Она проста и чистосердечна, все его радости будут и ее радости. Как он смог бы тогда работать! О, теперь ему от жизни нужно очень немного. Главное – покой, полнейшее душевное спокойствие для работы!
Занятый своими мыслями, Константин Павлович не замечал, что мимо калитки уже несколько раз туда и обратно прошла Танька. Сначала она разлетелась и чуть не вбежала во двор, но увидела худого, сосредоточенного художника и оробела. Константин Павлович наклонялся над холстом, отступал, держа на отлете кисть, и все что-то говорил сам себе, выразительно двигая крупными седыми бровями. В конце концов она походила, помучилась и решилась – вошла. Константин Павлович поднял голову, моргнул раз, другой и пришел в себя – узнал.
– Танюша…
– Здравствуйте, – независимо поздоровалась она, живо подойдя к картине, склонила голову набок, залюбовалась. – Тетка Дарья дома?
– Разумеется, – пробормотал он, неожиданно растерявшись. – Если хотите… Но минутку! – Он отбросил кисть и краски. – Я сейчас принесу вам стул. Мне хотелось бы поговорить…
– Что вы, я на минутку! – спешила убраться Танька. – Честное слово.
– Но я прошу вас, – неловко настаивал Константин Павлович и не находил себе места. Он попытался задержать ее руку, но тут же понял, что выглядит смешно, и смутился еще больше. Отнекиваясь, Танька отступала все ближе к крыльцу, чтобы скрыться в дом, но он взбежал вперед нее и, бормоча: «Я сейчас, сейчас…», неожиданно наткнулся на сестру. Дарья вот уже несколько минут наблюдала, как потерянно суетится брат.
– Господи, – сказала она ему в сенях, – да ты чего как молодой-то хлещешься?
Он стал столбом и уставился на сестру. В довершение ко всему через сени прошел крепенький Митюшка и самолюбиво усмехнулся, бросив художнику:
– Это точно, Константин Павлович. Столько двигаться в вашем возрасте вредно.
Потом он легко сбежал с крыльца, они о чем-то пошептались с Танькой, засмеялись и побежали вместе. Стукнула калитка.
Константин Павлович медленно спустился к одиноко стоявшей посреди двора картине. День набирал силу, солнце сушило воздух и деревья. От земли пахло теплой сыростью. Константин Павлович нервно заворочал шеей, словно мягкий теплый шарф и ворот куртки душили его, и усталыми глазами посмотрел на глубокое безмятежное небо. Дернул замок куртки, вздохнул и опустил руки, – почему-то именно сейчас заметил он, что у него сильно впалая грудь и дряблый живот.
Он не стал работать больше в этот день. Он вернулся в комнату, тесную, со старыми скрипучими половицами, с нехорошей гримасой разделся и лег. О чем-то спрашивала Дарья, но он только покачал головой и не открыл глаз. Она посмотрела на его опавшее костистое лицо и жалостливо вздохнула.
Константин Павлович заворочался и приподнялся только вечером. В небольшое окошко было видно далекое зеленеющее небо. Тихий вечер стоял над деревней. Приподняться Константина Павловича заставили голоса, – неподалеку, через два огорода, во дворе у фельдшерицы пили чай. Слышался хрипловатый голос Серьги, быстрый говорок Митюшки, женский смех и звяк чашек. Потом на минутку все затихло, и вдруг женские голоса зазвучали слаженно и сильно. В промытом холодеющем воздухе, когда над полями горит и никак не может догореть заря, когда особенно печальной кажется прелесть осенних перелесков, голоса женщин звучали необыкновенно протяжно и грустно:
Не разбужу я песней удалою
Роскошный сон красавицы моей.
Потом песня смолкла. Багровый отсвет зари загорелся в окошке. Константин Павлович снова услыхал разговоры и смех, отвернулся от окна и решительно натянул одеяло, словно человек, покончивший все счеты с жизнью.
Ночью он впал в забытье. Ему виделся инвалид таким, каким он стоял на картине. Но стоял он не у речки, затерянной в скучных полях, а возвышался над морем, огромным и ласково вздыхающим, и в мыслях художника только теперь обозначилась идея его будущей картины: человек, отстоявший для радости людей это вечно сверкающее море. Шумел прибой, волоча космы пены и шурша галькой, звенели голоса, и Константину Павловичу казалось, что он слышит запах морского загара, исходящий от всего этого скопления людей, так экономно расположившихся на картине у ног щурившегося от солнца инвалида. Где-то в углу картины входила в воду молоденькая с гибкими загорелыми бедрами купальщица, и Константину Павловичу хотелось плакать от великой нежности к ее широкому, почти детскому лифчику на нескольких пуговицах, к ее узким девичьим ступням. Он плакал, не стыдясь слез, и говорил утешавшей его Леночке (все-таки он вспомнил, как звали ее): «Не бойтесь, Леночка, это легкие слезы, – говорил Константин Павлович. – Стареющее сердце всегда ищет уверенности в будущем. Ах, Леночка, вы такая юная, чистая, свежая! И не нужно плакать, прошу вас, – отсталый умирает в одиночку». Дальше начиналась какая-то чепуха. Ему снова чудился запах морского загара – запах солнца, соли и теплого юного тела, он не находил себе места, метался и кричал, чувствуя от напряжения жар в висках. «Но хочу! – кричал он. – Не хочу… На поезд! На по-оезд…»
– Домой, видно, просится, – проговорила фельдшерица, глядя, как из тонкой иглы шприца ударил чуть видимый фонтанчик. – Ну-ка, подержи ему руку.
Сделав укол, она спросила:
– Дома-то у него есть кто?
Дарья только вытерла мокрые глаза.
– На поезд ему нельзя, – сказала фельдшерица. – Какой тут поезд! В район надо везти.
– Серьгу, что ли, просить? – спросила Дарья.
– На его кляче-то? Тут машину надо, да поскорее!
Через час порожняя полуторка, громыхая бортами, выбралась из разбитых деревенских улиц на пустынную ночную дорогу. Темь расступилась и сомкнулась снова, едва качающийся, как спросонья, свет скользнул по изгородям, избам, рассеялся в остуженных росой полях; но слышно было долго, как разгонялся и гудел вдали мотор, все торопливей убегая от деревни. Но вот затихла и машина на дороге, и тогда издалека-издалека долетел бессонный печальный переклик: близилось утро, петухи отпевали ночь.
1961 г.